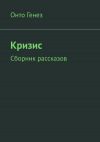Текст книги "Болезнь культуры (сборник)"
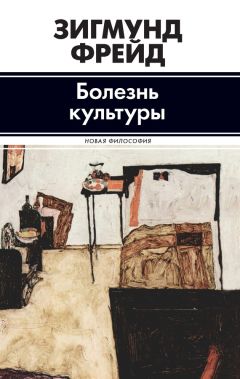
Автор книги: Зигмунд Фрейд
Жанр: Классики психологии, Книги по психологии
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 24 страниц)
ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА ИЗ «ПОЭЗИИ И ПРАВДЫ»
(1917)

«Вспоминая младенческие годы, мы нередко смешиваем слышанное от других с тем, что было воспринято нами непосредственно». Это замечание Гёте приводит в самом начале своей автобиографии, писать которую он начал в возрасте шестидесяти лет. Перед тем сообщается лишь о том, что «28 августа 1749 года, в полдень, как только пробило двенадцать часов», он появился на свет. Младенцу благоприятствовало положение звезд, благодаря чему он, наверное, и выжил, ибо родился «почти мертвым» и потребовались значительные усилия, чтобы он все же увидел свет. После этого следует описание дома и комнаты, в которой дети – Иоганн и его младшая сестра – охотно и с удовольствием проводили время. Затем Гёте рассказывает о том единственном событии, которое произошло с ним в очень раннем возрасте (до четырех лет) и сохранилось в его памяти.
Вот что сообщает Гёте об этом событии: «Меня очень полюбили жившие напротив три брата фон Оксенштейн, сыновья умершего городского старосты; они всячески забавлялись со мной и порой дразнили.
Мои родные охотно рассказывали о разных шалостях, к которым побуждали меня эти вообще-то солидные и замкнутые люди. Я приведу здесь одну из этих проделок. В городе как раз прошла горшечная ярмарка, и у нас не только запаслись для нужд кухни купленными на ней товарами, но также накупили всякой мелкой посуды и для наших детских игр. Как-то в послеобеденный час, когда в доме было тихо, я (на веранде, отделенной от улицы деревянной решеткой без стекол) возился со своими мисочками и горшочками, поскольку ничего путного у меня не выходило, я и бросил одну посудину на улицу и ужасно обрадовался, когда она так весело разбилась. Оксенштейны, видя, как это меня забавляет и как радостно я хлопаю в ладоши, крикнули: «А ну еще!» Я не замедлил швырнуть еще один горшочек и на продолжающиеся возгласы «еще!» постепенно выбросил на мостовую все мисочки, кастрюльки и кофейники. Мои соседи продолжали подзадоривать меня, и я очень радовался, что доставляю им такое удовольствие. Но вскоре мой запас истощился, а они все кричали: «Давай еще!» Я помчался на кухню и вернулся с глиняной тарелкой, которая, разумеется, разбилась еще веселее. Я бегал на кухню и обратно, принося тарелку за тарелкой с нижней полки; а так как соседям все было мало, я перетаскал и перебил всю посуду, до какой только мог дотянуться. Пока не пришел кто-то из взрослых и не унял меня. Впрочем, все, что можно было, уже мной перебито, и от горы глиняных черепков осталась по крайней мере веселая история, особенно забавлявшая до конца их дней ее коварных зачинщиков».
В эпоху, предшествовавшую появлению психоанализа, этот отрывок едва ли привлек бы чье-то внимание и стал поводом для размышлений; теперь нам не позволит этого сделать психоаналитическая совесть. На воспоминаниях раннего детства стали строиться определенные концепции, имеющие универсальную значимость. Отнюдь не безразлично и очень важно знать, какие именно подробности детской жизни избежали обычного в таких случаях забвения. Более того, надо предположить, что эти оставшиеся в памяти события были важнейшими в тот период жизни, и либо они были важны уже в то время, либо приобрели особую важность позднее, под влиянием каких-то новых переживаний.
Правда, ценность таких детских воспоминаний редко бывает очевидной. В большинстве случаев они представляются нам малозначительными и даже ничтожными, но тогда остается непонятным, в силу чего они смогли устоять под натиском амнезии. Мало того, сам человек, сохранивший такие воспоминания на долгие годы, ценит их не больше, чем посторонний человек, которому он о них рассказывает. Для того чтобы выявить значимость детских воспоминаний, требуется определенная работа по их истолкованию, которая помогает показать, как одно содержание вытесняет и заменяет другое, или показать его связь с другими, значимыми, но не раскрытыми переживаниям, для которых воспоминание послужило защитным воспоминанием.
В каждом случае психоаналитической обработки жизненных историй удается, таким образом, прояснить значение самых ранних детских воспоминаний. Как правило, нам открывается, что именно те воспоминания, о которых пациент рассказывает на сеансе в первую очередь, начиная свою исповедь, оказываются самыми важными и дающими ключ к сокровенным тайнам его психической жизни. Правда, в случае столь незначительного происшествия, о котором Гёте повествует в «Поэзии и правде», мы можем обмануться в своих ожиданиях. Естественно, в данном случае мы не можем использовать обычные методы истолкования воспоминаний наших пациентов; мы не можем также утверждать, что этот инцидент как-то связан с впечатлениями и переживаниями более позднего времени. Проделка с разбитой посудой в угоду подстрекателям не самый характерный эпизод из тех, о которых сообщает Гёте, описывая свою богатую событиями жизнь. Это детское воспоминание выглядит столь безобидным и безотносительным, что кажется совсем неподходящим для какого-либо психоаналитического толкования.
Взвесив все за и против, я надолго оставил всякую мысль об анализе этого мелкого происшествия. Но прошло время, и случай столкнул меня с одним пациентом, который поделился со мной похожим детским воспоминанием. Правда, в отличие от воспоминания Гёте у него оно имело неоспоримые связи с другими впечатлениями и событиями. Это был двадцатисемилетний, очень образованный и одаренный человек, вся жизнь которого была окрашена конфликтом с матерью, повлиявшим на все жизненные интересы больного и лишившим его способности к любви и самостоятельному существованию. Корни этого конфликта уходят в раннее детство и обнаруживаются примерно с четырехлетнего возраста. До того он был слабым и болезненным ребенком, но его первые годы кажутся ему истинным раем, ибо тогда он наслаждался безграничной и направленной только на него нежностью матери. Но когда больному не исполнилось еще четырех лет, родился его брат, живущий и здравствующий поныне. Появление брата стало помехой в отношениях с матерью, и больной немедленно на нее отреагировал: он сделался эгоистичным и непослушным мальчишкой, вынуждавшим мать становиться все строже к нему. Рождение брата раз и навсегда выбило жизнь этого больного из привычной колеи.
Когда он стал моим пациентом, – не в последнюю очередь потому, что его фанатично религиозная мать испытывала отвращение к психоанализу, – ревность к новорожденному брату, из-за которой больной едва не задушил его когда-то в колыбели, была давно забыта. Теперь больной с большим уважением относился к своему младшему брату, но досадные увечья, которые больной непроизвольно причинял своей охотничьей собаке то обожаемым птичкам, несомненно, были отзвуком той враждебности, какую он когда-то питал к своему маленькому брату.
Так вот, этот пациент рассказал мне, что приблизительно в то же самое время, когда он едва не убил брата, он выбросил из окна на улицу всю посуду, какую сумел найти в доме. То есть сделал именно то, что описал Гёте в «Поэзии и правде»! Надо заметить, что мой пациент был иностранцем, никогда не учившимся в Германии и не читавшим автобиографию Гёте.
Этот рассказ побудил меня к попытке истолковать детское воспоминание Гёте в том же смысле, в каком был истолкован детский поступок моего пациента. Но позволяют ли обстоятельства жизни поэта в детстве прийти к такому толкованию? Сам Гёте пишет, что к тому поступку его подтолкнули Оксенштейны. Правда, из рассказа Гёте следует, что великовозрастные соседи побудили его лишь продолжить проказу с посудой. Ребенок начал бить посуду спонтанно, по собственной инициативе, и вот мотивировка, о которой пишет сам Гёте: «…поскольку ничего путного у меня не выходило…». Ее можно, без всякой натяжки, истолковать как признание того, что истинный мотив поступка был неизвестен Гёте к моменту написания автобиографии.
Известно, что Иоганн Вольфганг и его сестра Корнелия оказались старшими из уцелевших в длинном ряду болезненных и жизнеспособных детей. Доктор Ганс Сакс любезно предоставил мне сведения о рано умерших братьях и сестрах Гёте.
Братья и сестры Гёте:
а) Герман Якоб, крещен в понедельник 27 ноября 1752 года, дожил до шести лет шести недель, похоронен 13 января 1759 года.
б) Катарина Элизабета, крещена в понедельник 9 сентября 1754 года; похоронена в четверг 22 декабря 1755 года (в возрасте одного года четырех месяцев).
в) Иоганна Мария, крещена во вторник 29 марта 1757 года, похоронена в субботу, 11 августа 1759 года (в возрасте двух лет и четырех месяцев). (Великий брат на века запечатлел образ этой красивой и милой девочки.)
г) Георг Адольф, крещен в воскресенье 15 июня 1760 года; похоронен в возрасте восьми месяцев в среду 18 февраля 1761 года.
Сестра Иоганна Вольфганга Корнелия Фридерика Кристиана родилась 7 декабря 1750 года, когда Гёте было один год и три месяца. Поскольку разница в возрасте совершенно незначительна, какую бы то ни было ревность в отношении сестры можно с уверенностью исключить. Известно, что дети в период пробуждения чувств никогда не испытывают таких сильных отрицательных эмоций к уже родившимся братьям и сестрам, какие они испытывают по отношению к вновь родившимся. Таким образом, сцена, над значением которой мы сейчас раздумываем, в силу младенческого возраста Гёте на тот момент никак не может быть связана с рождением Корнелии.
Когда на свет появился его младший брат Герман Якоб, Гёте было уже три года три месяца. Приблизительно через два года, когда Гёте было около пяти лет, родилась его вторая сестра. Оба эти события подходят по времени к описанному происшествию с битьем посуды. Правда, первое событие предпочтительнее, к тому же разницы в возрасте ближе к рассказу моего пациента, которому на момент рождения брата было три года и девять месяцев.
Герман Якоб, отношения которого с Гёте станут предметом нашего толкования, не был таким мимолетным гостем в детской дома Гёте, как дети, родившиеся после него. Можно только удивляться, что в автобиографии своего великого брата он не упомянут ни единым словом[138]138
Я пользуюсь здесь возможностью исправить прискорбную ошибку, допущенную мной в предыдущем издании. В одной из глав первой книги младший брат все же упомянут Гёте. Это упоминание связано с тягостными воспоминаниями о детских болезнях, от которых «немало страдал» и Герман Якоб: «Он отличался хрупким телосложением и был тихим, но своенравным мальчиком; мы никогда с ним особенно не дружили. Впрочем, он умер ребенком» [добавление 1924 года].
[Закрыть]. К моменту смерти Герману Якобу было больше шести лет, а Иоганну Вольфгангу уже почти десять. Доктор Эд. Хичман любезно предоставил в мое распоряжение свои заметки по этой теме, в которых он пишет:
«Маленький Гёте не слишком переживал по поводу смерти братишки. По крайней мере по словам Беттины Брентано: «Его мать очень удивляло, что, когда умер Якоб, его старший брат и товарищ по играм, Иоганн не пролил ни слезинки. Казалось, его даже раздражала печаль родителей и остальных братьев и сестер. Когда мать попеняла ему на бесчувственность, Иоганн отвел ее в свою комнату и извлек из-под кровати кипу исписанных листов бумаги с уроками и разными историями. Матери Иоганн сказал, что все это он делал для того, чтобы учить младшего брата. Таким образом старший брат пытался по отношению к младшему играть роль отца, демонстрируя ему собственное превосходство».
Отсюда мы вправе заключить, что швыряние посуды было символическим, или, правильнее сказать, магическим действием, с помощью которого ребенок (как Гёте, так и мой пациент) выражал свое желание избавиться от незваного гостя. Мы не станем оспаривать удовольствие, получаемое ребенком от вида и звона разбиваемой посуды. Если какое-то действие само по себе доставляет удовольствие, то это не препятствие, а скорее дополнительный соблазн поставить это действие на службу другим целям и намерениям. Мы не поверим в то, что удовольствие от громкого битья посуды могло занять такое прочное место в памяти взрослого человека. Мало того, мы усложним мотивировку этого поступка следующим соображением. Ребенок, разбивающий посуду, прекрасно осознает, что делает что-то плохое, что взрослые будут его за это ругать, и если это не останавливает ребенка, значит, он пытается так выразить свой гнев на родителей, показать себя плохим.
Ребенок получил бы удовольствие от битья хрупкой посуды, если бы просто бросал ее на пол. Нам остается объяснить потребность выбрасывать посуду наружу, на улицу. Это «выбрасывание» является существенно важной частью магического действия, вызванного какой-то скрытой причиной или замыслом. Новый ребенок должен быть устранен, выброшен за окно – вероятно, потому, что он снаружи явился. В таком случае данный поступок является аналогом известной словесной реакции ребенка на то, что аист принес ему маленькую сестричку: «Пусть он заберет ее обратно!»
Не станем скрывать, насколько рискованным, – не говоря уже о внутренних сомнениях, – является толкование детского поступка на основе всего лишь аналогии. Именно по этой причине я много лет воздерживался от того, чтобы публично высказывать свое мнение об этом эпизоде из «Поэзии и правды». Но однажды я получил больного, психоаналитическое исследование которого началось с буквально зафиксированной фразы: «Я – самый старший из восьми или девяти братьев и сестер[139]139
Это весьма многозначительная оговорка. Невозможно теперь отрицать, что она вызвана намерениями устранить брата. (См.: Ференци, Формирование преходящих симптомов во время сеансов психоанализа.)
[Закрыть]. Одно из моих первых воспоминаний связано с тем, как отец, сидя в пижаме на кровати, говорит мне со смехом, что у меня появился брат. Мне было тогда три года и девять месяцев; такова разница в возрасте между мной и моим младшим братом. Помню, что вскоре после этого (или это было за год до этого?[140]140
Этот существенный пункт, говорящий о грызущем сомнении, был скоро отвергнут самим больным.
[Закрыть]) я выбросил щетки – или это была только одна щетка? – ботинки и еще что-то из окна на улицу. Когда мне было два года, мне пришлось как-то переночевать в одной комнате с родителями. Это было в гостинице в Линце, по пути в Зальцкаммергут. Я был так беспокоен и так кричал, что отцу пришлось меня ударить».
Этот рассказ рассеял мои сомнения. Если при психоаналитическом исследовании больной рассказывает о двух вещах, что называется, на одном дыхании, то мы должны понять взаимосвязь, лежащую за этим сближением. Пациент как бы говорит нам: из-за того, что я узнал о появлении брата, я через какое-то время выбросил из окна некоторые вещи. Выбрасывание щеток, ботинок и т. п. надо считать реакцией на рождение брата. Не важно, что выброшенными вещами на этот раз стала не посуда, а другие вещи – вероятно, те, которые оказались в тот момент под рукой у ребенка. Стремление что-то выбросить (через окно на улицу) и есть здесь мотив поступка, веселье от звона разбиваемой посуды или от вида выбрасываемых вещей, над которыми производится экзекуция, является обстоятельством второстепенным.
Разумеется, с этим должно быть как-то связано и третье детское воспоминание пациента, которое, хоть и является самым ранним, упомянуто было лишь в конце приведенного высказывания. Обнаружить эту связь не так трудно. Мы понимаем, что двухлетний ребенок так сильно беспокоился, потому что не желал видеть отца с матерью лежащими в одной постели. Во время путешествия, видимо, было невозможно поступить по-другому, и ребенку пришлось стать свидетелем родительской близости. Из чувств, испытанных тогда маленьким ревнивцем, развилось озлобление по отношению к женской любви, что привело к хроническому расстройству всей его эротической жизни.
Когда я представил это наблюдение на суд коллег-психоаналитиков и выяснилось, что такие случаи отнюдь не редкость у маленьких детей, госпожа доктор фон Хуг-Хельмут предоставила в мое распоряжение еще два случая, которые я здесь привожу.
I
В возрасте примерно трех с половиной лет у маленького Эриха «неожиданно» появилась привычка выбрасывать в окно все, что ему не нравилось. Правда, выбрасывал он не только это, но и многие вещи, которые ничем ему не мешали и не могли представлять для него интереса. В день рождения отца, когда Эриху было три года и четыре с половиной месяца, он выбросил из окна третьего этажа на улицу тяжеленные тестопрокаточные валки, которые специально для этого с трудом приволок с кухни. Через несколько дней за ними последовали пестик и горные ботинки отца, которые для этого надо было еще сначала достать из выдвижного ящика[141]141
Он всегда выбирал тяжелые предметы.
[Закрыть].
Как раз в то время у матери Эриха случился выкидыш на седьмом или восьмом месяце беременности, после чего мальчика словно подменили – он стал послушным и ласковым. Между тем на пятом и шестом месяце он не раз говорил матери: «Мамочка, я прыгну тебе на животик», или: «Мамочка, я тебе раздавлю животик». Незадолго до преждевременных родов он сказал так: «Если уж я должен получить братика, то пусть мне сначала что-нибудь подарят на Рождество».
II
Молодая женщина девятнадцати лет без всякого принуждения рассказала о таком детском воспоминании:
«Вспоминаю себя страшно капризной и куда-то ползущей на четвереньках. Потом сидящей под столом в столовой. На столе стоит моя кофейная чашка – я до сих пор отчетливо вижу рисунок на фарфоре, – и мне так хочется выбросить ее в окно, когда в комнату входит моя бабушка.
Никому не было до меня дела, а на остывшем кофе образовалась пенка, которая всегда вызывала у меня отвращение, как и сейчас, впрочем.
Накануне того дня у меня появился младший брат, – у нас разница в два с половиной года, – и поэтому на меня никто не обращал внимания – всем было не до того.
Рассказывают, что я в тот день стала совершенно несносной: за обедом сбросила со стола любимый папин стакан, несколько раз испачкала свои платьица и пребывала в отвратительном настроении до самого вечера. Я даже в гневе разорвала свою любимую резиновую куклу, с которой всегда купалась в ванне».
Оба эти случая едва ли нуждаются в комментариях. Без всякого анализа они подтверждают, что ожидаемый или свершившийся приход конкурента вызывает у маленьких детей ожесточение, проявляющееся в выбрасывании предметов в окно, как и в стремлении к разрушению вообще. В первом наблюдении «тяжелым предметам» соответствует мать, против которой направлен гнев ребенка, пока на свет не появился его конкурент. Ребенок трех с половиной лет знает о беременности матери и нисколько не сомневается, что тот прячется именно в ее животе. Здесь уместно вспомнить «маленького Ганса»[142]142
См.: З. Фрейд, Анализ фобии пятилетнего мальчика.
[Закрыть] и его безотчетный страх перед тяжело груженными телегами[143]143
Лишнее подтверждение этой символики беременности я недавно получил от одной дамы пятидесяти с небольшим лет. Ей много раз рассказывали, что, будучи маленькой и едва умевшей говорить девочкой, она изо всех сил тащила к окну отца всякий раз, когда под окнами проезжала груженная мебелью телега. Судя по описанию жилища, ей было тогда два года и девять месяцев. Как раз в это время родился ее младший брат, и семья переехала на новую квартиру. В тот же период она при засыпании часто пугалась чего-то непомерно огромного, которое наваливалось на нее, отчего ее руки «становились такими непослушными и толстыми».
[Закрыть]. Во втором наблюдении удивление вызывает ранний возраст ребенка – два с половиной года.
Если мы теперь вернемся к детским воспоминаниям Гёте и применим к разобранному нами месту из «Поэзии и правды» то, что мы узнали из наблюдения других детей, то сможем выявить здесь взаимосвязь, которая в противном случае так и осталась бы для нас скрытой. Сам Гёте мог бы определить ее так: «У меня было счастливое детство; судьба сохранила мне жизнь, хотя я появился на свет почти мертвым. При этом судьба не пощадила моего брата, и потому мне не пришлось делить с ним любовь матери». Мысль его движется дальше, к рано умершей бабушке, обитавшей в соседней с ним комнате, как тихий дружелюбный дух.
В другом месте мне уже приходилось говорить: если ребенок является бесспорным любимцем матери, то он на всю жизнь сохраняет то чувство победителя, ту уверенность в успехе, которые и в самом деле нередко приносят ему в жизни успех. И замечание, каким Гёте имел бы полное право начать свое жизнеописание, могло бы звучать так: моя сила коренится в моей тесной связи с матерью.

СКОРБЬ И МЕЛАНХОЛИЯ
(1916–1917)

После того как сновидение послужило нам нормальным аналогом нарциссических душевных расстройств, мы хотели бы предпринять попытку прояснить сущность меланхолии ее сравнением с нормальным аффектом – скорбью. Правда, этому рассуждению следует предпослать оговорку, которая должна предостеречь от переоценки результата. Меланхолия, понятийное определение которой довольно шатко в описательной психиатрии, выступает в самых разнообразных клинических формах; их сведение в непротиворечивое единство не имеет надежного объяснения, а некоторые из них напоминают скорее соматические, чем психогенные расстройства. Помимо проявлений, известных любому наблюдателю, наш материал ограничивается небольшим числом случаев, психогенная природа которых не вызывает сомнений. Итак, мы отказываемся от притязаний на универсальность наших результатов и утешаем себя надеждой, что с помощью современных методов исследования сможем найти что-то не совсем типичное если не для всех случаев заболевания, то хотя бы для небольшой их группы.
Сравнение меланхолии и скорби представляется оправданным, учитывая общие черты их проявлений[144]144
Абрахам, которому мы обязаны самыми значительными из немногих психоаналитических исследований этого предмета, тоже исходил из такого сравнения (Zentralblatt fur Psychoanalyse, II, 6, 1912).
[Закрыть]. Причины того и другого состояния, обусловленные внешними влияниями, совпадают там, где эти причины вообще удается вскрыть. Скорбь – это обычная реакция на потерю любимого человека или замещающей его абстракции – родины, свободы, идеала и т. д. При определенных условиях у некоторых людей, у которых мы вправе заподозрить болезненную предрасположенность, вместо скорби развивается меланхолия. Примечательно, что нам никогда не приходит в голову считать скорбь болезнью и обращаться по ее поводу к врачу, несмотря на то что она может сильно нарушить привычный ход жизни. Мы верим, что по прошествии известного времени скорбь сама пройдет, и мало того, считаем ее насильственное устранение бесцельным и даже вредным.
В психологическом плане меланхолия проявляется тяжелым ухудшением настроения, исчезновением интереса к окружающему миру, утратой способности к любви, бездеятельностью и снижением самооценки, что приводит к самообвинениям, доходящим иногда до бредового ожидания наказания. Общая картина станет нам более понятной, если мы примем в расчет, что и скорбь обладает теми же свойствами, за исключением только одного – скорбь не вызывает снижения самооценки. В остальном она ничем не отличается от меланхолии. Скорбь, переживание горя как реакция на потерю любимого человека проявляется резким ухудшением настроения, потерей интереса к окружающему миру – во всем, что не касается умершего, – утратой способности найти новый объект любви, отказом от любой деятельности, не связанной с воспоминаниями об умершем. Легко понять, что такая заторможенность и ограниченность является выражением исключительно глубокой погруженности в печаль, в то время как все остальные намерения и интересы просто перестают существовать. Собственно, это состояние не кажется нам патологическим только потому, что мы хорошо знаем, чем его объяснить.
Нам представляется вполне адекватным сравнение глубокой печали с «болезненным» расположением духа. Оправданность такого сравнения, вероятно, станет нам очевиднее, если мы сумеем рационально охарактеризовать боль.
В чем состоит назначение скорби? Мне кажется, что не будет ничего надуманного в следующем определении: действительность подсказывает нам, что любимого человека больше нет с нами, и возникает необходимость освободиться от либидо, направленного на умершего. Но у человека, напротив, появляется вполне объяснимое внутреннее сопротивление, – мы практически всегда наблюдаем, что либидо очень неохотно меняет свою направленность, – и оно возрастает, если впереди маячит замена объекта. Это сопротивление может стать таким интенсивным, что уход от реальности и фиксация на несуществующем более объекте переходят в галлюцинаторный психоз. В норме, однако, признание реальности одерживает верх. Но происходит это изменение отнюдь не сразу. Оно требует от индивида больших затрат времени и значительного перераспределения энергии, причем все это развертывается на фоне продолжающегося психологически существования предмета любви. Каждая деталь воспоминаний и ожиданий, с которыми связано направленное на утраченный объект либидо, твердо устанавливается и преувеличивается, продолжая удовлетворять направленное на него либидо. Опираясь на рациональные объяснения, нелегко понять, почему достижение этого компромисса в ходе уклонения от требований реальности является таким болезненным. Примечательно, что эта тягостная боль воспринимается нами как нечто само собой разумеющееся. В действительности, однако, по завершении труда скорби эго освобождается и избавляется от всех прежних ограничений.
Попробуем теперь приложить к меланхолии то, что мы узнали о скорби. В ряде случаев нам становится очевидным, что меланхолия также является реакцией на утрату любимого объекта; в других случаях поводом для меланхолии может служить утрата объекта более абстрактной, идеальной природы. Объект при этом может и не умереть, а был утрачен как предмет любви (например, в случае покинутой невесты). В некоторых случаях можно установить сам факт потери, но невозможно понять, что именно было утрачено, и следует с большой долей вероятности предположить, что и сам больной не всегда знает, что он потерял. Сюда же можно отнести те случаи, когда больному известна утрата, вызвавшая меланхолию, но, хотя он знает, кого он потерял, он не понимает, что именно он потерял при этом. Таким образом, мы можем с полным основанием думать, что меланхолия каким-то образом связана с неосознанной потерей объекта, что отличает меланхолию от скорби, когда о характере потери все известно.
В случае скорби заторможенность и утрата интереса к миру полностью объясняется поглощающим все силы эго трудом скорби. Подобный внутренний труд является следствием неизвестной больному потери и при меланхолии, и именно он становится причиной меланхолической заторможенности. Эта его заторможенность производит столь загадочное впечатление только потому, что мы не можем понять, чем поглощен больной. Меланхолик демонстрирует нам лишь один симптом, который отсутствует у переживающего горе человека: снижение самооценки и оскудение содержания эго. Для скорбящего пустым и бессмысленным становится окружающий мир, для меланхолика таким становится его собственное «я». Больной воспринимает его как ничего не стоящее, ни на что не годное и морально ущербное, – он упрекает себя, ругает и желает изоляции и наказания. Он унижает себя перед кем угодно, жалеет родных и близких за то, что им приходится иметь с ним дело. Больной не понимает перемены, которая с ним произошла, и свою самокритику распространяет также на свое прошлое, утверждая, что он всегда был таким. Картина такого – преимущественно нравственного – тихого помешательства характеризуется бессонницей, отказом от еды и психологически очень примечательным отказом от удовлетворения естественных влечений, заставляющих все живое держаться за жизнь.
С научной, да и с терапевтической точки зрения было бы бесполезно возражать больному, убеждая его в необоснованности самообвинений. Вероятно, больной в чем-то прав и описывает нечто, ведущее себя именно так, как ему кажется. Мы, во всяком случае, должны немедленно согласиться с ним и поверить тому, что он нам сообщает. Больной, как он и говорит, действительно потерял всякий интерес к жизни, способность любить и потребность что-то делать. Как мы знаем, все это не причины, а следствие неведомой нам внутренней работы, сравнимой с трудом скорби и пожирающей изнутри «я» больного. Больной прав и во многих своих самообвинениях, просто он осознает свое истинное положение с большей остротой, нежели люди, не страдающие меланхолией. Если больной клеймит себя как ничтожного, эгоистичного, нечестного, несамостоятельного человека, который всю жизнь только и делал, что изо всех сил скрывал свои недостатки, то, насколько мы понимаем, он просто достаточно хорошо познал самого себя, и мы лишь спрашиваем себя, почему этому человеку надо было заболеть, чтобы осознать столь простую истину. Ведь не вызывает сомнений, что всякий, кто сумел адекватно себя оценить и поделиться этой оценкой с другими, – как поступал принц Гамлет[145]145
Use every man after his desert, and who should ’scape whipping? «Hamlet», II, 2. («Если с каждым обходиться по заслугам, кто уйдет от порки?» – в переводе Б. Пастернака.)
[Закрыть] – тот болен, и даже не важно, говорит он правду или преувеличивает свои недостатки. Нетрудно также заметить, что, как мы убедились, между степенью самоуничижения и ее реальной причиной нет прямого соответствия. Бывшая прежде храброй, прилежной и верной долгу женщина, пораженная меланхолией, будет отзываться о себе не лучше, чем женщина, и на самом деле никуда не годная. Причем первая женщина имеет больше шансов заболеть меланхолией, чем вторая, о которой и мы не могли бы сказать ничего хорошего. И наконец, невозможно не заметить, что меланхолик не воспринимает себя так же, как здоровый, но мучимый раскаянием и чувством вины человек. У меланхолика отсутствует или едва заметен стыд перед другими людьми, столь характерный для кающегося грешника. У меланхолика, наоборот, можно отметить противоположную склонность – стремление к саморазоблачению, словно он находит в этом какое-то удовлетворение.
Таким образом, не имеет значения, прав ли меланхолик в своем болезненном самоуничижении и насколько его критика совпадает с суждениями других людей. Скорее надо говорить о том, что он верно описывает свою психологическую ситуацию. Он утратил самоуважение, и, должно быть, у него есть на это веские основания. Во всяком случае, мы сталкиваемся с противоречием, которое задает нам трудноразрешимую загадку. По аналогии со скорбью придется заключить, что меланхолик остро переживает потерю некоего объекта; и, судя по его высказываниям, речь идет о потере им собственного «я».
Прежде чем мы займемся этим противоречием, давайте ненадолго задержимся на одном феномене, который продемонстрирует нам обусловленное меланхолией изменение конституции человеческого эго. Мы видим, что у меланхолика одна часть эго противопоставлена другой части, критически оценивает ее и воспринимает в качестве объекта. Наше подозрение о том, что отделившаяся от эго критикующая инстанция способна доказать свою самостоятельность и при других условиях, подтверждают все дальнейшие наблюдения. У нас есть основания отличать эту инстанцию от остального эго. Эта часть эго называется обычно совестью. Будем считать совесть, с ее цензурой сознания и оценкой реальности, одной из главных институций эго и попробуем обнаружить, способна ли она заболеть. В клинической картине меланхолии нравственное отвращение к собственному эго затмевает все остальные проявления; телесное недомогание, гнусное настроение, социальное унижение куда меньшую роль играют в самооценке, – в опасениях и суждениях больного ведущее место занимает оскудение эго.
Объяснению обнаруженного нами противоречия может служить одно достаточно простое наблюдение. Терпеливо выслушивая многочисленные и разнообразные самообвинения меланхолика, не можешь в конечном счете отделаться от впечатления, что самые сильные из этих обвинений относятся не к больному, а к человеку, которого он любит, любил или должен любить. Чем глубже вникаешь в обстоятельства заболевания, тем больше убеждаешься в правомочности такого предположения. Мы получим в руки ключ к картине болезни, если распознаем в таких самообвинениях обвинения, адресованные объекту любви меланхолика, – обвинения, которые, сместившись, оказались направленными против собственного эго.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.