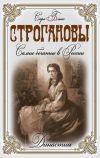Текст книги "Золотой скарабей"

Автор книги: Адель Алексеева
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц)
Кибитка – место для бесед
В кибитке сидел Иван Иванович Хемницер, то ли немец, то ли еврей. Но на самом деле он был баснописец, друг Львова и человек необычайной скромности, даже застенчивости. Он не меньше самого Львова был влюблен в Машеньку, но никак этого не показывал. Зато в баснях мог что-то выразить.
Строгановский обоз выезжал из Петербурга.
А тем временем Михаил с Хемницером уже покинули Москву, направляясь в южные края. Они сидели в карете и не отводили глаз от дороги, любуясь синевой холодного неба, всполохами закатов и разноцветьем зелени.
Лошади несли их туда, где несколько лет назад шло единоборство русских и турок. В 1774 году был подписан Кючук-Кайнарджийский мир, по которому Турция признавала частичную независимость Крыма, присоединение Молдавии и Валахии к России.
Осень выдалась безветренная, туманная, деревья стояли в глубокой задумчивости. Клены торжественно роняли светящиеся, ярко-желтые листья. Еще зеленели липы. Мелкие, с копейку, листья берез золотыми россыпями лежали на земле.
Помните Семилетнюю войну, «сыном» которой стал наш Михаил? Немцы долго не могли перенести того, что их великий Фридрих впустил в Берлин русских солдат, и считали себя побежденными. Более того: победители сумели расположить к себе немцев, и даже знаменитый философ Иммануил Кант покорен был отзывчивостью русских офицеров – они помогли ему издать его философские труды. Турецкий султан Мустафа III тоже, кажется, просчитался, начав войну с русскими.
Хемницер рассказывал спутнику о генерале-фельдмаршале Румянцеве, как хотел тот поднести к стопам императрицы знамя хана Гирея, но солдаты разорвали его на «памятные» куски. Как Румянцев удивлялся турецким обычаям: вместо того чтобы проникать в замысел неприятеля, турки гадали на счастливые и несчастные дни, которые определяли астрологи, и верили, что в определенные дни русские пушки стреляют в цель сами собой. От Державина Хемницер услышал и такой рассказ о Румянцеве: зайдя в шатер одного майора, застал его в халате и колпаке, но не стал отчитывать, а повел сперва к лагерю, беседуя о пустяках, а потом в свой шатер к генералам, одетым по всей форме, и угощал там чаем – это в халате-то! «Тихий старичок» Румянцев преподнес урок офицеру…
Путешественники ехали долго, чуть не месяц, беседуя об истории мест, мимо которых несли их кони, или молчали, любуясь красотой окружающих лесов и прозрачных далей.
Хемницер был растроган тем, что Мишель вызвался сопровождать его, и не мог побороть грусть от разлуки с петербургскими друзьями, с Машенькой. Вместе с тем, как человек образованный, к тому же моралист своего века, он считал непременнейшим долгом просвещать в пути молодого человека и говорил с ним по-французски.
Временами обращался к европейским странам – Голландии, Франции, Германии, и – как не прочитать любимые вирши Державина, Львова, свои собственные? И – о-о! – как громогласно тогда звучал его голос! – благо никто, кроме птиц пролетающих да ямщика, его не слышал:
Кто правду говорит – злодеев наживает
И, за порок браня, сам браненым бывает.
Кто, говорят, ему такое право дал,
Чтоб он сатирою своею нас марал?..
…Когда кто в плутнях обличится,
За кои самый кнут грозит,
С подьячим должно подружиться:
Он плутни в честность превратит.
Он по указам обвиняет
И по указам оправдает:
Что криво – назовет прямым,
Что прямо – назовет кривым.
Иван Иванович читал Лафонтена по-французски, Геллерта по-немецки, чтил Сумарокова, однако сам никому не подражал. Писал лишь о том, чего просила душа. В басне «Орел и пчела» похвалил пчелу, собирающую нектар, – как молча трудится она, не жаждет шума. От имени пчелы в стихах мог сказать о себе то, чего никогда не выразит вслух:
…ты думаешь, что я без дела все бываю?..
Ты в улей загляни: спор тотчас наш решится,
Узнаешь, кто из нас поболее трудится.
Да, скромный пиит был подобен трудолюбивой пчеле.
Хемницер, конечно, не был бы сам собой, если бы не увлекал спутника разговорами об искусстве, о живописи. Как не обратиться в долгой дороге к великим именам Леонардо, Рафаэля, как не выказать гордости за то, что познакомился в Париже с Грёзом, с его ученицей Элизабет Виже-Лебрен. Картине Грёза «Два семейства», можно сказать, даже посвятил стихотворение:
Семейством счастливым представлен муж с женой,
Плывущие с детьми на лодочке одной
Такой рекой,
Где камней и мелей премножество встречают,
Которы трудности сей жизни представляют.
Строки таили мечту старого холостяка о счастливой семье. Идеал умеренности, терпения, добродетели, идеал красоты – это необходимо художнику, и он убеждал Мишеля:
– Нужней всего, чтобы прежде, нежели писать о чем-нибудь начнешь, расположение должно быть сделано хорошее. Расположение в сочинении подобно первому начертанию живописной картины: если первое начертание лица дурно, то сколько бы живописец после хороших черт ни положил, лицо все будет не то… А еще полезно для обдумывания самого себя вести дневник, зарисовывать, записывать…
Длинная дорога, восходы и закаты, медленные беседы со спутниками – все это так расположило Михаила, вообще-то скрытного, немногословного, что он признался в романе с квартирной хозяйкой…
Несмотря на непрактичность и рассеянность, Хемницер проявил живую заинтересованность:
– Правда сие?.. Помню на портрете лицо ее – такая плутовка! Да и душенька ее пуста – ох, не доверяйся, Миша; небось удержать тебя хочет, привязать к себе. Больно уж она многоопытна.
Доверчивость мужчин и изворотливость женщин – новый повод для нравственных рассуждений поэта. Доверчивость – добродетель или глупость? Лучше никому не верить или, обманываясь, все же доверять?
– Друг мой, я расскажу тебе свою парижскую историю. Познакомился я с графиней Фоссель. Хороша собой, воспитанна, а главное – читала наизусть «Освобожденный Иерусалим» Торквато Тассо. Наизусть! Где встретишь еще такую умную женщину?.. И была несчастна! Муж ее бросил, обманул, по ее словам, оставил большое состояние, а сам исчез – якобы его направили в Индию, но через неделю она увидела его проезжающим в экипаже по парижской улице с новой дамой… Боже мой, как она мне об этом говорила! Слезы так и лились из ее глаз, она заламывала руки, клялась, что я единственный ее спаситель, что полюбила меня за поклонение французским философам, Руссо, за мои стихи!.. Мы встречались в Люксембургском саду, я катал ее в экипаже, вместе отправились к Руссо, я дарил ей все, что у меня было… Ах, Мишель! Бездонно женское коварство! Все деньги из моего кошелька переместились в ее сумочку… Я продал даже серебряные пряжки со своих туфель… Она же оказалась истинной авантюристкой! Учти мой опыт, дорогой! Не такова ли Эмма?
И он не преминул прочесть стихотворение, в котором один «детина», по уши влюбившись в красавицу, подружился с бесом, умоляя «подарить» ему ту красавицу. Бес внял его мольбе, однако через короткое время семейная жизнь стала столь несносной, что «детина» запросил беса избавить его от жены.
…Дорога между тем обрела приметы южных мест: на смену соснам и елям пришли яблони, вишни с чуть облетевшей листвой, запахло дымками, показались и местные жители – татары, цыгане, евреи, армяне. Последний постоялый двор, где они ночевали, напоминал Вавилон; комнату слабо освещала одна-единственная коптилка. Зато впереди был Херсонес!
Утром Хемницеру нездоровилось, и Михаил, рано проснувшись, один отправился взглянуть на окрестности. Утро было чистое, светлое – южная степь неохватно расстилалась вокруг. Очарованный высотой знойного неба, стройными кипарисами (он видел их впервые), Михаил не шел, а подпрыгивал, отдаваясь первобытной радости. Хотелось кричать, несуразно, дико, он подбирал камешки и бросал их вверх. В этих взгорках, в этом жарком утре чудилось что-то очень знакомое…
С кем не бывало такого странного «узнавания»? Попадаете в незнакомое место, и пронзает острое чувство: вы уже были тут, знаете его, но где и когда – не вспомнить.
Вдруг среди чистого поля, в чистом небе откуда-то взялась огромная стая птиц. Тучей закружились они над его головой, затем замерли, черный птичий шар повис в воздухе. А через минуту-две так же внезапно, как и возник, рассыпался. И снова – голубизна и бездонность неба. Но на дороге появился человек в странной одежде – в белом балахоне и черной шапочке; он приблизился, поднял руку. Покоряясь его воле, Мишель протянул свою. Встречный заговорил негромким голосом:
– Остерегайся, человек! Участь твоя может быть печальна. У тебя нет ни отца, ни матери, а родина твоя далеко отсюда. Я вижу твое прошлое и будущее – ты будешь всегда одинок. Более всего жаждешь ты дома, но у тебя его нет и не будет. Человека, с которым ты расстался, ждет беда… Далеко идет твой путь, многое откроется тебе, но самое трудное – открыть себя. Будешь ты люб женщинам, а они – как деревья в лесу. Дерево же руби по себе. А ум держи в напряжении.
Михаил стоял как неживой, мысли замерли, сердце словно остановилось. Наконец, придя в себя, надумал что-то спросить; оглянулся – но ни на дороге, ни близ ее человека уже не было. Только ровная степь, окутанная легким туманом…
Путь-дорога через леса и степи
В те времена одна дорога в Европу вела северными землями, через Ригу, Данциг, Штоле, а другая – по крайним, украинским землям, через Австро-Венгерскую империю. По ней-то и ехали Строгановы. Обоз растянулся чуть ли не на версту: кареты, колымаги, верховые, стражники.
Хоть и тряская дорога, но Андрей наконец изучил лощеную бумагу, врученную графом, и понял: с ней для него заграница безопасна. В пути он старался повторять то немецкие фразы, то учил итальянские слова. А еще жадными глазами всматривался в окрестности. На южных полях уже что-то сеяли, у земли копошились мужики и бабы. При виде барского обоза они снимали шапки, кланялись. Павлуша махал рукой, выглядывал из кареты, глубоко вдыхая весенний воздух. Хорошо! Свежий ветер, пахучая земля, первая зелень, а впереди – Киев, Вена!
Кузина Лиза сидела в карете, обитой кожей, и… вязала, да, она постоянно что-то вязала – благо в русских каретах имелись небольшие фонари, заправленные маслом.
Позади карета того, кто старше кузенов и кузин, – Андрея. Ему двадцать пять лет, и кое-кто даже называет его Андреем Никифоровичем. Нос и губы у него – точь-в-точь как у графа, зато взгляд – острый, въедливый, а волосы – как у цыгана. С детства его было не оттащить от карандашей, и в дороге он не расставался с рисовальными принадлежностями. Однако никто бы не догадался, что за профиль чаще всего выводит его карандаш. Уж не Василисы ли?..
Обоз приближался к Киеву.
В дальнем пути нужны остановки, и предусмотрительный Строганов снабдил путников несколькими рекомендательными письмами к тамошним помещикам, старым знакомцам. Под Киевом было имение Давыдова, туда-то и направились молодые Строгановы.
Зимой Давыдовы живали в Северной столице, а весной, посуху, отправлялись в усадьбу. Путники миновали каменные ворота, липовую аллею – и перед ними предстал дом в два этажа, из толстых бревен, верх деревянный, низ каменный. Поселились они в нижнем этаже. Там было прохладно. На диванах, покрытых кожей, тоже не согреться. Двойных рам нет, а занавески легкие, кисейные, так что от окон сильно дуло. Сообразительный Андрей сразу взялся за дело: заклеил окна промасленной бумагой, снаружи прибил дощечки.
– Весна ныне холодная. У нас это самое неважнецкое время, – оправдывалась осанистого вида хозяйка. На руках ее была маленькая девочка с большими шустрыми глазами, которые она не отводила от гостей.
– Как зовут шалунью? – спросил Григорий. – Аглая? Ишь какая! Вырастет – станет отменной красавицей.
Несколько дней они жили в Каменке. Уже зацветали яблони, вишни, жужжали пчелы. Молодые бегали взапуски по усадьбе, качались на качелях, музицировали. Подолгу выслушивали главу дома Александра Львовича – как не порадеть столичному гостеванию?
Потчевали неуемно! С утра до вечера стол заполнялся всяческой снедью. Украинский борщ, галушки, пирожки и булочки, томленая утка с клюквой, жаренья, соленья – грибы, капуста, яблочки… И что это были за яблочки! Современному человеку, покупающему «пластмассовые» фрукты без единой червоточинки, трудно представить те яблоки.
Впрочем, если кого-то интересует малороссийское застолье тех времен, то – откройте Николая Васильевича Гоголя, рожденного под Полтавой, а мы прислушаемся, о чем балакают столичные гости с разговорчивым хозяином…
– Кто ко мне постучится, – говорил он, – от всякого мне радость. Принять путника, соседа, случайного человека, принять радушно – мой долг. Приехал в этакую даль – значит, оказал честь… А с графом Александром Сергеевичем игрывали, бывало, мы и в картишки, и в биллиард… Как-то в Зимнем целую ночь играли…
Братья переглядывались: барин был забавен, словоохотлив, даже болтлив.
– А ежели какой гость посмеется над моим радушием, – хозяин словно догадывался об их мыслях, – так ему одно имя – свинья. У меня, правда, таких гостей никогда не бывало… Ох, какие же проказники были братья Орловы! И не передать! Раз был я в карауле возле Зимнего дворца… И что вы думаете? Вижу всех троих Орловых, и все… пьянехоньки! Без чувств. Один даже разлегся возле пруда, вот-вот свалится в воду. Велел я его поправить… А утром государыня спрашивает: «Каково попировали Орловы у Апраксина?» Я возьми да и скажи: уж так попировали, что чуть в воду не кувыркнулись… Потом отцу про то рассказал. Он рассердился: «Экой ты болтун, разве можно про такое государыне сказывать?» В котором то году было – определительно сказать не могу, только с той поры язык свой держу за зубами… Думаю, что было сие еще до Пугача.
– А расскажите про Емельку Пугачева, – попросил Павлуша.
– Ой, не к ночи будь помянут супостат! Тьфу ему! – вскинулась супруга. А хозяин без спешки вынул табакерку, сунул в нос табачку, несколько раз чихнул и принялся вспоминать казнь Пугачева.
– Привезли его в Москву. Мороз стоял страшенный! Посадили на Монетном дворе. Вся Москва в страхе жила. Опосля Крещения должны были казнь совершить, так не поверите, в лютый мороз народу собралось – ужас сколько! И отчего народ имеет к страшным зрелищам такое любопытство?
– Я бы обязательно посмотрел! – вклинился Григорий и пустился в рассуждения о необходимости казней.
– А я бы не стал, – заметил Воронихин.
Григорий говорил четко, правильно, «каши во рту не держал» и сидел за столом так, словно аршин проглотил: так его вышколили с детства. Лицо у него было открытое, взгляд прямой, смелый, но главное – всякому слову находил нужное применение. Павлуша – тот не столь разговорчив, чуть что – смущался, зато у него были славные эпистолярии. С дороги послал отцу уже три преподробнейших письма.
В один из дней в давыдовском имении появилась незнакомая дама лет сорока.
– Моя сестрица, – представил ее хозяин, – родственница капитана Лазарева, того самого, что совершил кругосветное путешествие. Она побывала, подумать только, у знаменитого Ниагарского водопада. Нина Ильинична, расскажете?
– Нет-нет, не теперь, – подняла она тонкую ручку с изящными пальчиками и обезоруживающе улыбнулась, – расскажу непременно, но не теперь.
Глаза у нее были редкого, почти сиреневого цвета, Григорий залюбовался.
Миновала неделя, но рассказ так и не случился, обстановка, по мнению Нины Ильиничны, была неподходящая – а путешественники стали собираться в дорогу: пора! При прощании многочисленные обитатели усадебного дома высыпали на крыльцо, к деревянным колоннам. Маленькая Аглая ревела, и ее ничто не могло успокоить; только когда Григорий взял ее на руки и подбросил в воздух, замерла и смолкла, уставившись в него глазами-пуговицами.
– Сторожко едьте, – напутствовал хозяин. – Бывает, что в лесах пошаливают грабители. На границе у вас верховых, стражников отправят назад, одни только слуги останутся.
– Семен! – крикнул Григорий своему слуге. – Слыхал? Будь готов.
Семен был сильный, ростом – как каланча, волосы подстрижены под горшок. Барчук говорил ему, что следует обстричь такие волосья, но Семен упорствовал и молчал. Тому была причина: на лбу у него были две шишки, два выроста, и он их скрывал. Григорий, заметив это, расхохотался: «Что это у тебя, Сенька? Мозги не вмещаются в черепе? Экие две великие шишки!»
– Тебе лишь бы над кем посмеяться, – заметил Павел, садясь в карету, приветливо улыбаясь и помахивая рукой хозяевам.
Разгорался ясный, можно сказать, почти летний день.
– Уф! Жарко! – Павел снял камзол, развязал шейный платок и достал французскую книгу.
– Ах так, тебе книжица дороже брата? – толкнул его в бок Григорий. – Не хочешь поболтать о забавных хозяевах?
– Почему забавных? Милые барин и сударыня, а маленькая Аглая – прелесть!
– Тут нет никаких сомнений: малютка – чудо! Но остальные…
Григорий пошарил в бауле и достал флейту.
И вот уже под нежную мелодию обоз въезжает в зеленую дубраву. Стучат копыта по твердой земле – цок, цок, цок… Могучие дубы отбрасывают густые тени. Один лист попал в открытое оконце кареты и оказался на ладони Поля:
– Какой красивый! Смотри, на что он похож?
– На брошку… – процедил брат.
– А по-моему… по-моему, это напоминает маленькую скрипку.
Гриша отложил флейту, взглянул:
– И в самом деле! Маленькая скрипка… или альт.
Лошади шли ходко, дорога смягчала стук колес. Глубже в лес она стала хуже: недавно прошел дождь. Колеса проваливались, лошади спотыкались.
Ох, дороги! Что же говорить о тех далеких временах, когда не знали асфальта и после приличного дождя колеи превращались в глубокие рытвины, ямы? Что и делать в долгой русской дороге, как не предаваться отстраненным мечтаниям?..
Уже смеркалось. Вдруг – трак! – сломалось колесо. Стали чинить. Донеслись какие-то звуки, похожие на нестройное пение, можно было разобрать слова:
Уж как рыбу мы ловили
По сухим по берегам,
По сухим по берегам —
По амбарам, по клетям.
А у дядюшки Петра
Мы поймали осетра…
В звуках песни почудилось что-то угрожающее. «Осетр», «рыбу ловить» – что это значит? Убить осетра? Григорий и Андрей не были трусливы, сколько потасовок с мальчишками выигрывали! Но тут – от незнакомых ли мест или из-за предупредительных слов Давыдова – внутри похолодело.
И прямо перед ними, в окне показалась мутная, расплывчатая физиономия. Григорий мигом выхватил пистолет, а Андрей сунул два пальца в рот и засвистел так, как только умел. И в этот свист вложил, быть может, он и волю: он более не раб!
Лошади понесли – и графский обоз миновал логово разбойников без дурных последствий…
Скоро – Вена
И снова – трак-трак-трак. Длинный строгановский обоз мчится на запад. Трак-трак-трак – крутятся колеса по ровной европейской земле.
Андрэ не расстается с альбомом, мечтает узреть прекрасную итальянскую архитектуру. За Павлушу он будет отвечать особо, но более потом, во Франции, а пока они приближаются к северной части Австро-Венгрии. В голове его – череда мыслей. То Мишель с какими-то предостережениями по поводу форейтора – которого? Едет ли он с ними или остался в столице… То грезит о Жилярди, о Риме…
Григорий Строганов мыслями в Швейцарии, где будет учиться физике, математике, химии (без нее нельзя в соляном производстве).
Сестра его Лиза что-то вяжет…
А Поль Строганов мечтает о великих французских философах, о любимом Руссо, представляя, как будет слушать лекции образованных умов Франции.
Но – увы! – часто, слишком часто предполагает человек одно, а жизнь поворачивает в иное направление. Еще не доехали до Швейцарии, как пылкий красавчик Павлуша на почтовой станции узнал, что начинается война России с Турцией. Мог ли он спокойно продолжать странствие, ежели родина перед битвой? Возгоревшись, он тут же написал письмо отцу. В самых сдержанных тонах описал свое желание, вернее, просьбу отпустить его на войну:
«Прошу дать мне дозволение…
Война в моем Отечестве, а я не еду служить в моем месте? Мне стыдно мундир носить… Когда мы были на Украине, у графа Петра Александровича Румянцева, то он обещал меня взять адъютантом… Вы не можете вообразить, какую радость вы мне учините, позволивши ехать».
Жильбер, конечно, прочитал письмо и, потрясая большой взлохмаченной головой, не менее часа ругал юношу за легкомыслие: «Мы едем учиться свободе, демократии, а вы, Поль, как вы можете? У нас есть один путь. Вы будете в числе нескольких русских господ, которые повернут вашу несчастную Россию на путь прогресса!» В минувшем году Жильбер с Полем совершили путешествие на Урал, и Ромм пришел в ужас от общественных порядков России.
Воронихин не слушал красноречивого Жильбера, не придавал значения тому, что тот говорил, а зря…
Остановились в трактире около Вены. Беседовали у камина, перебирая события.
Не успели обосноваться, как Лизу обокрали. Ночью в окна по стеблям хмеля залезли жулики и украли драгоценности. Месье Ромм горячился:
– И как вы думаете, кем оказался тот мошенник? Представьте – помощником суконщика, представителем третьего сословия! Он оправдывался: мол, читал философов, а они писали, что люди должны быть равны и, значит… надо грабить богатых! Каков?
– Мошенником может быть любой, – рассуждал Григорий, – из третьего сословия, из бедняков и даже шляхтич. Только знатные особы не имеют на это права.
– Философы тоже не могут стать мошенниками, – негромко проговорил Павел. – Они создают учение о равенстве – ведь каждый человек рождается свободным и имеет право на равенство.
– На равенство? – усмехнулся Григорий. – Милый Поль! А отчего, скажи, один человек готов с утра до вечера слушать музыку, сочинять, а другой только пьет пиво?! Какое тут равенство?
– Но разве виноват человек, которому с детства не давали слушать музыку? Который не слыхал о твоей виолончели или флейте?
– Конечно, они не виноваты, и по-то-му, дорогой братец, надлежит нашему сословию – да, да, непременно – постепенно учить, распространять культуру среди простолюдинов. Это забота элиты!
– Но откуда взялась эта элита? Разве мы с тобой сделали что-нибудь, чтобы попасть в нее? Только наши предки!
– Да! И нам следует благодарить отцов, быть добродетельными и по мере сил распространять образование, культуру… Вспомни, что сказано в «Письмовнике»: «Добродетельный человек есть в рассуждении своего Отечества, подобно как луна в рассуждении ночи, – она, выходя из тьмы, дает сияние, коего б не было без ее заслуг». Слышишь? Мы – свет луны, дающий ночи простор!
Андрей молчал – хотя у него было более всего поводов для мыслей о свободе…
В гостинице, где они остановились, чувствовалась близость музыкальной Вены. Григория переполняло чувство правоты, он порывисто вскочил и схватил лежавшую в углу виолончель. Резко повернулся, хотел что-то сказать – и вдруг запнулся, не сдержав чувств, поскользнулся на паркете, виолончель выскочила из его рук и упала. Струны жалобно звякнули, Григорий, схватившись за голову, с ужасом увидел лопнувшие струны.
…На следующий день русский посол в Вене со своим семейством и его гости были приглашены в королевский дворец Хофбург. Ждали Моцарта! Братья с особым тщанием одевались: шейный платок, черный сюртук, изящная трость, модные туфли с серебряными пряжками. Андрэ не узнать: оказалось, что он может быть щеголеват и причесан у куафера.
Зала блистала позолотой, горели тысячи свечей. На маленьких диванах и креслицах расположились высокопоставленные господа, нарядные дамы. Братья Строгановы примолкли, оглядывая прекрасные, в блеклых тонах гобелены, дам с невиданными прическами – на головах у них высились сооружения, напоминавшие то корабль, то фантастическую птицу.
Здесь была и знаменитая Наталья Петровна, княгиня Голицына (будущий прототип пушкинской «пиковой дамы»), и ее дочь Софи. Суровая, властная, усатая старуха – и Сонечка, похожая на лепесток, упавший с засыхающего дерева. Наталья Петровна сидела прямо, в первых креслах, с открытой грудью, увешанной бриллиантами.
Павлуше понравилась Софи, но он старался не оборачиваться в ее сторону, хотя это ему давалось с трудом. Григорий не отводил глаз от дверей. Когда высокая дверь распахнулась – вбежал Моцарт! Буквально влетел. Ладный, невысокий, стремительный, он одним движением отбросил края камзола, откинул голову в белом парике, потом склонился к клавесину и медленно положил руки на клавиши.
Павел незаметно обернулся – и встретил взгляд Софи. Она была в маленьком белом парике, с жемчугом на шее, в серебристом платье с детским декольте. Глаза ее потупились.
Андрей не видел никого, кроме Моцарта, его рук, с первой же ноты он был захвачен музыкой. Это была ре-минорная «Соната-фантазия». Осторожно, крадучись, левая рука Моцарта поднималась ко второй, третьей октаве, звук все более набирал силу. Потом – тише, еще тише, пальцы остановились в задумчивости. Долгая пауза заставила замереть в непонятном предвкушении: что дальше? И вдруг – искрометное арпеджио, а следом такое душераздирающее анданте…
Робкое признание в звуках и снова аккорд – неожиданность! И опять медленно, сжимая сердце, потекла внешне незатейливая, но такая трогательная мелодия. И снова забрезжили звуки, напоминающие восход ленивого солнца. И опять – престо, истинно моцартовское престо! Постепенно звуки затихли, замедлились, как бы возвращаясь к истокам, к прошлому…
Зала зааплодировала, дамы встали, посылая Моцарту воздушные поцелуи, стуча веерами по спинкам кресел. Кричали: «Форо!»
Моцарт был еще весь во власти своей музыки, в глазах его блестела влага, однако губы уже растянулись в лучезарной улыбке; он кланялся, раскинув руки, словно обнимая всю залу, весь мир. Уже хотел удалиться, но тут его остановила княгиня Голицына и что-то сказала, показав на парик. Софи порозовела, ей было неловко за мать – разве смела она сделать замечание?
Княгиня Голицына была истинной представительницей дамского века. Тех далеких времен, когда дочерей выдавали замуж по сословному принципу, когда богатое состояние с чувством долга заменяло любовь, когда не разводились с мужьями, а разъезжались по разным домам, городам. Высокомерные аристократки говаривали: «Мы не разводимся с мужьями, мы их хороним». Наталья Петровна Голицына не любила своего князя – и все же сохранила видимость благополучия семьи, а воспитание всех четверых детей взяла в свои руки и сделала из них именно то, что задумала. Младшей была эта умненькая скромница Софи.
Власть Голицыной распространялась не только на семью, но и на всех, кто попадал в ее окружение. Даже здесь, в Вене, эта басовитая дама повелевала в русском посольстве. Сопровождаемая покорной дочерью и сыном, княгиня величественно покинула Хофбург. Сонечка молча шла рядом, очарованная музыкой, ночной Веной, ароматами цветущих деревьев и смутной мыслью о Поле Строганове.
Григорий, в ушах которого еще звучал Моцарт, появился во вчерашней гостинице – и что он увидел?! В углу, на полу, так же, как вчера, валялась его виолончель! Охваченный гневом, он закричал на Семена:
– Балда, ничтожество! О чем думают слуги в этом доме? Или у тебя шишки на лбу – признак не ума и смекалки, а только тупости?! Вон с глаз моих!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.