Текст книги "Инженю"
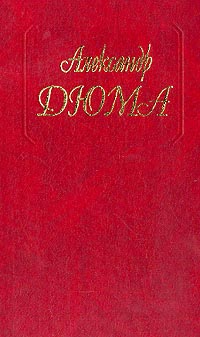
Автор книги: Александр Дюма
Жанр: Литература 19 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Вокруг этой неодушевленной жертвы, явно обреченной сгореть в пламени, суетились вопившие от нетерпения мятежники: они ждали наступления темноты, чтобы их костер выглядел красивее и чтобы поспешно организованное сожжение благодаря этой задержке смогло бы привлечь наибольшее количество зрителей.
И мятежники были приятно удивлены, увидев, что к ним на помощь спешат соратники, придумывавшие новую программу, и неистовыми криками радости встретили тех, кто тащил аббата де Вермона и кому пришла счастливая мысль сжечь его заодно с чучелом.
На лице несчастного аббата читался вполне понятный ужас. По его жестам можно было угадать, что бедняга о чем-то говорит и стремится, чтобы его услышали; но, поскольку его толкали вперед под громкие крики, а на тех, кто его мог бы услышать или остановить, напирали сзади другие бешеные, кричащие еще громче, жалобы и объяснения жертвы тонули в общем шуме.
Но вот толпа подошла к костру. Аббата прижали к связкам хвороста, и, хотя было еще светло, связав несчастному руки, начали приготовления к экзекуции.
В эту минуту какой-то человек мощным движением широких плеч рассек толпу и, прикрывая двумя руками аббата, крикнул:
– Остановитесь, болваны! Это не аббат де Вермон!
– Ох, господин Дантон, помогите мне, помогите! – умолял обессилевший несчастный церковнослужитель.
Сколь сильным ни был шум на площади, звучный голос Дантона перекрыл его, и несколько человек услышали произнесенные слова.
– Как? Разве это не аббат де Вермон? – повторяли стоявшие рядом.
– Да нет же, нет, – кричал несчастный аббат, – я не де Вермон… Целый час я надрываюсь, втолковывая вам это!
– Но кто же вы тогда?
– Это аббат Руа! – выкрикнул Дантон. – Аббат Руа, знаменитый хроникёр! Аббат-Тридцать тысяч солдат, как называют его в Пале-Рояле, когда он сообщает под Краковским деревом новости из Польши! Более того, аббат Руа – противник аббата де Вермона! Аббат Руа – ваш друг, черт бы вас побрал! Поосторожнее, господа: вы собираетесь сжечь доброго разбойника вместо злого!
И Дантон разразился смехом, повторенным близко стоящими, и этот смех заразил всех даже в самых дальних уголках площади.
– Да здравствует аббат Руа! Да здравствует друг народа! Да здравствует Аббат-Тридцать тысяч солдат! – закричали с дюжину голосов, подхваченных сотней, затем тысячью глоток.
– Верно, да здравствует аббат Руа! – вскричал и кузнец. – Но раз уж он здесь, то пусть сослужит нам службу; пусть он поднимется на костер и исповедует господина де Бриена!
– И повторит исповедь вслух, – предложил кто-то. – Это будет забавно!
– Правильно, верно, пусть исповедует Бриена! Пусть исповедует Бриена! – закричали все присутствующие на площади.
Аббат Руа подал знак, что хочет говорить.
– Тихо! – крикнул Дантон громовым голосом, заглушившим все остальные.
– Тихо! Эй, вы там, тихо! – пронеслось по толпе.
И воля Дантона оказала такое мощное воздействие на море людей, что через несколько минут в наступившей тишине можно было расслышать, как летит муха.
– Господа, – начал аббат Руа громким, хотя еще немного дрожащим голосом, – я, господа, не желаю ничего другого, как повиноваться вам и принять исповедь приговоренного к сожжению…
– Да, да! Отлично! Браво! Ис-по-ведь! Ис-по-ведь!
– Но, господа, – продолжал он, – вместе с тем я должен обратить ваше внимание на одно обстоятельство.
– Какое?
– На то, что его преосвященство архиепископ Санский – большой грешник…
– О-хо-хо! Это мы знаем! – отвечала толпа, покатываясь от хохота.
– … и, следовательно, совершил великое множество грехов.
– Верно! Согласны!
– Посему его исповедь может быть долгой, очень долгой… такой долгой, что вы, наверное, не успеете сжечь его сегодня.
– Ерунда, сожжем завтра.
– Хорошо, – ответил аббат. – Но господин начальник полиции, господин командир городской стражи и…
– Да, ты прав, – согласилась толпа.
– Поэтому, я полагаю, что было бы лучше сжечь его без исповеди, – предложил аббат Руа.
– Ура! Ура! Он прав: жечь, жечь, жечь его сию же минуту! Да здравствует аббат Руа, да здравствует Аббат-Тридцать тысяч солдат! В огонь Бриена! В огонь!
И в то же мгновение толпа разделилась на две части: одна образовала своего рода триумфальную арку, под которой на крыльях победы, а главное – страха, пролетел несчастный аббат, едва не поплатившийся жизнью за своего собрата; другая бросилась к костру и под грохот всех котелков и кастрюль квартала предварила каким-то дьявольским хороводом аутодафе, которое вскоре должно было осветить площадь.
Наконец, ровно в девять вечера, час, когда устраиваются фейерверки, все окна осветились: одни свечами, другие – плошками; к костру торжественно поднес факел человек, одетый в красное и олицетворяющий собой палача, и костер, потрескивая, начал разгораться под приветственные возгласы всех этих безумцев, на чьих лицах страшно было видеть пурпурный отблеск, отбрасываемый горящими головнями; но их пылающие словно угли глаза, как говорит Данте, сверкали еще страшнее, чем головни!
XX. ДОМ ГОСПОДИНА РЕВЕЛЬОНА, ТОРГОВЦА ОБОЯМИ, В ПРЕДМЕСТЬЕ СЕНТ-АНТУАН
Если наши читатели позволят нам ненадолго покинуть площадь Дофина, где на костре горит чучело г-на де Бриена и стоит шум, поднявший на ноги всех обитателей Сите и окрестностей, мы пройдем в ту часть Парижа, в которой царит ничем не нарушаемая тишина, а скоро наступит непроницаемая тьма.
Впрочем, в будущем этот квартал тоже озарится пламенем и огласится шумом, и, однажды пробудившись, он за два-три года извергнет больше огня и грохота, чем со времен Эмпедокла и Плиния Старшего извергли Этна и Везувий.
В парижском предместье Сент-Антуан, на улице Монтрёй, высился красивый особняк.
Он принадлежал Ревельону, богатому торговцу обоями, чье имя вошло в историю вследствие связанных с ним событий.
В то время, когда это имя еще не было европейски известным, Ревельона, однако, хорошо знали в квартале Сент-Антуан и даже во всем городе благодаря его замечательным изобретениям, коммерческой деятельности и надежности его подписи.
Ревельон в самом деле обладал тогда огромным состоянием, и более пятисот рабочих, занятых на его фабрике (на каждом из них он мог заработать в день пять-шесть франков), не только обеспечивали это богатство, но и увеличивали его с такой пугающей быстротой, что никто не сказал бы, когда оно перестанет расти.
О Ревельоне много говорили и много писали – из этого следует, что Ревельон был очень известен, хотя, быть может, знали его плохо.
Мы отнюдь не претендуем на то, будто знаем Ревельона лучше других историков, писавших о нем; кстати, нас мало интересуют, а главное, мы почти не занимаемся теми случайными репутациями, какие порождает событие, которое привлекает к ним внимание и выводит их на яркий свет, сколь бы постыдными ни были обстоятельства, создающие эти репутации; впрочем, тот же свет заставляет этих людей, ставших известными, щурить глаза, словно испуганная сова, вылетевшая днем из норы, откуда обычно она выбирается по ночам.
Поэтому мы скажем о Ревельоне лишь то, что говорили о нем в то время, или то, что говорили о нем впоследствии.
Ревельон, утверждали якобинцы (да будет нам позволено заметить здесь по поводу якобинцев, что те, кто вписывает их появление в книги записи актов гражданского состояния 1790 или 1791 года, выдает им ложное свидетельство о рождении; кроме своего названия, заимствованного у места, где они собирались, якобинцы существовали уже давно – в ту эпоху, когда разыгрывались события, о которых мы повествуем), был человеком жестоким, желчным и скупым: он намеревался свести плату своим рабочим до пятнадцати су в день; наконец, утверждали вожаки этой еще мало кому известной партии, Ревельон был одним из тех откупщиков, кто был готов осуществить теорию господ Флесселя и Бертье, которые говорили о нищете народа: «Если у парижан нет хлеба, то пусть их кормят травой; наши лошади жрут ее вовсю!»
В отличие от якобинцев, роялисты и умеренные думали о торговце обоями совсем по-другому. Ревельон, утверждали они, порядочный человек, живущий так же, как жили тогда все люди, продолжающий дело, которое он унаследовал от отца; он был немного экономист, немного философ, немного политик, но человек бережливый, мудрый и нравственный, то есть обладал всеми теми добродетелями, которые в перегонном кубе революций превращаются в пороки.
Ревельон должен был иметь врагов, ибо он пользовался влиянием. Но в этом предместье к нему относились как к человеку, с которым надо считаться, поскольку тот, кто одним жестом заставляет трудиться тысячу сильных рук, в грозные дни не может оказаться человеком незначительным.
Итак, в тот самый день, о каком мы рассказываем, – а он был бурным, – г-н Ревельон ужинал в своей прекрасной столовой, украшенной картинами, копии которых, перенесенные на обои, продавались повсюду, хотя, надо сказать, оригиналы он приобрел у не лишенных таланта художников за приличные деньги.
Хорошая серебряная посуда, скорее тяжеловесная, чем изящная, отличное фамильное столовое белье, сытные, но обильно сдобренные острыми приправами блюда, доброе домашнее вино с небольшой фермы в Турене – то было приятное пиршество, в котором принимали участие шесть персон, пребывающих в прекрасном настроении.
Это прежде всего был сам Ревельон, чью внешность нет нужды живописать, поскольку имя его равноценно историческому портрету; двое из его детей и жена, превосходная женщина; далее – некий посторонний старик и девушка.
На старике был длинный сюртук неопределенного цвета, когда-то, наверное, оливкового – покрой его свидетельствовал, что сшит он лет пятнадцать назад; изношенное, вытертое почти до дыр сукно указывало, что и на самом деле сюртук носился лет двадцать.
Объяснялось это не бедностью или неряшливостью, а поразительнейшим пренебрежением к одежде, и можно утверждать, что хозяину этого сюртука требовалось даже некое мужество, чтобы в солнечный день показываться в нем в Париже, когда он шел под руку с девушкой, чей портрет мы тоже нарисуем после того, как нанесем последние штрихи портрета старика.
Итак, вновь обратимся к нему.
Вытянутое, узкое лицо, расширяющееся у висков, живые глаза, длинный нос, впалый, но цинично-насмешливый рот, редкие седые волосы делали этого человека стариком, хотя ему исполнилось только пятьдесят четыре года.
Звали его Ретиф де ла Бретон, и это имя, тогда весьма известное, даже очень популярное, не совсем стерли годы, и оно дошло до нас. К тому времени он уже написал больше томов, нежели отдельные члены Академии его эпохи написали строк.
Его неизменный сюртук, к которому он не обращался с хвалебными строфами – как это делали, воспевая свои фраки, некоторые плохо одетые, но известные поэты нашего времени, – хотя все-таки прославил его достоинства в одном абзаце своей «Исповеди», был предметом постоянных забот и починок девушки, сидевшей по левую руку от г-на Ревельона.
Это чистое и свежее дитя, цветок, расцветший среди типографских досок, звали Инженю: отец дал ей это имя, словно героине романа; впрочем, уже лет двадцать – обстоятельство примечательное и служившее предвестием тех политических и религиозных потрясений, что должны были произойти, – имена, даваемые при крещении, ускользали от влияния календаря, который сам вскоре будет заменен неким перечнем овощей и цветов. Столь романическое (мы подчеркиваем это) имя, полученное девушкой, объясняет одну из странностей старика: он любил Инженю не столько как собственную дочь, сколько как прототип своих героинь; он проявлял к ней не отцовскую нежность, а ласковую привязанность автора.
Красивая девушка, кстати, во всех отношениях была достойна своего имени: девственное простодушие нежно светилось в ее больших, слегка навыкате голубых глазах. Ее ротик был приоткрыт в мягкой улыбке или, скорее, в каком-то наивном изумлении, вдыхая, словно распустившийся цветок, любое ощущение, которое ее сладостное и легкое дыхание вновь возвращало миру! Перламутровый цвет лица, пепельные ненапудренные волосы; очаровательные, хотя и несколько длинноватые руки – ведь Инженю было пятнадцать лет, а у женщин в этом возрасте только руки и ноги перестают расти, – да, повторим, очаровательные, хотя и несколько длинноватые руки, дополняли облик девушки.
Инженю с ее молодой, робко округлившейся грудью, с ее скромной осанкой и чистосердечной улыбкой очень украшало полотняное прямое платье, совсем простое, без отделки, служившее ей выходным туалетом. Великолепие ткани этого платья дополнялось изяществом покроя, и, сколь бы скромным ни был наряд девушки, Ретифу, мы вынуждены повторить это, требовалась немалая доля мужества, чтобы прогуливаться по Парижу в своем потертом сюртуке рядом с Инженю, такой свежей и такой прелестной в ее новом узком платье.
В то мгновение, когда мы вошли в столовую, Ретиф, взяв в свои руки бразды разговора, рассказывал девицам Ревельон назидательные истории, перемежая их гастрономическими набегами на остатки полностью разгромленного десерта, который, наверное, до этого сохранял безупречный боевой порядок, – ибо метр Ретиф де ла Бретон обладал могучим аппетитом и его язык нисколько не мешал зубам.
Ревельон, кого назидательные истории Ретифа де ла Бретона интересовали не столь сильно, как его дочерей (наверное, потому, что он более глубоко, чем они, знал о нравственности рассказчика, и это знание во многом лишало истории Ретифа их назидательности), в конце ужина решил завести с гостем разговор о политике.
– Вот вы, философ, мой дорогой Ретиф, – начал он тем насмешливым тоном, каким люди денежные и деловые обращаются к людям мечтательным и мыслящим, – объясните мне, покуда бисквиты перевариваются, почему мы во Франции с каждым днем утрачиваем национальное чувство.
Это вступление напугало дам, и они, взглянув на мужчин, дабы убедиться, что разговору будет придан совсем новый поворот, встали и, взяв с собой Инженю, собрались отправиться в сад, чтобы предаться каким-нибудь веселым играм.
– Не уходи, Инженю, – попросил Ретиф, тоже поднимаясь из-за стола и отряхивая крошки последнего съеденного им бисквита, усыпавшие полы его длинного верного сюртука.
– Да, отец, слушаюсь, – ответила девушка.
– Прекрасно! – воскликнул Ретиф, счастливый тем, что его слушают, как бывают счастливы все отцы, верящие, будто они управляют своими дочерьми, хотя те вертят ими, как хотят.
Потом, повернувшись к хозяину, он сказал:
– Прелестное дитя, не правда ли, господин Ревельон? Оно – утешение моих старческих лет, опора моих последних дней, – дарует мне чистые радости отцовства!
И Ретиф де ла Бретон блаженно воздел глаза к небу.
– Вы должны быть чертовски рады! – воскликнул Ревельон с лукавым добродушием, свойственным нашим буржуа.
– Но почему же, друг мой? – спросил Ретиф де ла Бретон.
– Да потому, господин Фоблас, что, если верить тем, кто за вами шпионит, вам приписывают, по меньшей мере, сотню детей! – ответил Ревельон.
Роман Луве де Кувре, который недавно появился и был тогда в большой моде, стал для Ревельона отправной точкой шутливого сравнения.
– Руссо в своей «Исповеди» поведал о себе всю правду, – сказал Ретиф, явно смущенный тем уколом, что нанес ему торговец обоями. – Почему бы мне не подражать ему, если и не талантом, то хотя бы мужеством?
Четыре слова «если и не талантом» были произнесены с такой интонацией, что сама музыка, эта великая лгунья, претендующая на выражение всех чувств, не смогла бы передать ее.
– Хорошо, – сказал Ревельон, – если у вас, в самом деле, сто таких детей, как Инженю, то это милое семейство, и я предлагаю вам марать как можно больше бумаги, чтобы их прокормить.
Ревельон несколько следовал тому предрассудку – кстати, он еще довольно распространен в газетах наших дней, предпочитающих г-на Леклера г-ну Эжену Сю, – будто чистая бумага ценнее бумаги исписанной.
Этот вопрос решать не нам, несмотря на наше глубокое восхищение листами чистой бумаги.
– В конце концов, поскольку нельзя вечно рожать детей, – заметил Ревельон, – и, кстати, между нами говоря, вы уже не в том возрасте, чтобы пренебрегать другими занятиями, что вы сейчас поделываете, мой дорогой «Ночной наблюдатель»?
Под этим названием Ретиф тогда публиковал некое подобие дневника, дополняющего «Картины Парижа» Мерсье; два друга поделили между собой часовой циферблат: Мерсье выбрал себе день, а Ретиф де ла Бретон – ночь.
– Что поделываю? – переспросил Ретиф, откинувшись на спинку стула.
– Да.
– Составляю план книги, способной просто-напросто взбудоражить Париж.
– Ха-ха! – громко рассмеялся Ревельон. – Взбудоражить Париж?! Это дело нелегкое!
– А вот и нет, мой дорогой друг, – возразил Ретиф де ла Бретон с тем провидческим даром, что присущ только поэтам, – может быть, это легче, нежели вы думаете…
– Но как быть с солдатами французской гвардии? С городской стражей? С немецкими полками? С гвардейцами короля? С господином де Бироном и господином де Безанвалем? Послушайте, мой дорогой Ретиф, послушайте меня: не будоражьте Париж.
То ли из осторожности, то ли из презрения автор «Порнографа» ничего не ответил на этот призыв, но, давая ответ на ранее заданный Ревельоном вопрос, продолжал:
– Только что вы спрашивали меня, почему мы во Франции с каждым днем утрачиваем наш патриотизм?
– Ну, конечно! – воскликнул Ревельон. – Пожалуйста, объясните мне.
– Дело в том, что француз всегда гордился своими правителями, – ответил Ретиф, – в них он вкладывал свою гордость и свою веру. Так было с того дня, когда француз поднял на щит Фарамонда. Француз был велик с Карлом Великим, с Гуго Капетом, с Людовиком Святым, он был велик с Филиппом Августом, Франциском Первым, Генрихом Четвертым, Людовиком Четырнадцатым! Правда, от Фарамонда до Людовика Шестнадцатого большая дистанция, господин Ревельон.
– Однако этот бедный Людовик Шестнадцатый – порядочный человек, – с улыбкой заметил торговец обоями.
Ретиф так сильно пожал плечами, что его сюртук едва не лопнул по швам.
– Порядочный человек! Порядочный человек! – проворчал он. – Вы прекрасно понимаете, что сами ответили на вопрос, который поставили передо мной. Если французы говорят о своем правителе, что он великий человек, они проявляют патриотизм; если они называют его порядочным человеком, они уже не патриоты.
– Чертов Ретиф! – воскликнул обойщик, хохоча во все горло. – Вечно он найдет словечко, чтобы пошутить!
Ревельон ошибался: Ретиф вовсе не шутил и говорил он это вовсе не для того, чтобы развеселить кого-либо.
Поэтому он, помрачнев и нахмурив брови, продолжал:
– Но если я не стану говорить о том, кого называют королем, и перейду к второстепенным правителям, скажите-ка мне, неужели вы будете относиться к ним с уважением?
– Ну, если уж вы заговорили об этом, дорогой господин Ретиф, то вы чертовски правы! – согласился Ревельон.
– Ответьте мне, кем был д'Эгийон?
– О, с д'Эгийоном покончило правосудие.
– А Мопу?
– Ха-ха-ха!
– Вы смеетесь?
– Право же, да.
– Отлично! Эти смехотворные министры – орлы по сравнению с бриенами и ламуаньонами.
– Ха-ха! Вы правы! Но вы знаете, что их отправляют в отставку и господин Неккер возвращается к делам.
– Мы очутились между Сциллой и Харибдой, господин Ревельон! Между Сциллой и Харибдой.
– Да, верно, между двумя ненасытными утробами с песьими головами, – согласился почтенный фабрикант, показав на одно из живописных панно, где были изображены вместе со всеми украшавшими их атрибутами Харибда, похититель быков, и Сцилла, соперница Цирцеи.
Потом, вернувшись к высказанной Ретифом мысли, он, потянувшись, сказал:
– Все-таки верно, что во Франции больше не существует патриотизма с тех пор, как мы имеем нынешних правителей… Скажите на милость, ведь я никогда раньше над этим не задумывался.
– Вас это удивляет? – спросил Ретиф, довольный и собой, и понятливостью Ревельона.
– Конечно! Даже очень!
– Но, мой дорогой друг, это произведенное на вас впечатление…
– Оно велико, – перебил его обойщик, – поистине, очень велико.
– Пусть так… Оно ведь не только историческое или нравственное?
– Нет! Нет!
– Значит, оно личное?
– Да, признаться, это так!
– В чем же оно касается вас? Объясните.
– В том, что меня предполагают сделать выборщиком от Парижа. Если меня назначат…
Ревельон почесал ухо.
– И что будет, если вас назначат? – поинтересовался Ретиф.
– Так вот, если меня назначат, мне придется говорить, написать речь, изложить свое кредо; гибель национального духа во Франции – прекрасная тема для выступления, и ваши соображения о том, как его восстановить, мне бесконечно понравились, так что я ими воспользуюсь.
– Ох, черт! – вздохнул Ретиф.
– Что с вами, дорогой мой друг?
– Ничего, ничего.
– Но нет, вы вздохнули.
– Ничего, повторяю; ну разве что одна мелочь.
– И все-таки?
– Мне придется отказаться от этих соображений и найти новую тему.
– Тему чего? – спросил Ревельон.
– Брошюры.
– Вот как!
– Да, я обдумал брошюру по этому поводу, и, как я уже вам говорил, вынашиваю доводы, способные взбудоражить Париж; но раз вы берете именно эту тему…
– То что?
– Ничего, буду искать другую.
– Не надо, – запротестовал Ревельон, – я вовсе не намерен причинять вам вред!
– Полноте! Это пустяки! – воскликнул Ретиф, запахивая полу сюртука. – Я и написал-то всего пару листков.
– Постойте! Постойте! Черт возьми, может быть, найдется возможность… – почесывая в затылке, воскликнул обойщик.
– Какая возможность, дорогой господин Ревельон?
– Если бы вы пожелали…
Ревельон замолчал, многозначительно глядя на Ретифа де ла Бретона.
– Если бы я пожелал? – повторил Ретиф.
– Если бы вы захотели, ваш труд не был бы потерян, и это тем лучше, что он будет выгоден для меня.
– Вот что! – воскликнул Ретиф, который все прекрасно понимал, но прикидывался недогадливым. – Объясните же мне вашу мысль, дорогой друг.
– Так вот, вы сделаете эту брошюру, – сказал Ревельон, опустив рукав своего прекрасного костюма на грязный рукав сюртука Ретифа, – и она будет столь же замечательной, как все, что вы пишете…
– Благодарю, – склонил голову Ретиф.
– К тому же она несколько пополнит ваш скудный кошелек, – хихикнув, продолжил фабрикант.
Ретиф поднял голову.
– Конечно, она ничего не прибавит к вашей славе – это невозможно! Ретиф снова поклонился и сказал:
– Вы правы. Но брошюра доставит удовольствие моему другу Мерсье, а я очень хочу ему понравиться, ведь он пишет такие прелестные статьи обо мне в своих «Картинах Парижа».
– В конце концов, дорогой господин Ретиф, – продолжал свои уговоры Ревельон, становясь все более ласковым, – вы наверстаете упущенное, тогда как я…
– Что вы?
– Не смогу легко найти такую тему, чтобы обратиться к моим избирателям.
– О да, это верно, – согласился Ретиф.
– Поэтому я предлагаю вам… – продолжал Ревельон. Ретиф насторожился.
– … подготовить брошюру так, словно вы писали бы ее от своего имени, то есть сделать набросок, и, когда он будет готов, уступить его мне; я просто заменю публику, которая будет ее читать, и – право слово! – скуплю весь тираж, избавляя вас от типографских расходов! Подходит ли вам это? – прибавил Ревельон, улыбаясь своей самой очаровательной улыбкой.
– Есть одна трудность, – сказал Ретиф.
– Неужели?
– Вы не знаете, как я творю.
– Не знаю. Разве вы, дорогой господин Ретиф, творите иначе, чем другие писатели? Творите совсем по-другому, нежели творили господин Руссо, господин Вольтер, и не так, как творят господин д'Аламбер или господин Дидро?
– Боже мой, конечно!
– Так как же вы творите?
– Я творю вручную, то есть я одновременно и поэт, и наборщик, и печатник; вместо пера я беру верстатку, вместо того чтобы писать буквы, образующие слова, и строчки рукописи, я сразу же пользуюсь типографскими литерами – короче говоря, я сочиняю, печатая, и поэтому печать мне ничего не стоит, поскольку я сам печатник; таким образом моя мысль сразу же отливается в свинец… Это как в притче о Минерве, вышедшей в полном облачении из головы Юпитера.
– В шлеме и с копьем? – спросил торговец обоями. – Ее на моем потолке нарисовал Сенар, милый парень.
– Не считайте, что я отказываю вам из-за этого, – сказал Ретиф.
– Значит, вы согласны?
– Я с удовольствием сделаю вам этот маленький подарок, дорогой мой Ревельон; но, учтите, брошюра будет составлена прямо на наборных досках…
– Прекрасно, – перебил его Ревельон, который в желании присвоить себе мысли Ретифа де ла Бретона больше не видел в этом препятствия, – отлично, мы напечатаем один экземпляр здесь: у меня стоят станки для печатания обоев, а в чистой бумаге у вас недостатка не будет.
– Однако… – снова пытался возражать Ретиф.
– Скажите, наконец, что вы согласны, – прервал его обойщик, – это все, что мне нужно. Я получу мою речь… Надеюсь, дорогой друг, она будет не слишком длинной?.. И побольше фраз о греческих республиках: в предместье это производит сильное впечатление. Теперь поговорим о делах: скажите, дорогой друг, положа руку на сердце, сколько, по-вашему, я буду вам должен?
– О нет, нет! – воскликнул Ретиф. – Не будем об этом говорить.
– Разумеется, мы будем об этом говорить, ведь дела есть дела.
– Никогда, умоляю вас.
– Вы ставите меня в страшно неловкое положение, друг мой.
– Почему я не могу сделать это ради вас, с кем знаком двадцать лет?
– Вы оказываете мне честь, дорогой господин Ретиф; но я не приму условий, какие вы мне предлагаете или, вернее, не предлагаете: священник живет с алтаря.
– Ну нет! – возразил Ретиф де ла Бретон. – В ремесле писателя есть свои бескорыстные стороны.
Он сопроводил эту сентенцию тяжелым вздохом, который испортил впечатление от его щедрости, и трагическим жестом, от которого затрещал по швам его сюртук.
Ревельон остановил своего друга.
– Послушайте, – сказал он, – я торгуюсь: такова моя профессия, и я богат именно потому, что усвоил эту славную привычку торговаться; но я никогда ничего не возьму даром. Если вы попросите у меня дать вам одну гравюру бесплатно, я вам откажу: услуга за услугу, дорогой мой друг. За вашу исписанную бумагу я сперва заплачу вам сто франков звонкой монетой, потом дам обои для вашей спальни или кабинета и, наконец, прелестное шелковое платье для Инженю.
Ревельон так свыкся с неприглядным видом Ретифа, что даже не предложил ему новый сюртук.
– По рукам! – восторженно воскликнул Ретиф. – Значит, сначала сто ливров, потом обои для моего кабинета и еще шелковое платье для Инженю… Надеюсь, обои с фигурами?
– Грации и Времена года вам подходят? Великолепные ню!
– Черт возьми! – ответил Ретиф де ла Бретон, сгоравший от желания иметь у себя в кабинете Граций и Времена года. – По-моему, обои, что вы мне предлагаете, для Инженю несколько откровенны!
– Полноте! – сказал Ревельон, обиженно вытянув губы. – Немножко непристоен у нас лишь этот плут, олицетворяющий Осень, очень красивый молодой мужчина; но мы прикроем его виноградными ветвями. Юноша, олицетворяющий Весну, благодаря гирлянде выглядит вполне пристойно, ну а фигура Лета со своим серпом тоже может смотреться.
– Гм! – хмыкнул Ретиф. – Серпом, говорите… Это надо посмотреть.
– К тому же, дорогой мой, не будешь же держать дочерей в табакерке, – продолжал Ревельон. – Разве в один прекрасный день вы не выдадите Инженю замуж?
– Хотелось бы как можно быстрее, мой дорогой господин Ревельон; у меня даже есть соображения насчет приданого.
– А-а! Поэтому мы и говорим о ста ливрах, что я вручу вам в обмен на брошюру…
Ретиф встрепенулся.
– Не спорьте, это сделка! За брошюру я вам дам сто ливров, прелестное шелковое платье для Инженю… Им займется госпожа Ревельон, она знает в этом толк. Наконец, обои с Грациями и Временами года я могу прислать вам, когда захотите; только я запамятовал ваш адрес, дорогой господин Ретиф.
– Улица Бернардинцев, близ Телячьей площади.
– Прекрасно… Но когда я получу рукопись?
– Через два дня.
– Вы гений! – воскликнул Ревельон, с восторгом глядя на Ретифа и потирая руки. – Всего через два дня! Эта речь сделает меня выборщиком, а может быть, депутатом!
– Значит, мы обо всем договорились, – сказал Ретиф. – Но, скажите, дорогой господин Ревельон, который час?
– Пробило восемь.
– Уже восемь! Надо спешить, пусть скорее позовут Инженю.
– Так рано… Что вас гонит?
– Время, черт возьми!
– Полноте! Позвольте ей полчасика поиграть в саду с моими дочерьми… Вот, вы слышите их?
И Ревельон с отеческой улыбкой распахнул дверь в сад, откуда слышался щебет чистых, веселых голосов: девушки, взявшись за руки, кружились в танце и пели.
Погода стояла теплая; гвоздики и розы наполняли благоуханием воздух в саду; Ретиф с грустью высунул поседевшую голову в открытую дверь и смотрел на беззаботных девушек: их белеющие тени кружились в легкой сумеречной дымке.
Эти очаровательные видения пробудили в Ретифе воспоминания о его юности, воспоминания тем более острые, что они, конечно, были совсем не целомудренные; ибо из-под шпалеры, увитой листьями и виноградными гроздьями, можно было бы заметить, что его глаза горят тем блеском, который испугал бы девушек даже более смелых, чем наша светлая и чистая Инженю.
Прекрасное дитя, внезапно оторванное от своих забав грубым голосом г-на Ревельона, позвавшего девушку, и более робким голосом Ретифа, стряхнувшего с себя греховные мечты, попрощалось с подружками, нежно их расцеловав.
Потом Инженю набросила на слегка приоткрытые, повлажневшие плечи короткую полотняную накидку под стать своему платью и, все еще возбужденная задорным танцем, поклонилась г-же Ревельон, улыбнувшейся ей в ответ, и г-ну Ревельону, отечески поцеловавшему ее в лоб; затем она положила круглую, все еще дрожавшую ручку на потертый рукав отцовского сюртука.
Старшие еще много раз обращались друг к другу со словами прощания, а девушки переглядывались; оба отца напомнили друг другу о своих взаимных обещаниях; после этого г-н Ревельон оказал Ретифу небывалую честь, лично проводив его до входных ворот.
Здесь почтенный негоциант был встречен поклонами группы рабочих с его собственной фабрики, которые о чем-то оживленно беседовали, но замолчали, расступившись, едва они увидели хозяина.
Ревельон с достоинством ответил на приветствие рабочих – оно было слишком униженным, а потому казалось притворным, – затем поднял глаза, чтобы взглянуть на небо, которое в южной стороне окрасилось каким-то странным цветом, похожим на зарево пожара, в последний раз дружески кивнул своему приятелю Ретифу и вернулся в дом.









































