Текст книги "Инженю"
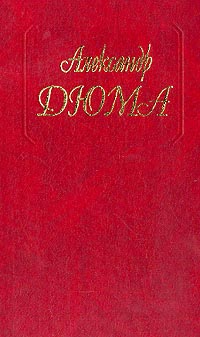
Автор книги: Александр Дюма
Жанр: Литература 19 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 49 страниц)
LVII. ГЛАВА, В КОТОРОЙ УДАРЯЕТ МОЛНИЯ
Ворота, однако, не поддавались.
Кстати, нападавшие не могли не оглядываться по сторонам и видели в каких-то двухстах шагах силуэт Бастилии; этому гранитному великану было достаточно поднести зажженный фитиль к одной-двум пушкам, чтобы уничтожить собравшихся у дома Ревельона людей, которые еще боялись производимого ими шума.
Оторвав взгляды от зубцов Бастилии, нападавшие высматривали каждый угол улицы, откуда, как они ожидали, может появиться стража, грозная стража с площади Дофина!
Кое-кто в толпе с тревогой вглядывался в окна Ревельона, не доверяя их молчанию, ибо из-за жалюзи мог высунуть свое расширяющееся жерло тромблон и дать по скоплению людей свой страшный залп, ни одна пуля которого не пролетит мимо цели.
К тому же надо было выполнять пункты объявленной программы и сжечь пресловутое чучело Ревельона.
В эту секунду какой-то усердный исполнитель поднес факел к связке соломы, и занялся огонь.
Сумерки – лучшее время для фейерверков! Мы говорили, что с самого начала ворота были закрыты и заперты накрепко, но от огня дубовые створки пошли трещинами и стали весело потрескивать; вскоре весь дом заволокло дымом.
Аутодафе дома Ревельона длилось уже больше часа; бунт бушевал полдня, но ни одна перевязь, ни одна шляпа с галунами, ни один штык в предместье не показались.
Чем объяснялась эта бездеятельность властей? Надо с грустью признать: по всей вероятности, она исходила от королевского двора.
На этот день, 27 апреля, назначали открытие Генеральных штатов. Двор, которому был известен состав депутатов, ничего так не боялся, как этого открытия, уже перенесенного на 4 мая; двору необходимо было добиться, чтобы Генеральные штаты не открылись и 4 мая, как они не открылись 27 апреля.
На что же надеялся двор? Двор рассчитывал, что к этой банде из пятисот – шестисот негодяев и к сотне тысяч зевак, наблюдающих за ними, присоединится тридцать – сорок тысяч голодных и безработных рабочих; что ограбление дома Ревельона пробудит у бедняков роковое желание последовать этому примеру; что они разграбят дюжину богатых особняков, и это будет вполне обоснованным предлогом для того, чтобы отложить заседание Генеральных штатов и стянуть войска в Париж и Версаль.
Поэтому ничто не мешало мятежникам из предместья Сент-Антуан. Вследствие этого около трех часов дня общее напряжение начало ослабевать; дом Ревельона никто не защищал, соседи не вмешивались, власти не предпринимали карательных мер – следовательно, можно было действовать без оглядки и боязни.
В четыре часа мятежники смело взялись за ворота и стали серьезно готовиться штурмовать ограду.
Только в эти минуты подошло подразделение стражников и вступило в переговоры с нападавшими.
Это подразделение, кстати, было слишком слабым и не способным ни на что, кроме переговоров.
Поняв это, мятежники, ободренные притворным сопротивлением стражников, продолжили осаду дома.
Тогда и прозвучали первые выстрелы; но было уже слишком поздно: люди разгорячились. В ответ на выстрелы полетели камни, стражники потерпели поражение и обратились в бегство.
Когда избитые камнями стражники бежали, нападавшим оставалось лишь штурмом взять дом.
Они даже не дали себе труда высадить дверь: приставив к стенам лестницы, мятежники проникли в дом через окна, и те, что залезли первыми, распахнули двери и окна перед оставшимися во дворе. Но в то время, когда нападавшие карабкались в окна, загорелся склад обоев. Почему это произошло? Об этом никто так и не узнал.
Возникла страшная неразбериха; каждый поступал согласно своим склонностям и стремлениям: одни рассыпались по комнатам и выбрасывали из окон мебель; другие бросились в винный погреб; самые рассудительные искали кассу.
Туда-то мы и приведем нашего читателя, если он разрешит нам это сделать.
Касса Ревельона находилась в небольшом здании, выходившем на отдельный двор, где брали пробы красок.
Касса была на втором этаже и состояла из довольно просторной комнаты, служившей конторой и расположенной между маленькой прихожей, через которую в нее входили, и кабинетом, куда вела отдельная дверь.
В этом маленьком кабинете и стояла касса.
Этот внушительный предмет обстановки представлял собой большой деревянный сундук, который, даже когда он был пустой, с трудом могли бы передвинуть трое мужчин. Железные засовы (металла на них не пожалели), гвозди с огромными шляпками, ручки, кованые углы, висячие замки предохраняли сундук и от руки времени, и от рук воров.
Вход в кабинет отыскать было нелегко. Туда вела небольшая винтовая лестница; знать это могли только рабочие.
Грабители же предпочли рассеяться по дому Ревельона; они взламывали секретеры, били зеркала и хватали все, что представляло хоть какую-то ценность.
Когда во двор ворвалась толпа, Оже укрылся в кассе. Отсюда он наблюдал за тем, как бушует буря: красноватые облачка пламени и едкий дым начали проникать во двор, как будто они стремились отыскать свежий воздух и небо.
Сидя на сундуке, Оже смотрел на этих одержимых, метавшихся словно полчище бесов в аду.
Расположившись за железной решеткой маленького кабинета, Оже, казалось, ждал, когда мятежники ворвутся и в его святилище.
Но – какое странное, почти чудесное избавление! – никто Оже не беспокоил, ибо грабители неистовствовали в другой стороне.
Кстати, все чаще слышались выстрелы: это из предместья подошел отряд солдат французской гвардии под командованием г-на дю Шатле – правда, отряд насчитывал самое большее человек двадцать пять или тридцать.
На звук стрельбы Оже подошел к выходящему на улицу окну и увидел, как упало несколько человек. Не зная, сколько пришло солдат французской гвардии, он должен был предположить, что их вполне достаточно, чтобы подавить бунт.
– Я пропал! – прошептал Оже. – Кассу грабители не тронули, через полчаса солдаты станут хозяевами положения.
И он от отчаяния рвал на себе волосы.
– Хорошо! – вдруг воскликнул он. – А если я сам сделаю то, чего не сделали эти глупцы?
Оже спустился в небольшой двор, бросил горящую бумагу в бак со скипидаром – тот с шипением вспыхнул, и красновато-зеленая струя огня, словно змея, поползла по стене.
Он увидел, как загорелись в чанах краски, разведенные на эфирных маслах, услышал, как трещит деревянная обшивка стен, и, открыв сундук, достал из него мешок с золотыми монетами, которые, как нам уже известно, были сложены аккуратными столбиками.
Потом он снова закрыл сундук, подбежал к выходившему во двор окну, которое уже лизали языки пожара; чтобы пламя быстрее охватило сундук, он облил его эфирным маслом и жиром для лампы, затем поджег, поднеся к нему подсвечник.
Лицо злодея, озаренное отблесками пламени, было безобразно: по его зловещему взгляду и по его радостной улыбке можно было бы подумать, что это некий адский дух, упорно стремящийся разорить несчастного Ревельона!
Огонь разгорался и уже охватил сундук (в нем остались лишь ценные бумаги на крупную сумму, которые Оже были ни к чему и даже могли его разоблачить, если бы он имел неосторожность их взять), когда за спиной Оже раздался чей-то возглас:
– О подлец! К тому же вы еще и вор!
Оже обернулся: голос принадлежал Инженю; мертвенно-бледная, она застыла на пороге, едва переводя дух.
Оже выронил подсвечник, покатившийся по полу, и был вынужден прислониться к стене как для того, чтобы держаться на ногах, так и пытаясь скрыть мешок с монетами; он обхватил его руками, и золотые монеты тихонько звякнули.
– Вы? – пробормотал он. – Как вы здесь оказались?
– Да, я! – воскликнула Инженю. – Наконец-то я разоблачила все ваши личины!
Оже провел по лбу вспотевшей ладонью и машинально опустил руку в боковой карман куртки, где нащупал рукоятку довольно большого и очень острого ножа, который в случае необходимости мог служить кинжалом.
Впрочем, Оже еще не знал, на что ему может пригодиться этот нож. Он растерялся и не верил своим глазам.
Инженю (он знал, что она ушла из дома и должна вернуться только вечером) застигла его на месте преступления – за поджогом и воровством!
Эта кроткая и непорочная женщина, олицетворение невинной добродетели, предстала перед ним словно Немезида: ее глаза горели местью, ее жесты грозили карой.
Почему она оказалась в кассе? Объяснить это совсем легко.
В час дня Инженю, как обычно, вышла из дома; то был день исполнения ее нежных грез: близ Клиньянкура у нее было назначено свидание с Кристианом.
Свидание, как всегда, промелькнуло мгновенно: находясь вдвоем, молодой человек и молодая женщина теряли представление о времени; лишь с наступлением вечера они поняли, что пора возвращаться.
Кристиан проводил Инженю почти до дома; условившись о дне и часе нового свидания, они расстались.
В тот день они, конечно, слышали в предместье шум; но, поскольку невозможно было понять, чем он вызван, а значит, нужно ли его опасаться, Кристиан задворками провел Инженю почти до самой садовой калитки и здесь расстался с ней.
Инженю нашла калитку открытой; потом она заметила клубы дыма над домом, услышала крики во дворах и жилых помещениях.
Подойдя ближе, она увидела бегущих с громкими криками людей и поняла, что весь этот шум, все эти вопли доносятся из дома Ревельона.
Смелая, как любое целомудренное и чистое создание, Инженю подумала, что Ревельон, конечно, подвергается опасности, и вбежала в комнаты.
Их заполняли разъяренные люди, которые искали фабриканта.
Так как нетрудно было убедиться, что они его не нашли, Инженю решила, что, по всей вероятности, Ревельон, либо спасаясь от расправы мятежников, либо пытаясь спасти свои деньги, укрылся в кассе, и прибежала туда.
Мы видели, что она вошла в кассу в ту самую минуту, когда Оже поджигал сундук и дом, чтобы украсть золото.
Именно тогда Инженю, увидев эту чудовищную картину, забыла обо всем и закричала: «О подлец! К тому же вы еще и вор!»
Оже, опомнившись от первого потрясения, понял всю опасность своего положения.
Эта женщина должна стать либо его сообщницей, либо его жертвой.
Он слишком хорошо знал Инженю и ее нравственные принципы, чтобы хоть на миг понадеяться, что она согласится молчать.
Однако он все-таки попытался уговорить Инженю и дрогнувшим голосом сказал:
– Дайте мне пройти! Наши судьбы уже ничто не связывает: вы беспрестанно обижали и унижали меня. Я вам больше не муж, вы мне не жена; дайте мне пройти!
Инженю поняла: настал час, который должен навсегда разлучить ее с мужем, тот час, о котором она постоянно молила Небеса.
– Пропустить вас? – спросила она.
– Так нужно! – воскликнул Оже.
– Отпустить вас с золотом господина Ревельона?
– Кто вам сказал, что это золото господина Ревельона?
– Не вы ли взяли его из кассы?
– Разве я не могу держать собственные деньги в кассе господина Ревельона?
– Где господин Ревельон?
– Разве вы оставили его под моим присмотром?
– Берегитесь, несчастный! Вы даете мне тот же ответ, что Каин дал Богу после убийства Авеля.
Оже молчал, но попытался пройти.
Однако Инженю, загораживая дверь, громко кричала:
– Вор! Вор!
Он остановился, не зная, как быть дальше: его невыносимо искушал дьявол.
– Вор! Вы, наверное, и убили господина Ревельона! – продолжала кричать Инженю. – Это вы подожгли его дом, вы погубили все, чем сами пользовались. Вор и убийца! Отдайте хотя бы это золото, которое завтра останется, быть может, у ваших благодетелей единственной возможностью прожить.
– Ах, вот как! Вы называете меня убийцей? – с угрюмой улыбкой спросил Оже.
– Да! Убийца! Убийца!
– И при этом хотите, чтобы я вернул вот это золото? – Оже бесстыдно показал Инженю мешок с монетами.
– Конечно, я хочу, чтобы вы его отдали.
– Если я его не отдам, вы на меня донесете?
– Да! Хочу, чтобы все знали, какое вы развращенное чудовище!
– Ну, нет! Вы не скажете ничего, не скажете, госпожа Оже! – прошипел негодяй голосом, в котором не осталось ничего человеческого.
И он снова опустил руку в карман.
Инженю заметила это движение и поняла его смысл.
– Держите вора! – закричала она, пытаясь открыть окно, стекла в котором начали разлетаться на мелкие осколки под воздействием жаркого пламени.
Но довольно густой дым, заполнявший комнату через разбитые стекла, помешал Инженю снова позвать на помощь.
Оже бросился на нее, схватил за горло и, запрокинув назад ее голову, вонзил в грудь, чуть выше сердца, нож, который он раскрыл еще в кармане.
Хлынула кровь, и Инженю с приглушенным хрипом упала на пол.
Оже, судорожно прижав к груди мешок с золотыми монетами (за него он только что заплатил убийством), словно тень, быстро выскользнул в открытую дверь, но споткнулся о две ступеньки, отделявшие комнату от прихожей.
В эти несколько мгновений он мог услышать, как в комнате, откуда он выбежал, обрушились стена и потолок, и увидеть, как сквозняк раздул пламя.
Но Оже не мог видеть и не увидел, что в ту же секунду в обгоревшем окне показались два белых края лестницы и по ней в комнату пролез мужчина с почерневшим от копоти лицом и опаленными огнем волосами.
– Инженю! – звал он. – Инженю!
Это был Кристиан; он ничего не замечал, не слышал шума и не обращал внимания на громкие крики, пока был рядом с Инженю, но едва она ушла, сразу сообразил, что в предместье случилось нечто из ряда вон выходящее.
Он выскочил из фиакра, подбежал к ближайшей группе людей и узнал, что происходит.
Рабочие Ревельона грабят и жгут дом своего хозяина, объяснили ему, убивают всех, кто в нем живет.
Но там жила Инженю с отцом!
Только что, простившись с ним, Инженю вошла в дом.
Что с ней будет в этой чудовищной неразберихе?
Наверное, еще не поздно догнать и спасти ее!
Кристиан бросился следом за возлюбленной.
Он прекрасно знал садовую калитку, через которую Инженю дважды выходила к нему на свидание, и прибежал туда.
Потом Кристиан, продираясь сквозь толпы людей – при этом он то награждался ударом, то получал рану, то обжигал ноги, то рвал одежду во многих местах, – все-таки сумел проникнуть в маленький двор.
Отсюда он и заметил в окне две движущиеся тени. Кристиан узнал Оже и догадался, что там Инженю.
Кстати, пламя было достаточно ярким, чтобы он снизу смог разглядеть ее лицо.
Послышался крик.
Он показался Кристиану зовом о спасении; кричавшая женщина просила помощи.
Поэтому Кристиан, терзаемый тревогой, огляделся и, заметив под навесом никем не тронутую еще лестницу, схватил ее, приставил к стене; выбив кулаком раму, он, зажав в зубах шпагу, проник в кассу в ту минуту, когда несчастная женщина, жертва собственных честности и храбрости, упала среди дымящихся обломков.
Спрыгнув на пол, Кристиан позвал истошным голосом:
– Инженю! Инженю!
В ответ на этот крик, на это имя, чья-то белая фигура поднялась из-под кучи обломков и встала на пути Кристиана.
Шепот, напоминающий возглас радости и благодарности, сорвался с уст молодой женщины.
Этот нечленораздельный возглас свидетельствовал о
том, в какой мучительной агонии находилась та, что его издала.
Кристиан узнал голос Инженю, а затем увидел ее – окровавленную и теряющую последние силы.
Прежде чем она снова упала, он обнял ее за талию и подхватил на руки. Нельзя было ни секунды оставаться в этом пекле: Кристиан нес молодую женщину, а кровь ручьем хлестала из раны, нанесенной кинжалом Оже, заливая плечо юноши и оставляя длинный след на дымящихся обломках; Кристиан нес ее, свою скорбную и дорогую ношу, мимо убитых и раненых, под градом пуль и под свист камней; Кристиан нес ее, задыхающийся от дыма, обожженный пламенем, израненный обломками рухнувшего потолка; Кристиан нес ее через зияющие провалы в лестницах, через дворы и остановился лишь в саду.
Он не сделал по двору и десяти шагов, как у него за спиной маленькое строение обрушилось и до неба взметнулся вихрь огня, пыли и душераздирающих воплей; грохот был слышен издалека, отблески пламени видны далеко вокруг!
LVIII. ПОРТРЕТ
Никто не заметил пробегавшего мимо молодого человека, настолько все были заняты собой, настолько яростно каждый был поглощен либо грабежом, либо разрушением.
Одни дрались, другие крушили все подряд, третьи воровали.
В этом несчастном доме, ставшем жертвой невиданной оргии алчности, мести и ярости, господствовало ни с чем не сравнимое соперничество воровства, разрушения и убийства.
Пока солдаты французской гвардии, ведущие бой за оградой, постепенно завладевали улицей и домами, из окон которых было удобно вести огонь по дому Ревельона, теснимые ими грабители скапливались в винных погребах, высаживали у бочек днища и до одури пили все, что попадалось под руку: водку, вино, винный спирт, ликеры и скипидар.
Поэтому многие из этих негодяев, предпочитая погибнуть пьяными, умирали от отравления.
Кристиан разорвал носовой платок, намочил обрывки ткани в садовом пруду и, приложив холодный компресс на грудь Инженю, побежал с ней дальше, не веря, что сможет унести ее слишком далеко от рокового дома.
На бегу Кристиан множество раз прижимал к своему сердцу трепещущее сердце Инженю, осыпал поцелуями ее губы, уже отмеченные печатью смерти, и в неистовом порыве отчаяния двигался, сам не зная куда, прося у Бога только одного: умереть вместе с Инженю и вместе с ней лечь в землю!
Итак, Кристиан, обезумевший, с дико горящими глазами бежал с драгоценной ношей, держа руку на сердце девушки и ощущая его последнее трепетание; иногда он, теряя голову от горя, со стоном останавливался, чтобы перевести дух и покрасневшим платком вытереть раненой кровь.
Мысли покинули его: видя, что Инженю становится все бледнее и холоднее, с каждой секундой приближаясь к смерти, Кристиан и для себя молил только смерти.
Неожиданно Кристиана остановил его добрый ангел. «Почему бы не попытаться спасти Инженю?» – шепнул он ему. Кристиан вскрикнул от радости: ему представились совсем иные действия. «Да, спасти ее, – бормотал он. – Я спасу ее, спасу! И жизнью она будет обязана мне!»
Мимо проезжал фиакр; Кристиан окликнул его.
К счастью, экипаж оказался незанятым и подъехал к молодому человеку.
– Бог мой! Что случилось, мой юный сеньор? – спросил кучер.
– Случилось, друг мой, то, что меня с сестрой застиг бунт в предместье Сент-Антуан, – ответил Кристиан, – и ее ранили.
– Ах, какая жалость! – воскликнул кучер, спрыгнув с козел фиакра. – И даже ранили очень опасно, ведь ваша одежда залита кровью.
Добрый человек распахнул дверцу фиакра, куда забрался Кристиан, положив Инженю к себе на колени.
– Вам ведь нужен хирург, мой юный сеньор? – спросил кучер.
– Да, конечно. У тебя есть на примете?
– Да, сударь. Знаете, он очень известный!
– Тебе известна его фамилия?
– Я не знаю ее.
– Не знаешь, как его зовут?
– Он называет себя хирургом бедняков – и все.
– Поезжай! Гони!
Кучер хлестал лошадей столь сильно, что заставил их понять, что дело срочное, и они побежали так резво, как никогда раньше.
Через четверть часа фиакр остановился перед маленькой дверью на узкой, темной и совершенно незнакомой Кристиану улице.
Кучер слез с козел, позвонил или, вернее, сорвал колокольчик над маленькой дверью, и та тотчас открылась; потом возница помог Кристиану вытащить Инженю из экипажа.
– Это здесь! – сказал он. – Теперь она в надежных руках, идите!
– Но куда я должен идти?
– На третий этаж… Эй, постойте-ка, я уже слышу, как открывают дверь. Действительно, едва дверь в проход к дому отворилась, как между стойками железных перил показался свет горящей свечи.
И сверху послышался пронзительный, тонкий голос, который спросил:
– Ну, что там, кто тут трезвонит?
– У нас раненая, – ответил кучер и, повернувшись к Кристиану, сказал: – Поднимайтесь, мой юный сеньор, поднимайтесь! Эта экономка хирурга, о котором я вам говорил. Давайте я вам помогу!
– Благодарю, не надо, – ответил Кристиан, ставя ногу на первую ступеньку лестницы.
– Да, конечно! Сил, по-моему, у вас хватит, ведь мадемуазель легкая как перышко… Но крови-то, Бог мой, крови сколько! Я подожду вас внизу, на тот случай, если еще понадоблюсь.
Кристиан поднимался по лестнице медленно, но не потому, что тяжело было нести девушку, а потому, что с каждым шагом, который он делал, по краям раны выступала свежая, алая кровь.
В ту минуту, когда он взошел на площадку второго этажа, дверь приоткрылась и на секунду из нее высунулись любопытствующие старухи; увидев залитого кровью молодого человека, несущего умирающую девушку, они закричали и тотчас захлопнули дверь.
Яркая свеча по-прежнему светила на третьем этаже. Словно дрожащие огни маяка, она указывала Кристиану, куда следовало ставить ноги на этих кривых ступеньках, замызганных, узких и скользких.
В доме стоял отвратительный, тошнотворный запах.
Воздух был промозглый; по плохо оштукатуренным стенам катились струйки воды.
Наконец Кристиан добрался до женщины, освещавшей ему путь; на голове у нее по самые уши был надвинут грязный чепец.
Она принадлежала к тем работницам по дому, какие встречаются только в Париже, где можно найти и убогую роскошь.
Подобных созданий берут в услужение не столько для того, чтобы они заботились о вас, сколько для того, чтобы вы заботились о них.
Но Кристиан пришел сюда не для изучения парижских нравов. Едва бросив взгляд на безобразную экономку, он быстро вошел в квартиру и стал искать, куда положить свою ношу.
Он не заметил ни ковра, ни дивана; в задней комнате стояла кровать – такова была вся обстановка.
Кристиан направился к кровати, но женщина закричала:
– Эй, что вы делаете?.. Это же кровать хозяина! Ну и ну, этого только не хватало.
Кристиан, оскорбленный до глубины души, остановился.
– Но куда, извольте сказать, я могу положить эту несчастную раненую? – спросил он.
– Куда угодно, только не на кровать, – ответила старуха.
– Почему? – спросил Кристиан.
– Да потому, что кровь запачкает хозяйскую постель. Кристиану стало противно.
Постель хозяина не казалась ему достойной того, чтобы на нее пролилась эта девственная и драгоценная кровь, которая, как боялась безобразная экономка, ее запачкает.
Он ногой подтянул к себе соломенное кресло, потом придвинул другое и устроил на этом подобии дивана молодую женщину.
Старуха ворчала, но не мешала. Уложив Инженю на импровизированную постель, Кристиан поднял голову и спросил:
– Значит, хирурга нет дома?
Пламя свечи, что держала экономка, осветило его лицо.
– Смотри-ка, господин Кристиан! – воскликнула она.
– Вы знаете меня? – удивился молодой человек.
– Конечно, – сказала старуха, – и даже скажу, нехорошо, что вы не узнаете меня, господин Кристиан, после того, как я вас выходила.
Кристиан посмотрел на нее и вскричал:
– Альбертина!
– Ну да, Альбертина.
– Так я попал к господину Марату?
– Конечно.
– Как! Разве он покинул конюшни д'Артуа?
– Господин Марат отказался от должности, он больше не желает прислуживать тиранам.
Кристиан скорчил презрительную гримасу.
На миг у него мелькнула мысль перевезти Инженю в другое место.
Но куда?
Впрочем, он вспомнил, как заботливо выхаживал его Марат, с каким искусство лечил, когда он, израненный, был принесен к нему в дом, как сегодня принесли Инженю.
– Вот как, я попал к господину Марату… Но где он?
– Откуда мне знать! – проворчала Альбертина. – У него свои дела, он мне не сообщает, куда уходит.
– Ах, моя дорогая госпожа Альбертина! – воскликнул Кристиан. – Срочно найдите его, умоляю вас! Разве вы не видите, что несчастное дитя умирает!
– Срочно, срочно, легко сказать! – бормотала экономка, искоса бросив на восхитительное личико взгляд, исполненный глубочайшей ненависти к красоте, молодости и прелести. – Срочно! Я ведь говорю вам, что не знаю, где хозяин.
– О! Ищите его там, куда он имеет обыкновение ходить.
И Кристиан, вспомнив о жадности Альбертины, достал из кармана несколько луидоров и сказал:
– Вот, возьмите, дорогая госпожа Альбертина, прошу вас!
Альбертина жадно схватила деньги и действительно собралась уходить, чтобы хотя бы сделать вид, будто отправляется на поиски Марата, когда в комнате послышался вздох.
Кристиан ответил на него радостным возгласом: Инженю очнулась.
Он упал на колени перед ее креслом; Альбертина склонилась к Инженю, но не из сострадания, а из любопытства.
Девушка с трудом открыла глаза, и ее первый взгляд упал на Кристиана. Когда она узнала молодого человека, с ее щек, казалось, спала мертвенная бледность.
Нечто похожее на радостную улыбку озарило лицо несчастной.
Кристиан, стоя на коленях возле Инженю, ждал ее первого слова, и казалось, что от него зависит вся его жизнь.
Но девушка только прошептала едва внятным голосом:
– Где я?
– У очень искусного хирурга, милая моя, – ответил Кристиан. – У того, кто спас меня и спасет вас.
Слабая улыбка осветила чистое лицо девушки.
– Да, – прошептала она, – да, спасет!
И, словно пытаясь разглядеть место, куда она попала, Инженю обвела глазами комнату.
Вдруг ее глаза широко раскрылись и уставились в угол квартиры с таким ужасом, словно там она увидела Смерть, притаившуюся в темноте.
Кристиан посмотрел в ту же сторону, куда устремился испуганный взгляд Инженю, и увидел деревянную, с облупившейся позолотой раму: как живой, именно как живой, на него смотрел портрет, выражение лица которого было и угрожающим, и насмешливым.
Портрет, выполненный талантливой кистью, – по колориту он был скорее темным, чем ярким, – загораживал срезанный угол комнаты.
Мы уже отметили, что портрет был как живой и в отсутствии хозяина, казалось, следил в доме за каждой мелочью.
Инженю вскрикнула. Потом она, показав пальцем на картину, спросила сдавленным голосом:
– Кто этот человек?
– Как кто? Мой хозяин, господин Марат, – ответила старуха. – Портрет очень красивый: сделал его господин Давид, художник из друзей хозяина.
– Это он! – воскликнула Инженю, присев на ложе, устроенном для нее Кристианом.
Больше ничего она произнести не смогла; Кристиан со страхом ждал.
– Это хирург? Он? – наконец пролепетала Инженю.
– И что, если он хирург? – спросил Кристиан, охваченный, подобно Инженю, необъяснимым чувством тревоги.
– Этот человек будет делать мне перевязку? Прикасаться ко мне? – кричала Инженю. – О нет, никогда, ни за что!
– Успокойтесь, Инженю, – попросил Кристиан, – я уверен в его способностях.
– Это чудовище снова поднимет на меня руку?
И она с еще более резко выраженным чувством отвращения повторила:
– Нет! Никогда, ни за что!
– Но о чем она говорит? – еле слышно спросил себя Кристиан.
– Хозяин, конечно, не красавец, – сказала Альбертина, вымученно улыбаясь. – Но он не чудовище; к тому же молодой человек, – показала она на Кристиана, – может подтвердить, что рука у него легкая.
– О нет! – воскликнула Инженю, цепенея от страха и омерзения. – Сейчас же увезите меня отсюда! Кристиан, увезите меня!
– Да она бредит, – заметила старуха. – Нам это знакомо; не обращайте внимания на то, что она там несет.
– Дорогая, милая моя Инженю, не волнуйтесь! – шепнул молодой человек на ухо раненой. – На вас действует лихорадка.
– О нет, нет!
– Но вы не знаете, вы не можете знать господина Марата!
– Нет, знаю! Я знаю его! И моя добрая подруга Шарлотта Корде тоже знает.
– Шарлотта Корде? – в один голос переспросили Кристиан и Альбертина.
– Я не желаю, чтобы он прикасался ко мне… Да, не желаю!
– Инженю…
– Увезите меня, Кристиан! Я требую, чтобы вы увезли меня.
– Но вы умрете, Инженю!
– Лучше смерть, чем помощь этого человека.
– Инженю, дорогая, возьмите себя в руки, будьте благоразумны, – настаивал Кристиан.
– Я еще не сошла с ума, я в здравом уме, – кричала молодая женщина, с испугом присев на своем ложе, – и если этот человек приблизится ко мне…
– Милая…
– Ага, кто-то идет, – заметила Альбертина. – Это хозяин.
Инженю с силой, которой в ней нельзя было бы подозревать после такого количества потерянной крови, подбежала к окну.
– Кристиан, если этот человек коснется меня, клянусь честью, я выброшусь из окна, – объявила она.
– О Боже!
– Увезите же меня, умоляю вас! Разве вы не понимаете, что убиваете меня?
Не успела она договорить, как дверь открылась и на пороге появился Марат.
В одной руке он нес подсвечник, в другой – пачку бумаг; волосы у него были грязные, лицо грязное, горящие глаза смотрели искоса; он двигал свое искривленное тело словно полураздавленный паук.
Инженю, увидев, что на пороге остановился, завораживающе улыбаясь, тот человек со Змеиной улицы, но уже не на портрете, а собственной персоной, застонала и опять потеряла сознание.
Кристиан, думая, что она сейчас умрет, подхватил ее на руки и побежал вниз по лестнице.
Напрасно Марат спрашивал его о причине этого бегства, напрасно он, узнав Кристиана, выкрикивал с верхней лестничной площадки нежные слова и пугающие предостережения, Кристиан бежал еще быстрее, подгоняемый этим голосом, который пытался его задержать.
Кристиан остановился только перед фиакром, в который и сел.
– Куда едем, мой юный сеньор? – осведомился кучер.
– Куда хочешь, – ответил Кристиан.
– Как это, куда хочу?
– Поезжай! Гони, гони!
– Но куда все-таки…
– На край света, если хочешь, только поезжай! Ошеломленный кучер стегнул лошадей и двинул с места; Марат же кричал из окна: «Кристиан! Кристиан!»
Молодой человек слышал его и спрашивал себя, чем объясняется такая фамильярность и почему Марат называет его по имени.
Но голос Марата, хотя Кристиан так и не мог уяснить почему, внушал ему чувство смутного страха.
– Гони! – крикнул он кучеру, все еще не зная, куда ехать. – Гони! Внезапно Кристиана осенило и он крикнул:
– В Лувр! В Лувр!
Марат тем временем сердито захлопнул окно.
– Кто эта дурочка, которую ко мне принес Кристиан? – поинтересовался он.
– Я ее не знаю, – ответила экономка. – Я только знаю, что она, увидев ваш портрет, стала кричать, будто вы чудовище.
– Ха-ха! – с горечью усмехнулся Марат. – Будь здесь мой друг Давид, он бы очень порадовался; ее слова доказывают, что его портрет похож. Так ты не знаешь, как зовут эту девушку? – нахмурившись, спросил Альбертину хирург бедняков.
– Да нет, Бог ты мой. Но она называла свою подругу.
– А-а, подругу. Ну, а ту как зовут?
– Шарлотта Корде.
– Шарлотта Корде, – повторил Марат, – не знаю такую.
И он прошел к себе в кабинет, бормоча:
– Вот как, я – чудовище!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































