Текст книги "Инженю"
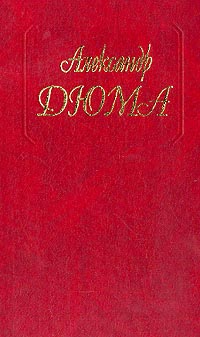
Автор книги: Александр Дюма
Жанр: Литература 19 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
XXXV. ГЛАВА, В КОТОРОЙ ДАНТОН НАЧИНАЕТ ДУМАТЬ, ЧТО КНИГА О МОЛОДОМ ПОТОЦКОМ НЕ СТОЛЬКО РОМАН, СКОЛЬКО ПРАВДИВАЯ ПОВЕСТЬ
Раненый, устремившийся телом и душой к матери, понадеялся на силы, каких у него не было, поэтому он почти без чувств опять упал на подушку.
Мать вскрикнула, прося о помощи, но к ней подошел один Дантон и успокоил ее, показав на сына, снова открывшего глаза, и женщина почувствовала, как ее обхватили за шею вновь ожившие руки сына.
Марат застыл на месте и из темного угла, где он укрывался, казалось, пожирал глазами картину, которую являли ему мать и ее сын.
Мать была еще красивая, хотя уже и не молодая женщина. Черты ее лица, искаженные пережитым волнением, отличались ярко выраженным благородством и надменностью, тогда как светло-голубые глаза и белокурые волосы выдавали в ней северную женщину, явно происходившую из очень родовитой аристократии.
Поза женщины, склонившейся над сыном и припавшей губами к его лбу, подчеркивала ее прекрасно сохранившуюся фигуру и очень красивые ноги.
Молодой человек снова раскрыл глаза, и мать с сыном обменялись одним из тех взглядов, что таят в себе бесчисленное количество молитв Провидению за его милость и бесконечную благодарность Богу.
Потом Кристиан, утаив, откуда он шел и почему попал на площадь Дофина, коротко рассказал матери о том, как его ранили и как он, будучи пажом его светлости графа д'Артуа, просил перенести его в конюшни принца; рассказал, как по настоянию Дантона (Кристиан показал на него пальцем, поскольку не знал даже имени этого человека), его положили на носилки и доставили в предместье Сент-Оноре; поведал о том, как разыскали хирурга конюшен, а тот спас его от двух своих коллег, которые непременно хотели ампутировать ему ногу, и как, в конце концов, забота и внимательность врача облегчили, насколько это возможно, боли, какие всегда вызывает огнестрельная рана.
Продолжая свой рассказ, молодой человек искал глазами Марата, все глубже забивавшегося в тень.
После того как мать Кристиана изъявила свою любовь к сыну, она обязана была поблагодарить его спасителя.
– Но где же искусный и великодушный доктор? – спросила она, оглядывая комнату и устремляя взгляд на
Дантона, словно просила помочь в поисках хирурга так же, как он помог ей отыскать этот дом.
Дантон взял подсвечник и, пройдя в угол комнаты, откуда Марат наблюдал всю сцену, с улыбкой объявил:
– Вот он, сударыня! Судите его не по костюму или внешности, а по оказанной вам услуге.
И Дантон одновременно осветил лица Марата и матери Кристиана, смотревших друг на друга: женщина взглядом признательным, Марат – почти испуганным.
Как только их взгляды встретились, Дантон сразу сообразил, что в сердцах этих людей происходит нечто такое, чего неспособны понять непосвященные зрители.
Марат, стоявший в двух шагах от стены, при виде этой женщины отшатнулся, словно перед ним появился призрак, и лишь стена, в которую он уперся, помешала ему исчезнуть из комнаты.
Незнакомка же несколько мгновений сохраняла хладнокровие, но вскоре изумление, бледность, приглушенный вскрик Марата, вероятно, напомнили ей обо всем, что время и страдания стерли с некогда знакомого лица, и она, тоже потеряв самообладание, сжала на груди руки и попятилась к изголовью кровати, словно пытаясь найти убежище у сына или, наоборот, взять его под свою защиту, прошептала:
– О Боже, возможно ли это?
Свидетелями этой немой сцены, едва заметной даже для самых проницательных наблюдателей, были только Дантон и Альбертина, обеспокоенно расхаживавшая взад и вперед по комнате.
Что касается Кристиана, то он, устав от сильных болей и переживаний, закрыл глаза и забылся легким сном.
Среди других людей, кто оказывал помощь раненым, находилось несколько слуг из дома принца; одни из них от усталости, другие – из деликатности постепенно разошлись: одни отправились спать, другие – обсуждать ночные события.
Но – удивительное дело! – после ухода этих свидетелей изображенная нами сцена не получила продолжения.
Марат, чувствовавший себя сраженным столь внезапным появлением этой женщины, вновь обрел силы и совладал с волнением.
Мать Кристиана, проведя холодной рукой по лицу, отогнала прочь воспоминания и стряхнула с себя оцепенение.
Дантон, не сводя с них глаз и пятясь, снова поставил на каминную полку подсвечник, оттуда им снятый.
– Сударыня… – пролепетал Марат, неспособный, несмотря на всю свою силу воли, больше выговорить ни слова.
– Сударь, – произнесла мать Кристиана с легким акцентом, выдававшим ее иностранное происхождение, – мы с сыном должны выразить вам глубокую признательность.
– Я исполнил свой долг по отношению к этому молодому человеку, – сказал Марат. – То же самое я сделал бы и для любого другого человека.
Вопреки его воле, голос Марата дрожал, когда он произносил слова: «Этому молодому человеку».
– Благодарю вас, сударь, – сказала она. – А теперь, могу ли я приказать перенести моего сына ко мне в дом?
В сердце Марата шла своеобразная внутренняя борьба. Он подошел к изголовью кровати, внимательно посмотрел на Кристиана, погруженного в глубокое тяжелое забытье, и, не глядя его матери в лицо, заметил:
– Вы же видите, он спит.
– Я спрашиваю вас о другом, сударь, – возразила мать Кристиана. – Я хочу узнать у вас, не опасно ли, если я прикажу перенести сына домой?
– По-моему, опасно, сударыня, – ответил Марат. – Кроме того, уверяю вас, молодому человеку здесь будет неплохо, – прибавил он дрожащим голосом.
– Но как быть мне, сударь? – спросила мать Кристиана, повернувшись и устремив на Марата сверкающие глаза.
Марат поклонился, но не столько из учтивости, сколько пытаясь спастись от пламени этих глаз, обжигавшего ему сердце.
Потом он, постепенно справившись с волнением, предложил:
– Для меня будет честь уступить вам мое бедное жилище. Полное выздоровление вашего сына зависит от первых перевязок и от неподвижности, которую ему надлежит сохранять. Я буду навещать его два раза в день; вы будете знать время моих визитов и сможете либо присутствовать на них, либо нет. Все остальное время вы будете проводить с ним наедине.
– Но где будете жить вы, сударь?
– О сударыня, обо мне не беспокойтесь, – ответил Марат тоном, в котором звучало смирение раскаявшегося грешника.
– Однако, сударь, после услуги, оказанной вами Кристиану, следовательно, и мне, я не могу выгнать вас из вашего собственного дома!
– О, это мне совершенно безразлично! Лишь бы молодому человеку было хорошо и он избежал бы опасности перемещения!
– Но куда пойдете вы?
– В Конюшнях найдется свободная мансарда для прислуги.
Мать раненого поморщилась.
– А лучше, – поспешил прибавить Марат, – если господин Дантон, он, по-моему, вас и привел… известный адвокат и мой друг…
Мать Кристиана кивнула в знак благодарности.
– … не откажет приютить меня на время, необходимое для выздоровления вашего сына, – закончил Марат.
– Разумеется, сударыня, – подтвердил Дантон, который, глядя на эти охваченные смятением лица, терялся во множестве догадок и неожиданностей и принимал участие в действии лишь время от времени.
– Хорошо, я согласна, – сказала дама, сбросив свою накидку на старое кресло, стоявшее поблизости от нее, и села у изголовья Кристиана.
– Что я должна делать, ухаживая за ребенком? – спросила она.
– Подливайте в сосуд холодную воду, которая капает ему на бедро, и каждый час давайте ароматизированное питье: его принесет Альбертина.
После этого Марат, неспособный больше поддерживать разговор, поклонился и прошел в соседнюю комнату, вернее, в кабинет, где сменил старый халат на почти чистый сюртук, взял шляпу и трость.
– Не забудьте вашу рукопись, – заметил Дантон, проследовавший за Маратом и наблюдавший, как тот готовится к уходу. – У меня вы сможете работать без помех.
Тот, совершенно растерянный, его не слышал и взял друга под руку.
Дантон почувствовал, как дрожала эта рука, когда Марат (чтобы выбраться из дома, он был вынужден пройти через комнату раненого) обменялся с незнакомкой прощальным поклоном.
Когда Марат вышел на лестницу, ему пришлось отвечать на вопросы слуг: невзирая на поздний ночной час, они ждали новостей о раненом юноше – он вызывал большой интерес, ибо многие узнали в нем пажа графа д'Артуа.
Но, едва они вышли на улицу, Дантон сказал:
– Ну, дорогой мой, давайте-ка поговорим немного об этой исповеди.
– Ох, друг мой! Какое приключение! – воскликнул Марат.
– Кого, Потоцкого? Подлинного Потоцкого? Это эпилог нашего польского романа?
– Да, но, ради Бога, не смейтесь.
– Хорошо! Неужели вы дошли до этого, бедный мой Марат? Я считал, что вы готовы смеяться над всем.
– Эта женщина, – продолжал Марат, – эта женщина с ее сарматской красотой, становящейся все более надменной, эта мать, столь нежная и столь пекущаяся о здоровье своего сына…
– Что?
– Вы знаете, кто она?
– Будет забавно, если она окажется вашей незнакомкой, мадемуазель Обиньской!
– Это она, друг мой!
– Вы сами-то уверены в этом? – спросил Дантон, снова попытавшись пошутить.
Марат напустил на себя суровый вид и сказал:
– Дантон, если вы хотите оставаться мне другом, не позволяйте себе шуток насчет той поры моей жизни. С ней связано слишком много страданий; слишком много моей крови, драгоценной крови юности, пролилось тогда, чтобы я мог равнодушно обращаться к этому тяжкому прошлому. Поэтому, если вы называете себя моим другом, постарайтесь хотя бы не терзать пустыми словами несчастного, который уже истерзан теми муками, что он претерпел, и слушайте меня серьезно, так, как вы слушали бы рассказ живого человека, а не чтение романа.
– Пусть будет по-вашему, – ответил Дантон с серьезностью, какой требовал от него друг. – Но прежде я вам должен кое в чем признаться.
– Признавайтесь.
– Вы не рассердитесь?
– Я ни на что не сержусь, – ответил Марат, улыбаясь своей улыбкой гиены. – Признавайтесь смело.
– Хорошо, я признаюсь, что не поверил ни единому слову в рассказе о тех похождениях, о которых вы соблаговолили поведать мне сегодня.
– Вот как! – усмехнулся Марат. – Понимаю…
– Что вы понимаете?
– Вы не пожелали поверить, что и я был молодой.
– Э!
– И красивый.
– Что поделаешь! По сравнению со мной святой Фома был доверчив!
– Вы не поверили, что я был мужественный, смелый, что меня все же можно было полюбить. Ну ладно! Да, вы правы; понимаю: вы не хотели поверить тому, что я рассказал о себе.
– Конечно, но теперь приношу повинную и утверждаю: я поверю во все, во что вам будет угодно заставить меня поверить.
– И это доказывает, – проворчал Марат, словно обращаясь к самому себе, – доказывает, как труслив и глуп, безрассуден и нелеп тот, кто распахивает плотины собственного сердца, позволяя потоку его жизненных воспоминаний напрасно, бесплодно утекать в ненасытный сухой песок, в жалкий и скудный песок. Я оказался трусом, ибо не сумел утаить свое горе; я глупец, ибо на миг счел вас великодушным человеком; я безумец и скотина, ибо выдал мою тайну из тщеславия, да, из тщеславия! Да, таков я, ведь моя смешная доверчивость не убеждает даже Дантона.
– Хватит, Марат, хватит, не будем ссориться, – сказал колосс, встряхнув своего спутника, которого держал под руку. – Я же приношу повинную, какого черта вам еще надо?
– Но если вы не смогли поверить, что когда-то я был красив, – возразил Марат, – то вы способны хотя бы поверить, что она была прекрасна?
– О да! – воскликнул Дантон. – Она, наверное, была поразительно красива! Я вам верю и сочувствую.
– Ах, благодарю, – иронически ответил карлик, вновь став злобным, – благодарю!
– Но, постойте-ка, – заметил Дантон: его вдруг осенила новая мысль.
– В чем дело?
– Я сопоставляю даты.
– Какие даты?
– Сравниваю возраст молодого человека с той страницей романа, на какой мы остановились.
– И что же? – с улыбкой спросил Марат.
– То, что этому парню не больше семнадцати.
– Вполне возможно.
– Значит, ничего невозможного нет…
– В чем?
– В том, чтобы он был…
И Дантон пристально посмотрел на Марата.
– Ах, оставьте! – с горечью воскликнул тот. – Разве вы не заметили, как он красив? Вы прекрасно понимаете, что он не может быть тем, за кого вы его принимаете.
И с этими словами они вошли в дом адвоката на Павлиньей улице.
Они прошли через весь Париж, не найдя других следов вечерних беспорядков, кроме расположенных почти напротив друг друга еще дымящихся остатков костра от чучела г-на де Бриена и догорающей кордегардии городской стражи.
Правда, если было бы светло, друзья смогли бы увидеть пятна крови на мостовой: они тянулись от Гревской площади до начала улицы Дофина.
XXXVI. У МАРАТА
Теперь, когда мы проводили Марата в дом его друга Дантона, вернемся к оставленному нами на его скорбном ложе Кристиану, гораздо сильнее страдающему от душевных мук, чем от телесной раны.
Его мать (как мы видели, она прибежала в Конюшни, получив известие о происшедшем с Кристианом несчастье) устроилась у изголовья кровати и старалась, ухаживая за сыном с величайшей нежностью, утешать его самыми ласковыми словами; но молодой человек, вместо того чтобы прислушиваться к материнским утешениям и дать убаюкать себя теми чудесными проявлениями доброты, тайна которых ведома только женщине, уносился мыслью в другое место и хмурился, вспоминая свою любовь, оборвавшуюся столь внезапно.
Матери Кристиана, женщине с суровым сердцем и бледным лицом, понадобилось несколько дней, чтобы понять, что в душе больного молодого человека живет тайна, кровоточит другая рана, более опасная, нежели огнестрельная; видя сына молчаливым и неожиданно вздрагивающим, она объясняла это молчание и эти тревоги Кристиана физической болью, с которой он боролся, но которую не мог сдерживать, несмотря на все свое мужество.
Вскоре боль молодого человека передалась матери; она страдала муками сына и, убеждаясь, что болезнь с каждым днем обостряется, а у нее нет возможности ее победить, впадала в отчаяние.
Это железное сердце (мы считаем, что обрисовали его достаточно правдиво, чтобы не вдаваться здесь в новые подробности), это, повторяем, железное сердце постепенно смягчилось; стоя на коленях перед кроватью, где лежал Кристиан, она целыми часами ждала, вымаливала улыбку, но та не появлялась, а если и возникала, то была скорбной, как рыдание, вымученной, как милостыня.
Теперь она с тревогой ждала Марата, столь ненавидимого человека, более того – столь презираемого ею всей душой; если его визиты задерживались, она осведомлялась у всех о возможном времени его прихода, ибо прекрасно понимала, что если кто-то и заботится о Кристиане с усердием, равным ее страстности, то именно Марат.
Поэтому она с нетерпением ждала прихода Марата, едва заслышав его шаги или его голос, открывала дверь, спеша навстречу, и, вопреки своему глубокому отвращению к разговору с ним, начинала его расспрашивать, засыпала вопросами, умоляла ускорить дело природы – выздоровление сына.
Но Марат чувствовал, что ледяное сердце женщины никогда не растопит пламенная любовь матери; он понимал: если бы она могла убить его, но с условием, что каждая капля пролитой крови вернет сыну хотя бы толику здоровья, то сладострастно вонзила бы ему в сердце кинжал.
И он сам всегда приходил к Кристиану, испытывая большой страх, глубокое беспокойство. Легко догадаться, как Марат страдал в обществе этой женщины; но все-таки он, наверное, страдал гораздо меньше, чем тогда, когда не видел Кристиана. Он был скептиком во всех объективных фактах, даже в науке, не будучи твердо убежденным лишь в том, в чем избранные натуры и не желают быть убеждены.
Поэтому на вопросы безутешной матери он, подойдя к кровати и приподняв укрывавшее молодого человека одеяло, отвечал, указывая на аппарат, из которого на рану капала вода:
– Посмотрите, работа совершается медленно, но беспрерывно; излечение этой раны ни в чем не способны ускорить ни врачебное искусство, ни наука: природа шествует ровным и твердым шагом; там, где она действует активно и безоговорочно, как в данном случае, рука врача ни к чему… Кстати, видите, воспаление прошло, плоть пытается возродиться, сломанные кости сомкнулись и сами срастаются на соответствующих неровных поверхностях трещин.
– Но если Кристиан, как вы говорите и как я на то надеюсь, выздоравливает, тогда почему у него держится температура? – спрашивала встревоженная мать. – Воспаление прошло неделю назад; вместе с ним, по-моему, должен был пройти и жар.
Марат прослушивал пульс молодого человека, и тот иногда пытался со стоном выдернуть из его ладони свою руку.
– Не знаю, что вам ответить! – отвечал он, тоже обеспокоенный, наверно, даже больше, чем она. – За этим скрывается необъяснимое явление.
– Необъяснимое?
– Я хочу сказать, – продолжал с нерешительным видом Марат, – что мне не дозволено его объяснять…
– Скажите мне все, сударь: я не хочу страдать от неожиданности – моя душа способна заранее смириться с несчастьем.
Говоря о своей душе, стойкость которой так хорошо была знакома Марату, графиня всю свою страстную силу отдавала сыну.
Марат молчал.
– Прошу вас, сударь, подскажите мне решение! – воскликнула огорченная графиня.
– Так вот, сударыня, своими мыслями ваш сын подрывает здоровье собственного тела.
– Неужели это правда? – спросила графиня, взяв руку, которую Кристиан тщетно пытался у нее отнять. – Сын мой, это правда?
При этих словах яркий румянец выступил на лбу Кристиана; но, понимая, что отвечать необходимо, он повернул голову в ее сторону и сказал:
– Нет, мама, нет, уверяю вас, доктор ошибается. Марат грустно – мы чуть было не написали «гнусно» – улыбнулся и недоверчиво покачал головой.
– Уверяю вас, доктор! – повторил Кристиан.
– Но он, конечно, скажет мне об этом! – воскликнула графиня. – Ведь он любит свою мать!
– О да! – произнес Кристиан с таким чувством, которое не позволяло подвергнуть сомнению ни искренность, ни силу этой любви.
– Кстати, какое у него может быть горе? – спросила графиня, повернувшись к Марату.
Молодой человек молчал. Марат, окинув обоих своим непередаваемым взглядом, пожал плечами; потом он попрощался на свой лад, стремительно поклонившись и решительно нахлобучив на голову шляпу.
Но графиня остановила его, протянув к нему руку, и, словно под властью магнетической силы, Марат застыл на месте.
– Сударь, мы отняли у вас ваше жилище, что доставляет вам огромные неудобства… Где вы живете? Как вы живете? – осведомилась она.
– О! Пусть это вас не волнует, сударыня, – ответил Марат, улыбаясь своей самой язвительной улыбкой. – Где и как я живу, не имеет значения!
– Вы ошибаетесь, сударь, – возразила графиня. – Для моего спокойствия и, наверное, для спокойствия моего сына нам важно знать, что, обосновавшись у вас, мы не до такой степени нарушили вашу жизнь, чтобы вам стала в тягость ваша доброта.
– О нет, сударыня! Всем, кто меня хорошо знает, известно, что мне ничто не бывает в тягость.
– Ах! Если бы можно было перевезти моего сына! – воскликнула графиня. Марат метнул на нее почти гневный взгляд, но это выражение глаз быстро исчезло.
– Значит, вы недовольны тем, как я лечу молодого человека? – спросил он.
– Помилуйте, сударь! – поспешил ответить Кристиан. – Мы были бы совсем неблагодарными, если бы подумали подобное! Поистине, даже отец не смог бы более нежно заботиться о собственном сыне.
Графиня вздрогнула и побледнела, но, нисколько не утратив самообладания, сказала:
– Сударь, вы лечили Кристиана так умело и так преданно, что мне даже мысль не приходила вверить его в другие руки; но, в конце концов, у меня есть собственный дом, и, если бы я могла перевезти сына к себе, мы вас больше не стесняли бы.
– Это вполне возможно, сударыня, – ответил Марат, – только вы рискуете при этом жизнью молодого человека.
– О! В таком случае, да простит меня Бог… – вздохнула графиня.
– Нужно еще сорок дней, – сказал Марат.
Графиня, казалось, никак не могла отважиться высказать какое-то предложение; наконец, она решила нарушить молчание и спросила:
– Могу ли я хотя бы просить вас принять возмещение убытков?
На этот раз Марат даже не пытался скрыть горечь своей улыбки.
– После окончания лечения, когда господин Кристиан поправится, – ответил он, – вы заплатите мне столько, сколько платят французским врачам… На то существует определенный тариф.
И он снова направился к двери.
– Но все-таки, сударь, расскажите мне, как вы живете, – попросила графиня; она понимала, что преимущество, неоспоримая добродетель самоотречения остается на стороне Марата, и хотела бы развенчать ее.
– О, очень просто: скитаюсь, – пояснил Марат.
– Как это скитаетесь?
– Да, сударыня; но пусть вас это не волнует: сейчас мне очень выгодно не жить дома.
– Почему же?
– Потому что у меня много врагов.
– У вас, сударь? – спросила графиня таким тоном, будто хотела сказать: «Меня это не удивляет!»
– Этого вы не понимаете, – насмешливо ответил Марат. – Хорошо, я постараюсь объяснить вам это в двух словах. Говорят, будто у меня есть кое-какие заслуги в медицине и химии; говорят, что свои знания я использую для того, чтобы бесплатно лечить бедных людей из народа. Кроме того, я еще немного и писатель: пишу для патриотов политические и экономические статьи, которые пользуются успехом. Одни обвиняют меня в аристократизме, так как я живу при дворе брата короля; другие порочат меня в глазах графа, так как я патриот. Следовательно, меня ненавидят и те и другие. Ко всему прочему природа сделала меня язвительным; она дала мне внешность существа слабого, хотя внешность эта обманчива, ибо я, сударыня, человек здоровый, и если бы вы знали, какие страдания мне пришлось претерпеть в жизни… Он замолчал.
– Ах, значит, вы много страдали? – спросила графиня с равнодушием, от которого похолодело сердце Марата.
– Достаточно! Не будем больше говорить об этом, забудем прошлое… Я хотел сказать: те страдания, что мне придется претерпевать в настоящем, никогда не сравнятся с теми, что я вынес в прошлом, поэтому, если вы, как я предполагаю, намерены меня пожалеть, не трудитесь. С того дня как господин Кристиан здесь, я начал жизнь скитальца и изгнанника, и она отныне, вероятно, суждена мне навсегда. Впрочем, таково мое призвание: я не люблю людей, не люблю солнечного света; моя радость – жить без шума, ведь я не смогу вызвать шума, который отвечал бы моим стремлениям, и, поскольку мудрость состоит в том, чтобы соизмерять свои пристрастия с собственными силами, поскольку воздержание – одна из самых разумных добродетелей, известных мне, я отрекусь от людей, отрекусь от дневного света!
– Как?! – воскликнула графиня. – Неужели вы хотите ослепнуть или выколоть себе глаза?
– Совам не нужно слепнуть, совы не выкалывают себе глаза, сударыня; они созданы природой для темноты и живут во тьме. Если бы сову видели днем, то на нее набросилась бы сотня горластых птиц, терзая ее со всех сторон; сова – древние называли ее птицей мудрости – это знает и вылетает только ночью. Но пусть, черт возьми, нападут на сову ночью, пусть посмеют проникнуть в ее темную дыру – и тогда убедятся, что она умеет постоять за себя!
– Какая грустная жизнь, сударь! Значит, вы не любите ничего на свете?
– Ничего, сударыня.
– Мне вас жаль, – сказала графиня с презрением, возмутившим Марата.
– Я не люблю тогда, когда не уважаю, – ответил он так же стремительно, как жалит раненая змея.
Графиня, тоже гордо подняв голову, воскликнула:
– Неужели мир настолько жалок, что в нем не найдется или раньше не нашлось ни одного существа, способного внушить вам уважение или любовь?
– Тем не менее, это так! – грубо отрезал Марат.
На этот раз графиня не сочла нужным отвечать и, нахмурив брови, молча села у изголовья больного.
Марат, взволнованный, несмотря на ледяное выражение лица, взял шляпу и ушел, очень сильно хлопнув дверью, что было странно для врача, которому следовало бы опасаться раздражать нервы своего пациента.









































