Текст книги "Инженю"
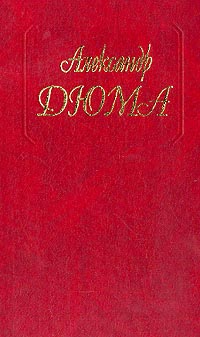
Автор книги: Александр Дюма
Жанр: Литература 19 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
XXXIX. КТО БЫЛА НЕЗНАКОМКА, ДАВШАЯ ПОЩЕЧИНУ МАРАТУ
Когда девушки остались вдвоем после ухода Марата (ибо мы предполагаем, что читатель узнал его в мужчине у подвального окна – мужчине из подземелья, что сидел за шатким столом у оплывшей свечи), незнакомка обняла за плечи еще дрожавшую от страха Инженю и привела ее в лавку, у порога которой на бедную девушку обрушилось столько неожиданностей.
В задней комнате лавки появилась с лампой в руках хозяйка, отужинавшая с кучером кареты.
Теперь Инженю смогла не спеша рассмотреть приветливое, спокойное лицо красивой женщины, которая так отважно защитила ее от домогательств мужчины.
– К счастью, здесь оказалась я, поджидая карету, – обратилась она к Инженю.
– Значит, вы покидаете Париж, сударыня? – спросила та.
– Да, мадемуазель. Я из провинции, с детства живу в Нормандии. Я приехала в Париж ухаживать за старой родственницей; она долго болела, но вчера умерла. Сегодня я возвращаюсь домой, увидев в Париже лишь то, что можно видеть из окон вон того дома напротив; сейчас его окна закрыты, подобно глазам той, что жила в нем.
– Ах, как жаль! – огорчилась Инженю.
– Ну, а кто вы, дитя мое? – спросила незнакомка почти материнским тоном, хотя разница в возрасте между нею и ее юной спутницей едва составляла три-четыре года.
– Я, сударыня, из Парижа и никогда его не покидала.
– Куда же вы шли? – спросила старшая из девушек голосом, который непроизвольно звучал громко и в котором, несмотря на его мягкость, легко различалась повелительная интонация, присущая решительным натурам.
– Я… – пролепетала Инженю. – Я возвращалась домой.
Никто не лжет с большим апломбом, нежели в чем-то виноватая девушка, сколь бы наивной она ни была.
– И далеко ваш дом?
– На улице Бернардинцев.
– Мне это ничего не говорит: я не знаю, что это за улица и где она находится.
– Боже мой, я сама знаю не лучше вас. Где я сейчас нахожусь? – спросила Инженю.
– Мне это совершенно неизвестно, но я могу спросить у хозяйки. Хотите?
– О сударыня, очень хочу. Вы окажете мне огромную услугу.
Пассажирка кареты обернулась; все тем же четким, но вместе с тем властным голосом она произнесла:
– Сударыня, я желала бы знать, в каком квартале и на какой улице мы находимся.
– Мы, мадемуазель, – ответила хозяйка, – находимся на Змеиной улице, угол Павлиньей.
– Вы слышали, дитя мое?
– Да, благодарю вас.
– Боже мой! – взглянув на Инженю, воскликнула более решительная из девушек. – Боже! Вы все еще так бледны!
– О, знали бы вы, как я испугалась!.. Но вы, вы такая смелая!
– Особой заслуги в этом нет: по первому моему зову к нам пришли бы на помощь. Но все-таки, как вы говорите, – прибавила девушка, – полагаю, что я действительно смелая.
– Но что придает вам мужество, которого мне не хватает?
– Мысль.
– Понятно, хотя мне, наоборот, кажется, мадемуазель, что, если бы я больше задумывалась, то боялась бы сильнее.
– Нет, не боялись бы, если бы вы задумались над тем, что Бог дал силу как добрым, так и злым, и даже гораздо больше первым, чем вторым, поскольку добрые могут применять свои силы с одобрения всех людей.
– Ах, мне все равно, – пробормотала Инженю. – Это же был мужчина!
– И страшный мужчина!
– Ведь вы его видели?
– Да, отталкивающее лицо…
– … внушающее ужас.
– Я с вами не согласна. Приплюснутый нос, кривой рот, выпученные глаза, мокрые губы – все это меня не пугало, а только внушало мне отвращение, было противно – и только.
– О, как странно! – прошептала Инженю, восхищенно глядя на свою героическую защитницу.
– Понимаете, в моей душе живет чувство, что ведет меня по жизни, – сказала та, воздев, словно пророчица, руку. – Этот человек, который ужасает вас, меня толкает на сопротивление: мне доставило бы удовольствие бросить вызов этому негодяю; я заметила, как он под моим взглядом опустил свои совиные глаза… Я убила бы его с радостью. Этот человек, – так мне подсказывает чувство, – конечно же, злой человек.
– Он нашел вас очень красивой, ведь он несколько мгновений с восхищением смотрел на вас.
– Для меня это лишнее оскорбление!
– Путь так! Но без вас я умерла бы от страха.
– Это ваша вина!
– Моя?
– Да.
– Объясните, пожалуйста.
– Сколько времени он вас преследовал?
– Не знаю! Минут, наверное, десять.
– И за эти десять минут…
– Я пробежала добрых полульё.
– Но когда вы заметили, что этот мужчина вас преследует, почему вы сразу не позвали на помощь, если испугались?
– О! Я не смела… шуметь!
– Вы, парижанки, всего боитесь!
– Поймите меня, – возразила Инженю, несколько уязвленная этим столь резким суждением о парижанках, – не каждая женщина обладает вашей силой, ведь мне только шестнадцать лет.
– А мне недавно исполнилось восемнадцать, – с улыбкой ответила пассажирка кареты. – Как видите, разница не столь большая.
– Да, вы правы, – согласилась Инженю, – и вам тоже должно быть страшно, как и мне.
– Я ни за что этого себе не позволю! Именно слабость женщин придает смелости таким мужчинам, как этот. Когда он пошел за вами, надо было смело обернуться, сказать ему прямо в лицо, что вы запрещаете ему преследовать вас, и пригрозить, что позовете на помощь первого доброго человека, который пойдет мимо.
– Поверьте, мадемуазель, чтобы сказать и сделать все это, необходимо иметь больше сил, чем у меня.
– Ладно, вы уже избавились от этого человека; не возражаете, чтобы я попросила кого-нибудь проводить вас?
– О нет, благодарю вас.
– Но что скажут ваши родители, милая мадемуазель, увидев, как вы возвращаетесь домой смертельно бледной и перепуганной.
– Мои родители?
– Да. Надеюсь, ваши родители живы?
– У меня есть отец.
– Вы счастливица!.. Он будет волноваться, видя, что вы задерживаетесь?
– Не думаю.
– Он знает, что вы ушли из дома?
Инженю, очарованная незнакомкой, на этот раз не осмелилась солгать и, потупив глаза, ответила:
– Нет.
Но это признание она сделала таким кротким, умоляющим, так хорошо соответствующим роли маленькой девочки, которую Инженю разыгрывала, тоном, что провинциалка поняла ее шаловливый намек.
Правда, в поведении незнакомки проявилось нечто, чего, наверное, нельзя было ожидать от ее твердого характера: она покраснела так же сильно, как и Инженю.
– Ах! Теперь мне все ясно! – воскликнула она. – Вы провинились, и за это вы наказаны. Надо не делать дурного, милая мадемуазель, и тогда мы становимся гораздо сильнее! Бьюсь об заклад, что вы вели бы себя смелее, если бы прогуливались по городу с согласия вашего отца вместо того, чтобы украдкой пробираться по улицам.
И она залилась краской.
При этом замечании, сделанном, тем не менее, поистине материнским тоном, глаза Инженю наполнились слезами.
– Ах, вы совершенно правы! – воскликнула она. – Я поступила дурно, и вот наказание. Но надеюсь, вы не подумаете, что я действительно в чем-то виновата, – прибавила она, глядя на незнакомку глазами, в которых сияла невинность.
– Помилуйте! Я не требую от вас признаний, мадемуазель, – сказала провинциалка, отступая назад с испуганной стыдливостью.
Инженю великолепно ее поняла и, взяв за руку свою защитницу, продолжала:
– Послушайте, мне следует вам сказать, что я собиралась делать в городе сегодня вечером. Один мой знакомый (Инженю опустила глаза), человек, которого я люблю, отсутствует уже девять дней; он не дает мне о себе знать и не приходит. Недавно в городе были волнения, много стреляли, и я боюсь, что он убит или, по меньшей мере, ранен. Незнакомка молчала.
– О, как велик Бог! – воскликнула Инженю. – Как Бог добр, что послал мне вас!
Целомудренным, ясным взглядом незнакомка смотрела на очаровательное, залитое слезами личико девушки, казалось о чем-то ее умолявшей.
Глаза дочери Ретифа излучали такую кроткую добродетель, такую скромную прелесть, что было бы просто невозможно в чем-либо ее упрекать.
Незнакомка с улыбкой взяла руку Инженю, нежно ее пожала и с невыразимым обаянием призналась:
– О, мне очень приятно, что я оказала вам услугу!
– Еще раз благодарю вас и прощайте, – сказала Инженю, – ведь именно этих слов я ждала, чтобы попрощаться с вами.
– Подождите немного, – возразила пассажирка кареты, в свой черед удерживая Инженю. – Я попрошу хозяйку, чтобы она растолковала вам дорогу.
Это тотчас и было сделано.
– Ах, какая жалость! – воскликнула незнакомка, когда хозяйка закончила свои объяснения. – Похоже, ваш дом далеко и вам предстоит неблизкий путь.
– О, путь меня не беспокоит: я побегу так же быстро, как бежала сюда. Потом Инженю, оробев, замолчала и, медленно подняв голову, спросила:
– Вы разрешите мне поцеловать вас, мадемуазель?
– Вот как! Неужели вы хотите того же, чего добивался от вас тот гнусный мужчина? – сказала, смеясь, путешественница. – Хорошо! Поцелуйте же меня, мне это будет приятно.
Девушки пылко расцеловались; их невинные сердца ощущали биение друг друга.
– А теперь, – шепнула Инженю на ушко своей новой подруге, – скажите мне еще кое-что, окажите любезность.
– Какую, дитя мое?
– Меня зовут Инженю, – продолжила девушка. – Мой отец – господин Ретиф де ла Бретон.
– Писатель? – воскликнула незнакомка.
– Да.
– Вот как, мадемуазель! Говорят, он очень талантлив.
– Вы знакомы с его произведениями?
– Нет, я не читаю романов.
– А теперь, пожалуйста, мадемуазель, назовите мне ваше имя, – попросила Инженю.
– Назвать мое имя?
– Я хочу, чтобы оно оставалось среди самых дорогих моих воспоминаний, чтобы ваше мужество вдохновляло меня и я, если возможно, была такой же спокойной и сильной, как вы.
– Меня зовут Шарлотта де Корде, милая моя Инженю, – ответила пассажирка. – Но поцелуйте меня на прощание, ведь лошадей уже запрягли.
– Шарлотта де Корде! – повторила Инженю. – О, уверяю вас, вашего имени я не забуду!
XL. ЛЮБОВЬ К ДОБРОДЕТЕЛИ И ДОБРОДЕТЕЛЬ ЛЮБВИ
Инженю ушла лишь тогда, когда увидела, как Шарлотта де Корде села в карету, но, несмотря на новую задержку, она все-таки возвратилась домой задолго до прихода отца.
Добряк Ретиф вернулся если и не пьяным, то сильно навеселе.
За обедом он выслушал множество комплиментов о своих книгах «Современницы» и «Ночи Парижа». Его книготорговец, упоенный этими похвалами, сделал Ретифу заказ, а Ревельон (с тех пор как Ретиф написал за него брошюру, тот причислял себя к публицистам) соизволил снизойти до того, что изредка стал высказываться не только об обоях, но и об исписанной чернилами бумаге.
За столом Ревельон усадил Ретифа рядом с собой и так же щедро подливал ему вина, как себе самому, ибо в ту эпоху, кстати не столь далекую от нашей, еще сохранялась та простота манер, что позволяла порядочному человеку от души повеселиться с друзьями за добрым вином.
Кстати, поэты, литераторы, писатели к тому времени уже добились определенного прогресса: в XVII веке они были пьяницами, а в XVIII веке стали гурманами.
Разговор, после того как в нем было затронуто множество разных тем, за десертом коснулся Оже, нового служащего Ревельона, и, в чем мы убедимся позднее, принес свои плоды.
Ретиф, вернувшийся около десяти вечера, застал Инженю сидящей за рабочим столиком; правда, она ничего не делала.
Инженю чувствовала себя виноватой, поэтому она, едва услышав доносившиеся с лестницы и шаги отца, и негромкую песенку, которую он всегда мурлыкал на ходу, если был в хорошем настроении, побежала открывать ему.
Когда Ретиф вошел, Инженю повела себя очень мило и ласково.
Нежность и приветливость дочери до глубины души растрогали Ретифа, склонного к умилению, поскольку он за ужином выпил больше вина, чем обычно.
– Наверное, милое мое дитя, ты сильно скучала, а? – поцеловав Инженю, спросил он.
– Да, отец, – ответила она.
– О, как часто я думаю об этом! – продолжал писатель. – Будь ты мужчиной, а не женщиной, я всегда брал бы тебя с собой!
– Значит, милый папенька, вас огорчает, что у вас дочь?
– Нет, ведь ты красива, мне нравятся красивые лица, это радует. Ты радость дома, милая Инженю, и с тех пор как ты выросла, у всех моих героинь голубые глаза и белокурые волосы.
– Помилуйте, отец!
– Но нет, дитя мое, подумай, как бы мы с тобой жили, будь ты, к примеру, юноша.
– И что же с нами было бы, отец? – спросила Инженю.
– Что? Все обстояло бы совсем просто: меня каждый или почти каждый день приглашают на обед. Так вот, будь ты юношей, я брал бы тебя с собой, и нам не пришлось бы готовить дома. Во-первых, вышла бы экономия, а во-вторых, ты не пачкала бы свои хорошенькие пальчики.
– Что вы, отец! Будь я молодым человеком, мне не приходилось бы беречь руки.
– Правильно. Но кроме того, я обучил бы тебя ручному набору; ты помогала бы мне в моих трудах, и вдвоем мы зарабатывали бы десять франков в день; в месяц это триста франков, а в год – три тысячи шестьсот! Не считая моих рукописей, которые, наверное, приносили бы семь-восемь тысяч… Ведь нередко можно видеть писателей…
Так как эта сумма показалась Инженю довольно большой, девушка с наивным удивлением взглянула на отца.
– Черт возьми! – воскликнул Ретиф. – Вспомни господина Мерсье… Вот тогда мы были бы совсем счастливы…
– Мы почти счастливы, – грустно улыбнулась Инженю.
– Почти! – вскричал Ретиф. – О, эта простодушная философия! Почти! Это ты хорошо сказала, любимое мое дитя, да, почти! Мы почти счастливы.
Ретиф умилился и продолжал:
– «Почти!» Вот слово, которое объясняет все в жизни; почти богат миллионер, жаждущий второго миллиона, почти всесилен принц, желающий стать королем; почти любим влюбленный, желающий добиться большего, чем любовь!
Инженю посмотрела на отца; мысленно она задавала себе вопрос, что такое это «большее, чем любовь», чего может желать влюбленный.
– О Инженю, как я благодарен себе за то, что привил тебе принципы философии! – разглагольствовал Ретиф. – Ты высказываешь благородные изречения, твою фразу «мы почти счастливы» я, конечно, куда-нибудь вставлю.
Инженю поцеловала отца.
– Да, почти счастливы, – повторил он. – Чтобы быть счастливыми вполне, нам недостает пустяка, почти пустяка, – денег!.. Ах, Инженю, родись ты юношей, у нас были бы эти деньги и ты уже не говорила бы: «Мы почти счастливы!»
– Увы, я, возможно, сказала бы то же самое, имея в виду не только деньги, – меланхолически заметила Инженю, думая о Кристиане.
– Правильно, – согласился Ретиф. – Будь ты юношей, ты была бы влюбленным или честолюбивым.
– Честолюбивым? О нет, дорогой отец, нет, клянусь вам!
– Тогда влюбленным; это гораздо хуже: любовь проходит быстрее – вот и все.
Инженю недоверчиво устремила на отца красивые, большие голубые глаза; она, казалось, не понимала, что на свете способна существовать страсть, которая может пережить любовь.
– Кстати, представь себе, сегодня вечером мы чертовски много говорили о влюбленных, – сказал Ретиф.
– С кем же? – удивилась Инженю.
– С господином Ревельоном; он приятный человек, хотя на самом деле совсем глупый.
– Неужели вы, отец, беседовали с господином Ревельоном о любви? – спросила потрясенная от изумления Инженю. – Но по какому поводу, о Боже мой?
– О, поводов нашлось предостаточно… Я рассказывал ему о темах моих новелл. У нашего дорогого господина Ревельона есть очень приятная черта: даже чего-либо не понимая, он, тем не менее, всегда делает вид, будто все понимает, и поэтому никогда не возражает. Да, с ним легко беседовать.
– Но вы сказали, что он говорил о любви по множеству поводов.
– Да, и в частности по поводу Оже.
– Оже! Какого Оже?
– А какой еще Оже тебе нужен?
– Неужели о нашем?
– Да, о нашем… Теперь понимаешь, какая это прекрасная добродетель милосердие; ведь ты сама, упомянув этого человека, говоришь: «Наш Оже!» Так вот, представь себе, дитя мое, наш Оже – настоящая прелесть. Ревельон от него в восторге. Сначала он относился к нему с недоверием и предубеждением; но скоро – подумать только! – совершенно изменил свое мнение.
– Вот как?! Тем лучше! – рассеянно заметила Инженю.
– По-моему, Оже совсем не дурак, ты понимаешь?
– Я тоже не считаю его глупым.
– Более того!.. Не только умен, но и услужлив, знает, чего от него хотят, быстро делает свое дело, последним садится за стол и первым из-за него встает, пьет только воду, сторонится рабочих, своих товарищей; он уже сумел обратить на себя внимание замечательным прилежанием в труде… И потом… как бы сказать… Не знаю, присматривалась ли ты к нему, но этот чудак недурен собой.
– О нет!
– Что ты сказала?
– Я говорю, что он так себе.
– Черт возьми! Ты слишком разборчива! У него живые глаза, он хорошо сложен, крепкий, если приглядишься; парень сильный, отличный труженик! Признаться, Ревельон и его дочери от него без ума.
– Тем лучше, и хорошо, что мы поддержали достойного человека, – сказала Инженю.
– Хорошо сказано, дочь моя, прекрасно, отменно красиво! – воскликнул Ретиф. – Ты только что построила превосходную фразу: «Хорошо, что мы поддержали достойного человека» – отменно сказано, Инженю! Я согласен с тобой, дитя мое… В доме Ревельона Оже пробьет себе дорогу.
– Тем лучше для него, – ответила Инженю, совершенно безразличная к будущему Оже.
– Я это сразу понял, – продолжал Ретиф. – Ты знаешь, дочери Ревельона разводят зимние цветы – бенгальские розы, ромашки, герань; но уже неделю все в доме только и заняты, что приданым старшей из девиц Ревельон, а о цветах совсем забыли.
– Ах, да, кажется, у нее будет прекрасное приданое.
– Так вот, чертов Оже, видя это небрежение, не замедлил встать в три часа ночи и вскопал, полил, залил водой весь сад, так что понять ничего нельзя было: хотя никто вроде бы цветами не занимался, сад был чист и свеж, как райский уголок.
– Правда?
– Ревельон был очарован, как ты прекрасно понимаешь, а его дочери еще больше; все терялись в догадках, строили предположения… Но ничего не придумали! Наконец, его выследили и увидели моего молодца, который перелез через живую изгородь и неистово мотыжил землю, пытаясь при этом, словно вор, себя не обнаруживать.
– А почему? – с улыбкой спросила Инженю.
– Подожди, именно об этом и осведомился Ревельон, подойдя к нему. «Ну что, Оже, значит, вы стали садовником у моих дочерей? Ведь это лишняя работа, за нее не платят». – «О сударь, – возразил Оже, – мне и так платят слишком много». – «Как вас понимать, Оже?» – «Да, сударь, мне платят не по моим заслугам и моему труду». – «Что вы имеете в виду? Объясните». – «Сударь, ваши дочери дружат с мадемуазель Инженю?» – «Да». – «Разве они при случае не дарят ей цветы?» – «Дарят». – «Знайте же, сударь, что в саду я тружусь ради мадемуазель Инженю».
– Ради меня?! – удивилась девушка.
– Потерпи, сейчас все поймешь! – воскликнул Ретиф. – «Когда я царапаю ладони о шипы роз, – продолжал Оже, – и орошаю своим потом землю, то думаю: „Этого слишком мало, Оже! Ты должен отдать этой девушке свою кровь, должен отдать свою жизнь. И когда настанет счастливый миг пролить кровь и пожертвовать жизнью, люди поймут, был ли Оже бессердечный и беспамятный!“«
Инженю, взглянув на отца с некоторым сомнением и слегка покраснев, спросила:
– Он так сказал?
– Еще лучше! Он сказал гораздо лучше, дочь моя! Инженю, слегка нахмурив брови, потупила голову.
– В общем, он прелестный малый, – подытожил Ретиф, – и Ревельон уже вознаградил его за это.
– Скажите на милость! И каким же образом?
– Оже, как я и предвидел, неспособен быть простым рабочим, не создан для черного труда: он отменно пишет и считает, как математик; кроме того, мадемуазель Ревельон обратила внимание отца на то, что у него очень ухоженные и вовсе не приспособленные к грубой работе руки, поэтому Ревельон, забрав Оже из мастерских, определил его делопроизводителем в контору. Это доходное место: тысяча двести ливров в год и стол в доме.
– Да, место действительно очень доходное, – невольно согласилась Инженю.
– Конечно, оно не стоит того места, которое он оставил, чтобы занять это. Ревельон сказал ему прямо: «Оже, здесь у вас нет королевской кухни, но принимайте ее такой, какая она есть». Для Ревельона, спесивого, как идальго, сказать такое Оже было непросто, но что поделаешь, дитя мое, если этот чертов тип Оже способен влиять даже на характер людей. «Ах, сударь!..» – ответил Оже… Выслушай внимательно этот ответ, дитя мое: «Ах сударь, лучше есть черствый хлеб честного человека, чем фазанов злодеяния!»
– Отец, вопреки вашему мнению, я нахожу фразу несколько напыщенной, – возразила Инженю, – и мне не очень нравятся эти «фазаны злодеяния».
– Ты права, мне тоже последние слова во фразе кажутся вычурными, – согласился Ретиф. – Но, видишь ли, дитя мое, и у добродетели бывает своя экзальтация, которая легко проникает в язык, существует упоение добродетелью. Сейчас Оже опьянен собственной добродетелью; это похвально, надо поощрять такие вещи; поэтому я легко пропустил этих «фазанов злодеяния». Кстати, признаюсь, мне очень нравится первая часть фразы: «Черствый хлеб честного человека», она звучит хорошо, и в театре из нее можно было бы извлечь эффект.
Инженю кивнула в знак согласия.
Во время этого разговора Ретиф сменил неизменный сюртук на домашнее платье, несколько смешное, но удобное для произнесения напыщенных речей.
– Странная превратность судьбы! – воскликнул он, чувствуя себя свободнее в жестах. – О удары фортуны! Капризы жизни! Игры души! Вот человек, кого мы ненавидели, кто был нашим главным врагом; вот негодяй, кому мы с тобой могли бы открыть скорую и прямую дорогу на виселицу, не правда ли?
– На виселицу! – подхватила Инженю. – О отец, господин Оже очень виноват, но мне все-таки кажется, что вы заходите слишком далеко.
– Да, ты права, я, наверное, слегка преувеличиваю, – согласился Ретиф. – Но я ведь поэт, дорогая моя: «Ut pictura poesis note 31Note31
Общее есть у стихов и картин (лат.). – «Наука поэзии», 361. Пер. М. Гаспарова.
[Закрыть]», как говорит Гораций. Посему я повторяю – «на виселицу», ибо если ты не отправила бы его туда, то я – мужчина, твой отец, человек, уязвленный в моих чувствах и в моей чести, – отправил бы его не только на виселицу, но и на колесо, причем с большим удовольствием. И вот сегодня оказывается, что человек этот – самый безупречный и совершенный из порядочных людей; он присоединяет к своим достоинствам еще и раскаяние и поэтому вдвойне достоин похвал: и за то, что творит добро, и за то, что делает это после того, как вершил зло! О Провидение! О религия!
Инженю изредка бросала на отца встревоженные взгляды: ее начинала пугать эта восторженность.
– Благостен завет законодателя Иисуса, – продолжал Ретиф. – «На небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии».
– Почему вы называете Иисуса Христа законодателем? – поинтересовалась Инженю.
– Так оно и есть, дитя мое, – ответил Ретиф. – Мы, философы, знаем, какие понятия следует употреблять. Поэтому я считаю Оже честнее других и признателен ему еще больше за то, что благодаря тебе он стал добродетельным человеком.
– Но почему благодаря мне, отец?
– Несомненно тебе! Признай же в этом тайный голос сердца, сию движущую силу всех великодушных деяний в бренном мире: если бы Оже не любил тебя, он бы так не поступил.
– Помилуйте, отец! – покраснев, воскликнула Инженю, которой было и стыдно и неприятно.
– Да что там любовь! – продолжал Ретиф. – Надо боготворить людей, чтобы ради них жертвовать всем… всем! Поэтому не будем здесь говорить: «Оже стал добродетельным из-за любви к добродетели». О нет! В этом ошибка людей заурядных; в этом ошибка и доброго кюре Бонома, и почтенного фабриканта Ревельона, которые оба приписывают преображение Оже пробуждению совести. Нет, дочь моя, нет! Если Оже становится лучше, то происходит это вовсе не из любви к добродетели, а благодаря добродетели любви.
От Инженю ускользнул смысл этой тонкой мысли.
Из этого последовало, что Ретиф, – в тот вечер он, казалось, к каждому своему слову привязывал бубенчик, чтобы при случае позвенеть им, – Ретиф не смирился с непониманием дочери.
– Ну, нет! – вполне довольный собой, воскликнул он. – Признаться, мне кажется, я сейчас высказал интересную мысль и, честно говоря, Инженю, меня удивляет, как ты, с твоим изысканным вкусом, которым тебя одарили Небеса, не обратила на нее внимания. Выражение «добродетель любви» дает мне прелестный заголовок для моей новой новеллы или даже для романа.
И с этими словами Ретиф, поцеловав дочь, удалился к себе в альков и задернул полог, чтобы целомудренно раздеться перед отходом ко сну.
Через пять минут добряк Ретиф, убаюканный радостью находки столь прекрасного заголовка, а может быть, и парами тонких вин, выпитых им за ужином, заснул праведным сном довольного собой человека и поэта.
Инженю, не желая спать до тех пор, пока не уяснит себе, что же означало это обожание Оже в то самое время, когда обнаружилась холодность Кристиана, удалилась к себе в комнату.









































