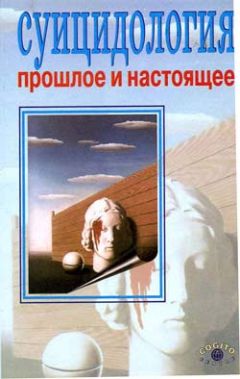
Автор книги: Александр Моховиков
Жанр: Социальная психология, Книги по психологии
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 43 (всего у книги 46 страниц)
Рэйко медленно спустилась по лестнице. Пропитавшиеся кровью таби[121]121
Носки с твердой подошвой.
[Закрыть] скользили по полу. На втором этаже воцарилась мертвая тишина.
Она зажгла внизу свет, завернула газовый кран и плеснула водой на тлеющие угли жаровни. Потом остановилась перед зеркалом в маленькой комнате и приподняла полы своего кимоно. Кровавые пятна покрывали белую ткань причудливыми разводами. Рэйко села на пол и задрожала, чувствуя, как подол, мокрый от крови мужа, холодит ей ноги. Долго она накладывала на лицо косметику. Покрыла щеки румянами, ярко подвела помадой губы. Грим предназначался уже не для любимого, а для мира, который она скоро оставит, поэтому в движении кисточки было нечто величавое. Когда Рэйко встала, на татами перед зеркалом остался кровавый след, но она даже не взглянула на него.
Затем молодая женщина зашла в ванную и наконец остановилась в прихожей. Вечером поручик запер входную дверь на ключ, готовясь к смерти. Некоторое время Рэйко размышляла над несложной дилеммой. Открыть замок или оставить закрытым? Если дом будет на запоре, соседи могут не скоро узнать о смерти молодой пары. Ей бы не хотелось, чтобы люди обнаружили их тела, когда они уже начнут разлагаться. Наверно, лучше отпереть… Рэйко повернула ключ и слегка приоткрыла дверь. В прихожую ворвался холодный ветер. Ночная улица была пустынна, над верхушками деревьев, что окружали особняк напротив, мерцали звезды.
Рэйко снова поднялась наверх. Кровь на таби успела засохнуть, и ноги больше не скользили. На середине лестницы в нос ей ударил резкий запах.
Поручик лежал в луже крови, уткнувшись лицом вниз. Острие сабли еще дальше вылезло из его шеи.
Рэйко спокойно пересекла залитую кровью комнату. Села на пол рядом с мертвым мужем и, нагнувшись, сбоку заглянула ему в лицо. Широко раскрытые глаза поручика завороженно смотрели в одну точку. Рэйко приподняла безжизненную голову, отерла рукавом окровавленное лицо и припала к губам мужа прощальным поцелуем.
Быстро поднявшись, она открыла шкаф и достала оттуда белое покрывало и шнур. Покрывало она аккуратно, чтобы не помять кимоно, обернула вокруг пояса, а шнур туго затянула поверх. Рэйко села на пол в одном шаге от тела поручика. Вынула из—за пояса кинжал, посмотрела на светлую сталь и коснулась ее языком. Гладкий металл был чуть сладковат.
Молодая женщина не колебалась ни секунды. Она подумала о том, что мука, отгородившая от нее мужа, скоро станет и ее достоянием, что миг соединения с любимым близок, и в ее сердце была только радость. В искаженном страданием лице поручика она видела что—то необъяснимое, таинственное. Теперь она разгадает эту загадку. Рэйко показалось, что только сейчас она ощущает сладкую горечь Великого Смысла, в который верил муж. Если прежде она знала о вкусе этого сокровенного знания только от поручика, то ныне испытает его сама.
Рэйко приставила кинжал к горлу и надавила. Рана получилась совсем мелкой. К голове прилил жар, затряслись руки. Она резко рванула клинок в сторону. В рот изнутри хлынуло что—то горячее, все перед глазами окрасилось алым – это из раны ударила струя крови. Рэйко собрала все силы и вонзила кинжал в горло по самую рукоятку.
Хорхе Луис Борхес
«БИАТАНАТОС»
Я стольким обязан Де Куинси, что оговаривать лишь часть моего долга – значит отвергнуть – или утаить – другую; и все же первыми сведениями о «Биатанатосе» я обязан именно ему. Трактат был сочинен в начале XVII века великим поэтом Джоном Донном;[122]122
То, что он на самом деле великий поэт, доказывают такие строчки:
Licence my rooing hands and let them goBefore, behind, between, above, below.O my America! my new – found – land…Моим рукам—скитальцам дай патентОбследовать весь этот континент;Тебя я, как Америку, открою…(Перевод Г. Кружкова)
[Закрыть] он завещает рукопись сэру Роберту Карру и налагает единственный запрет: не предавать ее «ни гласности, ни огню». Донн умирает в 1631–м, а в 1642–м начинается гражданская война; в 1644–м сын и наследник поэта публикует ветхую рукопись, дабы «спасти ее от огня». В «Биатанатосе» около двухсот страниц; Де Куинси («Writings»,[123]123
Сочинения (англ.).
[Закрыть] VIII, 336) суммировал их таким образом: самоубийство – это одна из форм убийства; крючкотворы от правосудия различают убийство намеренное и вынужденное; рассуждая логически, это разграничение следовало бы применить и к самоубийству. Поскольку далеко не каждый совершающий убийство – убийца, далеко не каждый самоубийца несет на себе печать смертного греха. Таков недвусмысленный тезис «Биатанатоса». Он заявлен в подзаголовке («The Self – homicide is not so naturally Sin that it may never be otherwise»[124]124
«Самоубийство – не такой уж грех, чтобы его нельзя было осмыслить иначе» (англ.).
[Закрыть] и проиллюстрирован – а может быть, исчерпан – подробным перечнем вымышленных – или же подлинных – примеров: от Гомера,[125]125
Ср. с надгробной эпиграммой Алкея Месенского (Греческая анатология, VII, 1).
[Закрыть] «написавшего о тысяче вещей, в которых никто, кроме него, не разбирался, и о котором ходят слухи, будто он повесился, поскольку, дескать, не сумел разгадать загадку о рыбаках», вплоть до пеликана, символа отцовской любви, и пчел, что, по сведениям «Гексамерона» Амвросия, «умерщвляют себя, если только случится им переступить законы своего царя». Перечень занимает три страницы; просматривая его, я столкнулся с такой снобистской выходкой: включены примеры малоизвестные («Фест, фаворит Домициана, покончивший с собой, дабы скрыть следы заболевания кожи») и опущены другие, довольно убедительные – Сенека, Фемистокл, Катон, – как лежащие на поверхности.
Эпиктет («Помни главное: дверь открыта») и Шопенгауэр («Чем монолог Гамлета не размышления преступника?») лаконично оправдали самоубийство; заведомая убежденность в правоте этих адвокатов вынуждает нас читать их поверхностно. То же самое случилось у меня с «Биатанатосом», пока под заявленной темой я не почувствовал – или мне показалось, что я почувствовал, – тему скрытую, эзотерическую.
Мы так никогда и не узнаем, писал ли Донн свой труд, пытаясь намекнуть на эту таинственную тему, или же его заставило взяться за перо внезапное и смутное предощущение этой темы. Мне представляется вероятным последнее; мысль о книге, говорящей В, чтобы сказать А, на манер криптограммы, навязчива; совсем иное дело – мысль о сочинении, вызванном к жизни случайным порывом. Хью Фоссе предположил, что Донн рассчитывал увенчать самоубийством апологию самоубийства. То, что Донн заигрывал с этой идеей, – вероятно, и правдоподобно; то, что ее достаточно для объяснения «Биатанатоса», – разумеется, смешно.
В третьей части «Биатанатоса» Донн рассуждает об упомянутых в Писании добровольных смертях; никакой другой он не уделяет столько места, как Самсоновой. Он начинает с утверждения, что сей «Беспримерный муж» – это эмблема Христа и что грекам он послужил прототипом Геракла. Франсиско де Виториа и иезуит Грегорио де Валенсия не включали Самсона в список самоубийц; оспаривая их, Донн приводит последние слова, произнесенные Самсоном перед тем, как совершить отмщение: «Умри, душа моя, с Филистимлянами!»(Судьи, 16:30). Точно так же он отвергает гипотезу св. Августина, утверждающего, что, разрушив колонны храма, Самсон не был виновен ни в чужих смертях, ни в своей, но был ведом Святым Духом, «подобно мечу, разящему по велению того, в чью руку он вложен» («О граде Божием», I, 20). Доказав необоснованность этой гипотезы, Донн завершает главу цитатой из Бенито Перейры, что Самсон – и в своей гибели, и в других деяниях – символ Христа.
Переиначив Августинов тезис, квиетисты сочли, что Самсон «убил себя и филистимлян по наущению дьявола» («Испанские ересиархи», V, 1, 8); Мильтон («Агонизирующий Самсон», in fine[126]126
В конце (англ.).
[Закрыть]) оправдал приписанное ему самоубийство; Донн, полагаю, видел здесь не казуистический вопрос, но скорее метафору или образ. Его не интересовало «дело Самсона» (а почему, собственно, оно должно было его интересовать?); Самсон, скажем так, интересовал его исключительно как «эмблема Христа». В Ветхом завете нет ни одного героя, которого бы не поднимали на эту высоту; Адам для святого Павла – провозвестник Того, кто должен прийти; Авель для св. Августина воплощает смерть Спасителя, а его брат Сиф – вознесение; Иов для Кеведо был «чудесным проектом Христа». Донн прибег к столь банальной аналогии, чтобы читатель понял: «Произнесенное Самсоном может оказаться ложью; произнесенное Христом – нет».
Глава, непосредственно посвященная Христу, восторженностью не отличается. Она ограничивается воспроизведением двух мест из Писания: «и жизнь Мою полагаю за овец» (Ин. 10:15) – и любопытного выражения «отдал душу», упоминаемого всеми четырьмя евангелистами в значении «умер». Из этих высказываний, подтверждаемых стихом: «Никто не отнимает ее (жизнь) у Меня, но Я Сам отдаю ее» (Ин. 10:18), Донн выводит, что не крестные муки убили Христа, но что в действительности он покончил с собой чудесным и сознательным излучением души. Донн выдвинул эту гипотезу в 1608 году; в 1631–м он включил ее в проповедь, прочитанную им накануне смерти в часовне Уайтхолла.
Заявленная цель «Биатанатоса» – обличить самоубийство; главная – доказать, что Христос покончил с собой.[127]127
Ср.: Де Куинси. Сочинения, XIII,398; Кант. Религия в границах разума, II, 2.
[Закрыть] То, что доказательство этой идеи Донн свел к стиху из св. Иоанна и повторению глагола «почить», – невероятно и даже немыслимо; безусловно, он предпочел не заострять кощунственной темы. Для христианина жизнь и смерть Христа – центральное событие мировой истории; предыдущие столетия готовили его, последующие – отражали. Еще из земного праха не был создан Адам, еще твердь не отделила воды от вод, а Отец уже знал, что Сын умрет на кресте. Вот он и создал землю и небо как декорацию для этой грядущей гибели. Христос, полагает Донн, умер по собственной воле; а это означает, что первостихии, и вселенная, и целые поколения людей, и Египет, и Рим, и Вавилония, и Иудея были извлечены на свет божий, дабы содействовать его смерти. Возможно также, что железо было создано ради гвоздей, шипы – ради тернового венца, а кровь и вода – ради раны. Это барочная идея уже угадывается в «Биатанатосе». Идея Бога, возводящего универсум, как возводят эшафот. Перечитав эту заметку, я вспоминаю о трагическом Филиппе Батце, известном в истории философии под именем Филиппа Майнлендера. Как и я, он был пылким почитателем Шопенгауэра. Под его влиянием (а также влиянием гностиков) я вообразил, что мы – частицы какого—то Бога, который уничтожил себя в начале времен, ибо жаждал стяжать небытие. Всемирная история – мрачная агония этих частиц. Майнлендер родился в 1841–м; в 1876–м опубликовал книгу «Философия отречения» и в том же году покончил с собой.
Антон Чехов
ДВА ГАЗЕТЧИКА
(НЕПРАВДОПОДОБНЫЙ РАССКАЗ)
Рыбкин, сотрудник газеты «Начихать вам на головы!», человек обрюзглый, сырой и тусклый, стоял посреди своего номера и любовно поглядывал на потолок, где торчал крючок, приспособленный для лампы. В руках у него болталась веревка.
«Выдержит или не выдержит? – думал он. – Оборвется, чего доброго, и крючком по голове… Жизнь анафемская! Даже повеситься путем негде!»
Не знаю, чем кончились бы размышления безумца, если бы не отворилась дверь и не вошел в номер приятель Рыбкина, Шлепкин, сотрудник газеты «Иуда предатель», живой, веселый, розовый.
– Здорово, Вася! – начал он, садясь. – Я за тобой… Едем! В Выборгской покушение на убийство, строк на тридцать… Какая—то шельма резала и не дорезала. Резал бы уж на целых сто строк, подлец! Часто, брат, я думаю и даже хочу об этом написать: если бы человечество было гуманно и знало, как нам жрать хочется, то оно вешалось бы, горело и судилось во сто раз чаще. Ба! Это что такое? – развел он руками, увидев веревку. – Уж не вешаться ли вздумал?
– Да, брат… – вздохнул Рыбкин. – Шабаш… Прощай! Опротивела жизнь! Пора уж…
– Ну, не идиотство ли? Чем же могла тебе жизнь опротиветь?
– Да так, всем… Туман какой—то кругом, неопределенность… безызвестность… Писать не о чем. От одной мысли можно десять раз повеситься: кругом друг друга едят, грабят, топят, друг другу в морды плюют, а писать не о чем! Жизнь кипит, трещит, шипит, а писать не о чем! Дуализм проклятый какой—то…
– Как же не о чем писать? Будь у тебя десять рук, и на все бы десять работы хватило.
– Нет, не о чем писать! Кончена моя жизнь! Ну, о чем прикажешь писать? О кассирах писали, об аптеках писали, про восточный вопрос писали… До того писали, что все перепутали и ни черта в этом вопросе не поймешь. Писали о неверии, тещах, о юбилеях, о пожарах, женских шляпках, падении нравов, о Цукки… Всю вселенную перебрали, и ничего не осталось. Ты вот сейчас про убийство говоришь: человека зарезали… Эка невидаль! Я знаю такое убийство, что человека повесили, зарезали, керосином облили и сожгли – все это сразу, и то я молчу. Наплевать мне! Все это уже было, и ничего тут необыкновенного. Допустим, что ты двести тысяч украл или что Невский с двух концов поджег, – наплевать и на это! Все это обыкновенно, и писали уж об этом. Прощай!
– Не понимаю! Такая масса вопросов… Такое разнообразие явлений! В собаку камень бросишь, а в вопрос или явление попадешь…
– Ничего не стоят ни вопросы, ни явления… Например, вот я вешаюсь сейчас… По—твоему, это вопрос, событие: а по—моему, пять строк петита – и больше ничего. И писать незачем. Околевали, околевают и будут околевать – ничего тут нет нового… Все эти, брат, разнообразия, кипения, шипения очень уж однообразны… И самому писать тошно, да и читателя жалко: за что его, бедного, в меланхолию вгонять?
Рыбкин вздохнул, покачал головой и горько улыбнулся.
– А вот если бы, – сказал он, – случилось что—нибудь особенное, этакое, знаешь, зашибательное, что—нибудь мерзейшее, распереподлое, такое, чтоб черти с перепугу передохли, ну, тогда ожил бы я! Пошла бы земля сквозь хвост кометы, что ли, Бисмарк бы в магометанскую веру перешел или турки Калугу приступом взяли бы… Или, знаешь, Нотовича в тайные советники произвели бы… Одним словом, что—нибудь зажигательное, отчаянное, – ах, как бы я зажил тогда!
– Любишь ты широко глядеть, а ты попробуй помельче плавать. Вглядись в былинку, в песчинку, в щелочку… Всюду жизнь, драма, трагедия! В каждой щепке, в каждой свинье драма!
– Благо у тебя натура такая, что ты и про выеденное яйцо можешь писать, а я… Нет!
– А что ж? – окрысился Шлепкин. – Чем, по—твоему, плохо выеденное яйцо? Масса вопросов! Во—первых, когда ты видишь перед собой выеденное яйцо, тебя охватывает негодование, ты возмущен!! Яйцо, предназначенное природою для воспроизведения жизни индивидуума… Понимаешь! Жизни!.. Жизни, которая в свою очередь дала бы жизнь целому поколению, а это поколение тясячам будущих поколений, вдруг съедено, стало жертвою чревоугодия, прихоти! Это яйцо дало бы курицу, курица в течение всей своей жизни снесла бы тысячу яйц… Вот тебе, как на ладони, подрыв экономического строя, заедание будущего! Во—вторых, глядя на выеденное яйцо, ты радуешься: если яйцо съедено, то, значит на Руси хорошо питаются… В—третьих, тебе приходит на мысль, что яичной скорлупой удобряют землю, и ты советуешь читателю дорожить отбросами. В—четвертых, выеденное яйцо наводит тебя на мысль о бренности всего земного: жило и нет его! В—пятых… Да что я считаю? На сто нумеров хватит!
– Нет, куда мне! Да и веру я в себя потерял, в уныние впал… Ну его, все к черту!
Рыбкин стал на табурет и прицепил веревку к крючку.
– Напрасно, ей—богу напрасно! – убеждал Шлепкин. – Ты погляди: двадцать у нас газет и все полны! Стало быть, есть о чем писать! Даже провинциальные газеты, и те полны!
– Нет… Спящие гласные, кассиры… – забормотал Рыбкин, как бы ища за что ухватиться, – дворянский банк, паспортная система… упразднение чинов, Румелия… Бог с ними!
– Ну, как знаешь…
Рыбкин накинул себе петлю на шею и с удовольствием повесился. Шлепкин сел за стол и в один миг написал: заметку о самоубийстве, некролог Рыбкина, фельетон по поводу частых самоубийств, передовую об усилении кары, налагаемой на самоубийц, и еще несколько других статей на ту же тему. Написав, все это он положил в карман и весело побежав в редакцию, где его ждали мзда, слава и читатели.
Иван Бунин
ДОЖДЬ
На этой же неделе, в субботу, дождь, начавшийся еще в среду, ливший с утра и до вечера, лил как из ведра.
Он то и дело припускал в этот день особенно бурно и мрачно. И весь день Митя без устали ходил по саду и весь день так страшно плакал, что порой даже сам дивился силе и обилию своих слез.
Параша искала его, кричала на дворе, в липовой аллее, звала обедать, потом чай пить – он не откликался.
Было холодно, пронзительно сыро, темно от туч; на их черноте густая зелень мокрого сада выделялась особенно густо, свежо и ярко. Налетавший от времени до времени ветер свергал с деревьев еще и другой ливень – целый поток брызг. Но Митя ничего не видел, ни на что не обращал внимание. Его белый картуз обвис, стал темно—серый, студенческая куртка почернела, голенища были до колен в грязи. Весь облитый, весь насквозь промокший, без единой кровинки в лице, с заплаканными, безумными глазами, он был страшен.
Он курил папиросу за папиросой, широко шагал по грязи аллей, а порой просто куда попало, целиком, по высокой мокрой траве среди яблонь и груш, натыкаясь на их кривые корявые сучья, пестревшие серо—зеленым размокшим лишайником. Он сидел на разбухших, почерневших скамейках, уходил в лощину, лежал на сырой соломе в шалаше, на том самом месте, где лежал с Аленкой. От холода, от ледяной сырости воздуха большие руки его посинели, губы стали лиловыми, смертельно—бледное лицо с провалившимися щеками приняло фиолетовый оттенок. Он лежал на спине, положив нога за ногу, а руки под голову, дико уставившись в черную соломенную крышу, с которой падали крупные ржавые капли. Потом скулы его стискивались, брови начинали прыгать. Он порывисто вскакивал, вытаскивал из кармана штанов уже сто раз прочитанное, испачканное и измятое письмо, полученное вчера поздно вечером, – привез землемер, по делу приехавший в усадьбу на несколько дней, – и опять, в сто первый раз, жадно пожирал его:
«Дорогой Митя, не поминайте лихом, забудьте, забудьте все, что было! Я дурная, я гадкая, испорченная, я недостойна вас, но я безумно люблю искусство! Я решилась, жребий брошен, я уезжаю – вы знаете с кем… Вы чуткий, вы умный, вы поймете меня, умоляю, не мучь себя и меня! Не пиши мне ничего, это бесполезно!»
Дойдя до этого места, Митя комкал письмо и, уткнувшись лицом в мокрую солому, бешено стискивал зубы, захлебывался от рыданий. Это нечаянное ты, которое так страшно напоминало и даже как будто опять восстанавливало их близость и заливало сердце нестерпимой нежностью, – это было выше человеческих сил! А рядом с этим ты это твердое заявление, что даже писать ей теперь бесполезно! О, да, да, он это знал: бесполезно! Все кончено и кончено навеки!
Перед вечером дождь, обрушившийся на сад с удесятеренной силой и с неожиданными ударами грома, погнал его наконец в дом. Мокрый с головы до ног, не попадая зуб на зуб от ледяной дрожи во всем теле, он выглянул из—под деревьев и, убедившись, что его никто не видит, пробежал под свое окно, снаружи приподнял раму, – рама была старинная, с подъемной половиной, – и, вскочив в комнату, запер дверь на ключ и бросился на кровать.
И стало быстро темнеть. Дождь шумел повсюду – и по крыше, и вокруг дома, и в саду. Шум его был двойной, разный, – в саду один, возле дома, под непрерывное журчание и плеск желобов, ливших воду в лужи, – другой. И это создавало для Мити, мгновенно впавшего в летаргическое оцепенение, необъяснимую тревогу и вместе с жаром, которым пылали его ноздри, его дыхание, голова, погружало его точно в наркоз, создавало какой—то как будто другой мир, какое—то другое предвечернее время в каком—то как будто чужом, другом доме, в котором было ужасное предчувствие чего—то.
Он знал, он чувствовал, что он в своей комнате, уже почти темной от дождя и наступающего вечера, что там, в зале, за чайным столом, слышны голоса мамы, Ани, Кости и землемера, но вместе с тем уже шел по какому—то чужому дому вслед за уходившей от него молодой нянькой, и его охватывал необъяснимый, все растущий ужас, смешанный, однако, с вожделением, с предчувствием близости кого—то с кем—то, близости, в которой было что—то противоестественно—омерзительное, но в которой он и сам как—то участвовал. Чувствовалось же все это через посредство ребенка с большим белым лицом, которого, перегнувшись назад, несла на руках и укачивала молоденькая нянька. Митя спешил обогнать ее, обогнал и уже хотел заглянуть ей в лицо, – не Аленка ли это, – но неожиданно очутился в сумрачной гимнастической классной комнате с замазанными мелом стеклами. Та, что стояла в ней перед комодом, перед зеркалом, не могла его видеть, – он вдруг стал невидим. Она была в шелковой желтой нижней юбке, плотно облегающей округлые бедра, в туфельках на высоких каблучках, в тонких ажурных черных чулках, сквозь которые просвечивало тело, и она, сладко робея и стыдясь, знала, что сейчас будет. Она уже успела спрятать ребенка в ящик комода. Перекинув косу через плечо, она быстро заплетала ее и, косясь на дверь, глядела в зеркало, где отражалось ее припудренное личико, обнаженные плечи и млечно—голубые, с розовыми сосками, маленькие груди. Дверь распахнулась – и, бодро и жутко оглядываясь, вошел господин в смокинге, с бескровным бритым лицом, с черными и короткими курчавыми волосами. Он вынул плоский золотой портсигар, стал развязно закуривать. Она, доплетая косу, робко смотрела на него, зная его цель, потом швырнула косу на плечо, подняла голые руки… Он снисходительно обнял ее за талию – и она охватила его шею, показывая свои темные подмышки, прильнула к нему, спрятала лицо на его груди…
И Митя очнулся, весь в поту, с потрясающе ясным сознанием, что он погиб, что в мире так чудовищно безнадежно и мрачно, как не может быть и в преисподней, за могилой. В комнате была тьма, за окнами шумело и плескалось, и этот шум и плеск были нестерпимы (даже одним своим звуком) для тела, сплошь дрожащего от озноба. Всего же нестерпимее и ужаснее была чудовищная противоестественность человеческого соития, которое как будто и он только что разделил с бритым господином. Из залы были слышны голоса и смех. И они были ужасны и противоестественны своей отчужденностью от него, грубостью жизни, ее равнодушием, беспощадностью к нему…
– Катя! – сказал он, садясь на кровати, сбрасывая с нее ноги. – Катя, что же это такое! – сказал он вслух, совершенно уверенный, что она слышит его, что она здесь, что она молчит, не отзывается только потому, что сама раздавлена, сама понимает непоправимый ужас всего того, что она наделала. – Ах, все равно, Катя, – прошептал он горько и нежно, желая сказать, что он простит ей все, лишь бы она по—прежнему кинулась к нему, чтобы они вместе могли спастись, – спасти свою прекрасную любовь в том прекраснейшем весеннем мире, который еще так недавно был подобен раю. Но, прошептав: «Ах, все равно, Катя!» – он тотчас же понял, что нет, не все равно, что спасения, возврата к тому дивному видению, что дано было ему когда—то в Шаховском, на балконе, заросшем жасмином, уже нет, не может быть, и тихо заплакал от боли, раздирающей его грудь.
Она, эта боль, была так сильна, так нестерпима, что, не думая, что он делает, не сознавая, что из всего этого выйдет, страстно желая только одного – хоть на минуту избавиться от нее и не попасть опять в тот ужасный мир, где он провел весь день и где он только что был в самом ужасном и отвратном из всех земных снов, он нашарил и отодвинул ящик ночного столика, поймал холодный и тяжелый ком револьвера и, глубоко и радостно вздохнув, раскрыв рот и с силой, с наслаждением выстрелил.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































