Текст книги "Крейсерова соната"
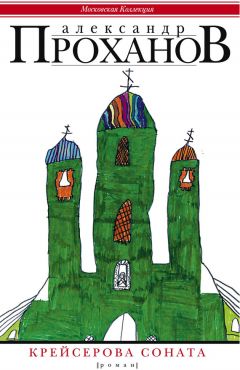
Автор книги: Александр Проханов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 38 страниц)
Глава 8
Мало было одержать победу в Думе и провести закон «О сокращении населения России до пятидесяти миллионов человек». Это обернулось бы чистым популизмом, если бы отсутствовали механизмы реализации закона. Модельер, пользуясь рекомендациями Центра эффективной политики, готовился к закону исподволь, подводя под него материальную базу. Этой базой была постройка в окрестностях Москвы самого крупного в мире крематория, эскиз которого, объемы и производительность утверждал сам Модельер. Он позаботился, чтобы сооружение, подъездные пути, газопроводы и сопутствующие производства целиком находились на территории Московской области, но никак не Москвы, что напрочь вырывало у Мэра любую возможность оспаривать лавры проекта.
Сразу из Думы Модельер, еще полный приятных переживаний, отправился в крематорий, который набирал мощность и куда сегодня должен был приехать Патриарх, чтобы освятить грандиозное сооружение.
Надсадно ревя сиреной, полыхая фиолетовыми вспышками, лимузин прорвался сквозь пробки Тверской, преодолел по спецполосе заторы Ленинградского проспекта, выскользнул на Кольцевую дорогу, похожую на плазменное кольцо Сатурна. Свернул в золотые подмосковные рощи, сквозь которые влажной траурной лентой струилась просторная автострада с электронными ограничителями: «Скорость катафалка – не больше 80 км». Здесь открывалось величественное, неповторимое зрелище… По осенним туманным холмам, под тучами, из которых выпадали холодные синие дожди, под сырыми небесами, где летели стаи журавлей и гусей, на волнистом бескрайнем шоссе двигались погребальные процессии: с зажженными водянистыми фарами лакированные дорогие катафалки в сопровождении джипов и «вольво»; горестные автобусы из Бюро ритуальных услуг, где в мутных стеклах краснели гробы и размытые лица родни; открытые грузовики из отдаленных сельских районов, где лежали влажные от дождя бруски, окруженные печальными, хмельными селянами; кое-где, прижимаясь к обочинам, семенили лошадки с телегами, на которых тряслись домовины… И всему этому не было края, все наплывало из-за гор и лесов, переливалось через холмы, выстилало низины. Это бесконечное, устремленное к невидимой цели движение волновало Модельера.
– Не гони слишком сильно, – попросил он шофера. – Все равно все там будем…
Крематорий был длинный, серебристо-металлический, стеклянный, напоминал огромную оранжерею, где выращивались диковинные цветы. Это сходство усиливали букеты, венки, а также сами многоцветные, обитые тканью гробы, которые выгружались из катафалков и на руках, на плечах молчаливой родни текли бесконечной вереницей ко входу.
Гробов было так много, а их цвет столь разнообразен – от нежно-сиреневого до пурпурно-красного, включая все оттенки золотого, зеленого, синего, – что издали это напоминало шевелящуюся огромную клумбу.
Под крематорий был переоборудован громадный завод, выпускавший когда-то космические челноки. Тягачи медленно вытаскивали их на солнце из туманного необъятного цеха, и они, как гигантские бабочки, покидали непомерный металлический кокон. С тех пор стараниями дизайнеров цех стал неузнаваем. Половина его была превращена в ритуальный зал с парящим в высоте человеком. Снаружи, сквозь несколько проемов, вливались ленточные транспортеры, и на них, как в багажных отделениях аэропорта, двигались гробы, описывали плавные дуги, поворачивались разными боками. Останавливались на минуту там, где с ними прощались близкие. Механический манипулятор снимал с гроба красную крышку. Открывалось бледное неживое лицо, окруженное сырыми цветами. Провожавшие использовали эту минуту для расставания. Записанный на пленку женский голос произносил печальное напутствие, выражал сострадание близким, и этот мембранный голос, сопровождаемый несколькими мелодичными аккордами, напоминал аэропорт, где объявлялись посадки на рейсы, которые уносили молчаливых пассажиров в пункты назначения, откуда нет возврата. Механические руки опускали кумачовую крышку, скрывая покойника. Пневматические молотки вгоняли блестящие гвозди, и красный гроб уплывал сквозь стену туда, где уже был недоступен для родственников. А его место занимал другой, сиреневый.
Модельер смотрел в даль туманного, лучистого пространства, где множество транспортеров, уставленных цветными гробами, вползали в зал, совершали волнообразные движения, словно выписывали бесконечные иероглифы. Они являлись сюда с необъятных просторов страны. Из крохотных лесных деревенек и из громадных туманных мегаполисов. Из наукоградов, окружавших циклотроны и обсерватории, и из рабочих поселков вокруг могучих заводов и домен. Из больниц и домов престарелых, где уставали маяться изведенные хворями старики, и из детских приютов, где обрывались едва начавшиеся жизни синюшных младенцев. С полей сражений, над которыми сияли вершины Кавказа, и с мест катастроф, над которыми носился неутомимый и разноцветный, как попугай, Министр по чрезвычайным ситуациям.
Окруженный подвижной бахромой разноцветных гробов, Патриарх освящал грандиозное сооружение. Среди поющего клира, весь золотой, переливающийся, словно синтетическая новогодняя елка, среди лампад, лучезарных свечей, он придавал своим появлением особое значение этому удивительному творению государственного и инженерного гения, которому не было равных в мире. Отказавшись от гигантомании советских времен, закрыв грандиозные космодромы, электростанции и заводы, лишь здесь, в крематории, власть демонстрировала величие русских пространств, обилие народа, неповторимость отечественной истории. И эта сопричастность родной истории, включенность в историческое творчество вдохновляли Модельера.
Он приблизился к священнослужителям, не мешая им довершить обряд, любуясь огнями, клобуками, голубоватым дымом, сквозь который тянулись вереницы усопших.
– Благословен сей приют многострадальных рабов Божиих, несущих в огни очистительные образ и подобие Сотворившего их из глины и праха, из воды и благорастворенных воздусей. В оные обратно возвращается безгласное тело, коему «равно повсюду истлевать»…
Модельер в этих сладостных, чуть дребезжащих песнопениях Патриарха уловил пушкинскую строку и опять удивился поразительному дару Святейшего запоминать и вплетать в богослужение стихи великого поэта. Впрочем, этому легко можно было найти объяснение. Патриарх был эфиоп, приглашен на московский престол из знаменитого коптского монастыря в Лалибеле, что явилось результатом сближения России с Эфиопией, в противовес нарастающему давлению США. Патриарх был молод, черен, как сырая нефть, с выпуклыми белками, которые ярко сверкали на бархатном лице, где в песнопениях раскрывался белозубый рот и высовывался алый сочный язык. Сочетание черного, золотого и алого производило мистическое впечатление, которому поддался Модельер. Патриарх гордился общими с Пушкиным корнями, читал наизусть «Гавриилиаду» и за особый изыск почитал ненароком вставить пушкинскую строчку в текст богослужения. Особенно любимы были строки «Я помню чудное мгновенье…», «Вечор, ты помнишь, вьюга злилась…», «В Академии наук заседает князь Дундук…» и «Мой дядя самых честных правил…». В своих государственных радениях Модельер никогда не пропускал случая испросить благословения у Патриарха Хайлия Второго.
Дождавшись, когда обряд освящения завершится и удовлетворенный клир, разглаживая бороды, умолкнет среди отлетающего вверх кадильного дыма, Модельер припал к смуглой руке Патриарха. Целовал длинные пепельно-серые пальцы с розовыми подушечками.
– Ваше святейшество, государство и народ верой крепки. Вас видят рядом с Президентом в самые важные минуты государственного строительства. Это вызывает глубокое одобрение общества.
– Я рядом с нашим Президентом «во дни торжеств и бед народных», – смиренно отозвался Патриарх.
– Как много народу нуждается в вашем окормлении. – Модельер кивнул на бессчетные вереницы гробов.
– Сей «народ безмолвствует», – печально сверкнул белками Хайлий Второй.
– Вы, должно быть, слышали о кознях некоторых вероломных сподвижников нашего Президента, которые во злобе своей умышляют на него покушение…
– «Судьба Евгения хранила, сперва мадам за ним ходила…» – вздохнул Патриарх.
– Мы обсуждали с вами обряд помазания, которым вскоре будет сопровождаться восхождение на Царство нашего славного правителя. Мне кажется, нам следует отслужить молебен во спасение Президента и в посрамление замышляющих на него…
– «…Вначале славный век Петра мрачили мятежи и казни…»
– Вот это я и хотел услышать, ваше святейшество. Когда мы разделаемся с гнусными заговорщиками, то выделим Патриархии дополнительные квоты на нефть, морскую рыбу и стиральный порошок «Ариэль».
– «Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я…» – задумчиво ответствовал Патриарх, троекратно поцеловал Модельера и отошел, кротко сияя золотом, изумрудами и сапфирами.
Модельер остался один среди мерного рокота транспортеров, плывущих гробов, мелодичных всплесков музыки, мембранных женских голосов, повторявших многократно, в разных местах огромного зала, одно и то же напутствие. Слышались тонкие вскрики родни, отпускавшей от себя любимого человека. Мягко стучали пневматические молотки, вгонявшие гвозди в сырое дерево. Это обилие смертей обеспечивалось Модельером не в результате бесчеловечной бойни, в которую ввергали Россию прежние свирепые правители, не в результате репрессий и казней, о которых в народе остался жуткий след апокрифов и разоблачений, а с помощью бескровных, психологических средств, разработанных в секретном центре Министерства здравоохранения, где трудились психоаналитики, социальные инженеры, конфликтологи, специалисты по неврозам, а также мастера галлюциногенных методик. В результате этих стерилизующих методик уходили из жизни протестно настроенные индивиды, не способные вписаться в «Квадрат» нового мироустройства, – те, кто вступал с этим священным «Черным квадратом» в психологический и моральный конфликт. «Квадрат» откликался на недовольство гражданина ответной, едва ощутимой вибрацией, которая воздействовала на конфликтующую личность, усиливая ее раздражение. «Квадрат» и личность обменивались сигналами, лавинообразно усиливая возникший конфликт. В результате фрондирующий субъект, как наркоман, уже не мог существовать без конфликта. Нарастающая психологическая борьба опустошала человека, лишала его жизненных сил. Будто кто-то невидимый проникал тонким клювом в мягкий мозг, выпивал серое вещество, повергая человека в тихое безумие, которое завершалось негромкой смертью.
Этим способом из народа извлекались все некачественные элементы. Все предрасположенные к бунту слои. Исключалась всякая возможность восстания и революции. Какой бы радикальный оборот ни принимали прогрессивные реформы, народ не бунтовал, не выходил на улицы, как зеницу ока берег социальный мир и стабильность. Терпеливо сносил временные голод и безденежье, мороз в квартирах и излишнюю требовательность справедливого начальства. «Квадрат», о котором шла речь, висел в Третьяковской галерее, цветом напоминал фиолетово-черного Патриарха. По нему пробегала постоянная, едва заметная рябь, которая, с каждым укрощенным конфликтом, передавалась на электронные рейтингомеры, моделируя последнюю, чуткую к переменам цифру.
Тут же, в ритуальном зале, с приглушенным звуком работал телевизор, на котором мелькали кадры заграничного турне Первого Президента. Загорелый, с благородной, расчесанной на пробор сединой, он в кенийском заповеднике разгрызал крепкими зубами орех, выколупывал ядро, протягивал доверчивой смешливой мартышке, и казалось, они на мгновение обмениваются рукопожатиями. На следующих кадрах, сделанных в Лас-Вегасе, неуклюжий, но очаровательный Истукан топтался на дансинге с размалеванной красоткой среди мерцающих лазерных спектров. Модельер с удовлетворением отметил грамотный монтаж, в котором накануне участвовал сам, оставив студию «Останкино» в глухой час ночи.
Чуть поодаль от конвейера с гробами стояли два известных юмориста, поглядывали на Модельера умными карими глазками, готовые по первому зову кинуться туда, где истошно закричит и забьется вдова или мать, чтобы утешить ее и развлечь какой-нибудь одесской шуткой.
Все ласкало глаз Модельера. Все воплощало его замысел.
Среди сменявших одна другую горестных групп его внимание привлекло печальное сообщество молодых, красивых мужчин, в котором выделялся статный, широкоплечий красавец, чье опечаленное лицо, короткие светлые волосы, твердый подбородок и затуманенные слезами голубые глаза показались Модельеру знакомыми. Это был известный футболист, кумир московских фанатов, чье изображение красовалось на рекламных плакатах, нарядных шарфах и спортивных майках. Форвард команды «Спартак» Олег Соколов, по кличке Сокол, что в недавнем матче с заезжей английской командой послал с центра поля удар такой силы, что английский голкипер потерял кисть руки, разорвал спиной сетку ворот и врезался в ограждение с рекламой противозачаточных пуль, производимых тульскими оружейниками. Восторг болельщиков был столь велик, что они разнесли восточную и южную трибуны и с криками «Слава России!» двинулись из Лужников в сторону азербайджанских поселений по левому берегу Москвы-реки, оставляя после себя дымящиеся шашлыки, освобожденных из плена русских девушек и горы красных расколотых арбузов.
Теперь Сокол, облаченный в строгий черный костюм, был печален. Стоял перед гробом с сиреневой пышной бахромой, напоминавшей чем-то девичий сарафан. Механические щупальца выпустили сверху блестящие пальцы, подцепили крышку гроба, приподняли ее, и открылось утопающее в цветах женское лицо поразительной красоты и бледности, с гордой и нежной линией лба, носа, сжатых губ, чуть приподнятого подбородка. И в смерти это русское лицо казалось любящим, горюющим по тем, кто оставался покуда жить, отпускал ее от себя, и она, не умея помешать их горю, молча умоляла из гроба не тосковать и утешиться.
– Мама, прости меня, мама, – приговаривал Сокол, касаясь выступавшей из сырых цветов материнской худой руки.
Модельер почувствовал острую жалость, в природе которой не мог разобраться. То ли ему было жаль сильного молодого мужчину, по чьим щекам бежали слезы, то ли этой женской красоты, на которую природа потратила столько чудесных, таинственных сил, и теперь эта красота превращалась в ничто, или его тревожило нечто третье, еще неосознанное, на постижение которого ему отпущены минуты, после чего будет поздно…
Сокол целовал материнское лицо. Уже мелодично прозвучал прощальный аккорд, женский мембранный голос проникновенно повторял свои металлические, идущие от сердца слова. Молодые люди, видимо футболисты команды «Русь», осторожно обнимали друга за плечи, отрывали его от гроба. Сверху опустилась нарядная, в сиреневых кружавчиках крышка. Пневматические молотки с мягким шипением вогнали в тес блестящие гвозди… Гроб тронулся… Была видна белая, защемленная крышкой роза… Гроб уплывал по конвейеру в полукруглые врата, за которыми прекращалось бытие…
Модельер, все еще не понимая своих переживаний, приблизился к Соколу. Поклонился ему, пожал сочувственно руку, а потом сильным искренним порывом прижал к груди.
– Разделяю вашу скорбь… Примите мои соболезнования… Также и от Президента… Утешением вам может служить мысль, что вы – гордость страны, и любовь к вам народа и Президента хоть отчасти скрасят неутешное горе.
Сокол, узнав его, благодарно кивнул:
– Понимаете, мама не могла отыскать на телеэкране русских лиц. Немецкие, ассирийские, китайские, аргентинские, алеутские, нигерийские, арабские, узбекские, татарские, дагестанские, и ни одного русского! Она сначала возмущалась, а потом умерла от разрыва сердца!..
Модельер вытер ему своим платком слезы, обещая привести Президента на ближайший матч. Кивнул юмористам, и те, перекатываясь на бойких ножках, приблизились к Соколу, стали что-то нежно курлыкать.
Футболисты удалились, и уже другая печальная группа в мятых пиджаках, колом стоящих воротниках, бабьих платках окружила скромный, без обивки гроб, откуда высовывался строгий нос самоубийцы из вологодской деревни.
Модельер, все еще стараясь понять, чем поразила его мертвая красавица, какая неясная мысль витала в его творческом сознании, медленно, вдоль плывущих гробов, приблизился к стене с полукруглыми проемами. Задумчиво прошел сквозь стену…
За стеной, в другой половине огромного пространства, по всей длине космического цеха стояли печи: оболочки из нержавеющей стали; многоцветные пульты автоматики; жароупорные глазки, в которых бушевало рыжее пламя. Проект печей был подготовлен немецкими инженерами, членами ассоциации «Памяти жертв холокоста», которые, исследуя эсэсовские преступления в Освенциме и Майданеке, натолкнулись на ряд остроумных изобретений, использованных затем в проектировании газовых печей для России. Модельер в публичных выступлениях часто ссылался на этот опыт русско-германского сотрудничества, ставший возможным лишь при Президенте-германофиле, в условиях глобализма и мирового разделения труда.
Если в ритуальном зале все дышало мистикой и возвышенной поэзией смерти, то тут все было подчинено высшей рациональности. Реализовывалась мечта русских космистов об «автотрофном человечестве», о «безотходном бытии», о замкнутом цикле, где смерть не является отрицанием жизни, а служит ей, питает ее своей неживой материей. Тут же за стеной работало несколько коммерческих фирм, встроенных как дочерние предприятия в холдинг крематория. Каждая фирма была нацелена на свою область смерти, осваивала мертвое, в гробу, тело в интересах бесконечной торжествующей жизни. Перед печами, в которых, каждый своим пламенем, излучая то медные, то зеленовато-синие отсветы, горели мертвецы, на обширных стеллажах дожидались своей очереди вновь открытые гробы. Множество расторопных людей в клеенчатых фартуках обступили покойников, действуя энергично и слаженно. Охапками вытаскивали из гробов цветы. Тащили пышные купы на соседние столы, где сметливые голорукие женщины переговаривались, пересмеивались, сортировали цветы. Розы к розам. Гвоздики к гвоздикам. Алое к алому. Белое к белому. Все делилось на букеты, опрыскивалось освежающей влагой. Драгоценные, чудно пахнущие цветы, облагородив панихиды и проводы, возвращались в цветочные магазины, на свадьбы, на правительственные банкеты и театральные бенефисы.
Маленький пухленький тат, хозяин фирмы «Цветы для Марии», подкатился к Модельеру на круглых ножках в лакированных штиблетах.
– Должен вам доложить, что пошли георгины и хризантемы. А весной были пионы и лилии. Мы провели экспертизу и выяснили, что некоторые цветы возвращаются к нам по третьему разу. На четвертый не получается, извините. – Тат, скупивший на цветочные доходы десяток особняков в арбатских переулках, звание академика, орден Святого Станислава и маленькую планету в астероидном поясе, названную его именем, Джебраил, преданно смотрел на своего благодетеля. Модельер, желая его поощрить, в который раз повторил шутливый вопрос:
– Какой твой любимый романс, Джебраил?
– «Зацвели уж давно хризантемы в саду…» – нараспев произнес торговец цветами, ущипнув за бочок аппетитную толстушку, набиравшую букет георгинов.
Следующий участок занимала фирма «Ничто не забыто», возглавляемая знаменитым в прошлом драматургом, писавшим пьесы о декабристах, большевиках и народовольцах. Работники фирмы дружно набрасывались на освобожденных от цветов покойников. Ловко стаскивали с них новые костюмы, брюки, галстуки, головные платки и юбки. Галантного вида кавалер с фатовскими усиками приподнимал из гроба нарумяненную покойницу, ловко задирая ей подол, нежно расстегивая пуговки платья, что-то искусительно, вполголоса, приговаривал. Другой, бойцовского вида, освобождал смиренного московского чиновника от новых, натертых до блеска туфель, помещая назад в гроб твердые стопы в белых носках. Добытая таким образом одежда сортировалась, отглаживалась. Дорогие, модные ее образцы отправлялись на вещевые рынки, а слегка поношенные, отечественного пошива, уходили в районы стихийных бедствий, где в них облачались погорельцы, жертвы паводков и землетрясений.
– Как идет работа над новой пьесой о нашем дорогом Президенте? – спросил Модельер хозяина предприятия.
Немолодой, с неулыбчивым синеватым лицом, красивыми волосатыми ноздрями, драматург был одет в великолепный костюм от Версаче. Если присмотреться, сзади на пиджаке был едва заметный, хорошо заглаженный шов – на месте длинного надреза, какой производят, чтобы удобнее было облачать негнущегося покойника. Драматург то и дело опрыскивал себя духами из крохотного изящного пульверизатора, но не мог до конца избавиться от запаха тления.
– Удалось ли показать нашего Президента как борца с политическим экстремизмом и одновременно преемником великих традиций, в том числе и большевистского прошлого?
– Хорошо, что вы поручили эту работу мне, а не выскочке Гельману, чья пьеса «Кашевары» до сих пор ставится в провинциальных сумасшедших домах. О чем бы я вас хотел попросить, так это о большей координации в нашей совместной работе. Мы направляем изделия в места наводнений и техногенных катастроф, а оттуда к нам везут полуфабрикаты. И были случаи, когда семьи потерпевших получали от нас гуманитарную помощь в виде пиджаков и юбок, в которые за неделю до этого облачались тела погибших. Даже Ленин в трудное для страны время добивался большей скоординированности ведомств.
Модельер не стал слушать старого ворчуна и перешел туда, где действовало еще одно коммерческое предприятие – «Русское злато». Его хозяином был знаменитый московский грек, чьи экономические новации покончили с застойной советской экономикой, обеспечили новое «экономическое чудо». Поблистав недолго в политике, грек, в шутку называвший себя Периклом, ушел в бизнес. Создал уникальную технологию золотодобычи, для чего не нужны были колымские прииски, драги, буйные артели старателей.
К гробам, в которых, без цветов, без одежды, лежали полуголые покойники, подходили бригады «ювелиров». Действуя подобно дантистам, они раскрывали покойникам рот, отчего слышался хруст отвердевших сухожилий. Освещали полость рта яркими лампочками-карандашами. Обнаруживали коронки. Зубодерами, с негромким скрежетом, выламывали золотые зубы, кидая их в мешочки, что были закреплены на животе. С легким звоном золотое изделие падало на дно мешочка. «Ювелиры» вырывали серьги из пергаментных ушей. Шарили под рубахами мертвецов, извлекая нательные кресты, образки и ладанки. Добытое золото ссыпалось на маленький транспортер, двигалось, переливаясь, играя камушками. Ловкие руки отбирали коронки, отсылая их на переплав, обеспечивая драгоценным металлом стоматологов. Серьги, кольца и ладанки направлялись в ювелирные магазины Перикла, где продавались с маленькой скидкой.
– Нет ли каких оригинальных находок? – поинтересовался Модельер у владельца фирмы, который вышагивал рядом, толстенький и симпатичный, как пингвин.
– Только вам, как знатоку… Самородок «Улыбка». Обнаружен в самом неожиданном месте. Изъят у старовера, проживавшего в таежном скиту. Однако есть предположение, что это Лаврентий Берия, чудом избежавший расстрела и проживший остаток дней под видом монаха-отшельника. – Перикл полез в карман и извлек золотую челюсть, состоящую из двенадцати зубов. Поднял ее, и она засияла как драгоценная ослепительная улыбка. Казалось, в руке у грека горит золотой полумесяц.
– Было бы правильно, – ненавязчиво посоветовал Модельер, – если бы этот редкий экспонат хранился в «Пещере волхвов», где собраны дары Президенту. Такие находки – национальное достояние.
– Вестимо, – печально заметил грек, засовывая челюсть себе в рот, но она была ему великовата, и он вынул ее на свет божий. – Как видите, потихоньку-полегоньку мы возвращаем государству золото партии.
Модельер перешел в соседний отсек, где размещалось предприятие, задуманное не без его творческой фантазии. Оно носило литературное название «Чехов», работало на экспорт, действовало в рамках пропаганды русской литературы за рубежом. Его возглавлял известный литературовед и одновременно удачливый бизнесмен Шпицберген, чье имя красовалось в списке наиболее именитых представителей рус-арта. Изделиями, которыми славилась фирма «Чехов», были скульптуры, изображавшие литературных персонажей. От восковых фигур они отличались тем, что изготавливались из умерших тел.
Модельеру открылось зрелище, напоминавшее ателье скульптора, анатомический театр, дубильный цех и мясную коптильню. Мертвецов, тучных, заплывших стеариновым жиром, или тощих, напоминавших скрюченных на льду окуней, извлекали из гробов. Укладывали на металлический поднос. Бригада анатомов грубо и яростно начинала их потрошить. Вываливала на оцинкованное железо окаменелое фиолетовое сердце, похожую на черного моллюска печень, вытягивала и наматывала на деревянные катушки бесконечную ленту кишок. Другие мастера долбили бесчувственному покойнику череп, вставляли отсасывающую трубку, похожую на пистолет бензозаправки, мощно высасывали мозг, увлекавший за собой глазные яблоки, которые, хлюпнув, вдруг проваливались, оставляя зияющие глазницы. Скорняки сапожными ножами кроили кожу, стягивали длинные потрескивающие ленты, свежевали мертвеца, обнажая розовую, в легкой сукровице, тушу. Их сменяли искусные хирурги, вооруженные пинцетами, зажимами, скальпелями. Осторожно и нежно, словно это был балык, отсекали от мышц ломти мяса, создавали из них изящные завитки, хрупкие лопасти, полупрозрачные заостренные перья. Длинными шприцами вгоняли в сухожилия цементирующий раствор. Мертвое тело, окруженное этими лепестками, становилось похожим на странный цветок или глубоководную рыбу, которая всплыла на поверхность с растопыренными плавниками, растворенными жабрами, открытым ртом. Являлся скульптор, задумавший литературный образ, склонялся над телом и точными нажатиями сгибал мертвецу ноги, приподнимал руки, поворачивал шею, придавая позу античного дискобола, или танцующей грации, или летящего купидона.
Эту сотворенную из костей и мяса скульптуру, без кожи, с анатомическим рельефом мышц, приподнимали и бережно несли в сушильную печь. Подвешивали в жаркой, стеклянно прозрачной камере, где тело медленно высыхало, смуглело, становилось крепким, сухим и подвяленным, окутывалось легким дымком. Оно поворачивалось вокруг оси, открывая пучки мышц на ягодицах, бицепсы и дельтовидные мускулы на руках, рельефные бугры брюшного пресса. Прошедшее термообработку тело, в котором инъекции вступали в химическую реакцию с плотью, бальзамировали его, придавали свойства пластмассы, – подрумяненное тело выходило из печи, чуть пахнущее бужениной, напоминая запеченное в духовке мясо. Окруженное отвердевшими лепестками, изящно свернутыми завитками, вьющимися лентами, оно являло собой анатомическое диво. К нему приближались живописцы и легкими касаниями наносили тени, штрихи, полутона, придавая скульптуре единую терракотовую гамму.
Последними появлялись стеклянных дел мастера, вдавливали в полые глазницы стеклянные глаза, натягивая на них кожаные веки. Вставляли в иссохшие губы ослепительно-белые челюсти, и скульптура оживала, восторженно и пьяняще смотрела в мир немигающими очами, открывала белозубые уста в сардоническом хохоте или в неистовом крике. Сжимала в кулаке собственную мышцу, напоминавшую развеянный шарф. Напрягало за лопатками пернатое крыло, иссеченное из мягких тканей спины.
Прошедшее сложную термохимическую обработку тело устанавливалось на дорогом штативе с бронзовой этикеткой, где было начертано имя литературного персонажа. «Дядя Ваня», «Раневская», «Ионыч» или «Ванька Жуков». Именно вдоль этих завершенных, застывших в полете и танце скульптур двигался теперь Модельер, внимая литературоведу Шпицбергену.
– Должен вам сказать, что, с тех пор как мы запустили этот проект, интерес к русской классике за рубежом заметно возрос. – Худощавый, с благородной хромотой Шпицберген элегантно опирался на трость, инкрустированную то ли бивнями мамонта, то ли костями вологодских крестьян. – Я получаю заказы из университетов Великобритании, Германии, Франции. Университет Джорджа Вашингтона запросил партию женских образов из пьесы «Три сестры», а также экземпляр под названием «Мисюсь, где ты?». Не кажется ли вам, что для повышения интеллигентности нашего депутатского корпуса следует поставить несколько таких фигур в Государственной думе?… А почему бы нет?…
– Моя мысль о другом, – задумчиво произнес Модельер, глядя, как на оцинкованном железе обдирают очередного «Ионыча», а в коптильне медленно, словно на пуантах, поворачивается освежеванная, с воздетыми вверх грудями, «Раневская». – Не хотели бы вы перейти к персонажам Льва Толстого? Не меняя название фирмы «Чехов», мы можем запустить литературную серию «Пьер Безухов на Бородинском поле», «Первый бал Наташи Ростовой», «Князь Болконский под Аустерлицем», а также «Старый граф Ростов на коне мчится за волком». Лошади, не сомневаюсь, есть в соседних деревнях, а волки, если не подразумевать под этим олигархов, всегда найдутся в тамбовских лесах.
– Гениально! – воскликнул Шпицберген, трогая кончиком трости пышные волосы на голове полуобнаженной покойницы. – Взгляните, отличный экземпляр для «Элен»!..
Модельер взглянул и узнал в покойнице мать знаменитого футболиста Сокола – та же мраморная белизна лба, гордые, чуть надменные губы, восхитительный овал подбородка, пепельные пышные волосы, стянутые в пук. Так выглядят античные камеи. Модельер любовался ею, и одновременно непроявленная мысль, туманно возникшая в воображении еще в ритуальном зале, вновь стала его тревожить.
– Эврика! – воскликнул он, хлопнув себя по лбу. – Дорогой Шпицберген, настоящая женственность проявляется только в смерти. У меня к вам просьба. Используя данный экземпляр в своих литературных целях, снимите с этой прекрасной головы кожу, сохранив черты лица, и пусть ваши скорняки придадут ей эластичность и нежность замшевой перчатки. И пожалуйста, как можно осторожнее. Мне нужно не потерять портретное сходство.
И уже ловкие мастера перекладывали женщину на поднос. Приподнимали ей голову. Делали скальпелем надрез вокруг шеи, на затылке, среди вьющихся пышных волос. Умело и сильно совлекали с лица кожу, словно пластичную маску.
– Позднее я поделюсь с вами замыслом. – Модельер прощался с литературоведом, покидал его заведение.
Шел вдоль хромированных, мерно гудящих печей, у которых желтели и трепетали смотровые глазки. Перед закрытыми створами, наблюдая игру разноцветных индикаторов, стояли истопники, поддерживая режим горения, поворачивая вентили, нажимая клавиши. В жароупорных, накаленных добела камерах сгорала очередная партия мертвецов. Превратились в дым дерево и обивка гробов. Улетучились ветхие ткани одежд. Вытопился и отек яркими каплями жир. Выкипела влага. Спеклись жилы и мускулы. Начинали медленно и неохотно сгорать кости, охваченные голубыми язычками. Черепа выбрасывали из пустых глазниц пучки синих и зеленых лучей, словно в костях за долгую жизнь отложились медь и магний, хром и никель, придававшие пламени разноцветные отсветы. Толстяки горели жирно и ярко. Больные, источенные хворями, тлели неохотно и медленно. Дети пылали, как пучки хвороста. Младенцы вспыхивали, как ворох сухой травы, не оставляя пепла.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































