Текст книги "Крейсерова соната"
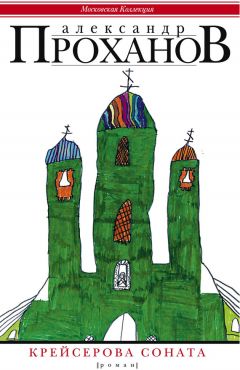
Автор книги: Александр Проханов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 38 страниц)
Глава 20
Президентский кортеж мчался по Москве, напоминая черную сверкающую комету. Тяжеловесные головные машины с хромированными ножами резали автомобильный поток, сбивая с дороги нерасторопных водителей, так что в стороны летели и перевертывались охваченные пламенем автомобили, с хрустом шмякались о стены домов.
Ревел сиреной огромный, похожий на катафалк вагон, где размещался центр правительственной связи, подвижной командный пункт стратегических ракет и несколько личных президентских звездочетов и экстрасенсов, поддерживающих постоянный контакт со своими американскими, английскими и израильскими коллегами. В отдельном автомобиле размещалась мобильная клиника с аппаратом искусственного дыхания, искусственными сердцем и почкой, искусственным мозгом и банком готовых для пересадки органов, включая семенники юноши, погибшего утром от ножевого удара. В нескольких автомобилях ехала свита референтов, журналистов, придворных шутов, карл и карлиц, горбунов, массажистов, юмористов и эстрадных певцов, которые в дороге продолжали ссориться, ревновать, подстраивать друг другу мелкие пакости, так что пресс-атташе Президента время от времени больно шлепал их мухобойкой. В замыкание следовали два броневика с охраной, которая расстреливала из автоматов подозрительных, остановившихся на тротуарах прохожих, состязаясь в меткости и стрельбе влет. В центре кавалькады, в бронированном, с тонированными стеклами «мерседесе» сидели Модельер и Счастливчик, и первый, забавляя Президента, мило шутил, вспоминая недавнюю устроенную министрам нефтяную ванну.
– Вообрази, как только мы покинули горнолыжную трассу, на место прибыла команда Гринпис. Эти активисты вылавливали наших министров из нефтяной ямы большими сачками. Потом мыли растворами. Вывешивали с помощью прищепок на просушку. Мужественней всех вели себя «слабовики» – никто не заплакал, не обмочился. Чего не скажешь о Министре бескультурья и матерщины, который сразу потек как сосулька… Но самое забавное произошло, когда несчастных пришел проведать Патриарх Хайлий Второй. Святейший забыл предупредить парней из Гринписа, что он эфиоп. И они посадили его в таз и долго терли мочалкой, полоскали в «Ариэле», драили пемзой, окунали в легкий раствор кислоты. И все напрасно! Патриарх-мученик изрек: «Не все белое, что снег!.. Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца!» После этого пошел окормлять министров.
Счастливчика смешило до слез забавное повествование Модельера. Он хохотал, глядя, как перевертываются за окном охваченные пламенем лимузины, снайперские выстрелы поражают подозрительных пешеходов и те с пробитыми головами валятся на проезжую часть.
Они мчались теперь по Волгоградскому проспекту к Кольцевой, где в районе Капотни у Москвы-реки располагалась громадная художественная мастерская под открытым небом, принадлежавшая всемирно известному скульптору Свиристели. Там высилась непомерная, уходящая в стратосферу скульптура, получившая у москвичей наименование Колосс Московский. Эту статую маэстро торопился завершить ко дню венчания на Царство. Работы кипели и днем и ночью. Модельер и Счастливчик совершали инспекционную поездку. На минуту умолкли, глядя на далекую, возвышавшуюся над городом скульптуру, чья голова терялась в тучах, а вдоль всего непомерного тулова едва поблескивали вспышки электросварки.
– Неизвестно, как воспримет мое венчание народ, – задумчиво произнес Счастливчик, и его милое лицо с серыми глазами навыкат затуманилось невысказанными тревогами, отчего стало еще милее.
Глядя на это обаятельное, с золотистыми бровями лицо, Модельер подумал, что не напрасно две юные певицы-лесбиянки, разносящие по всему миру славу о русских девушках, исполняют хит: «Мы родим от Президента, и только от него, только от него, только от него…»
– Ты говоришь – «народ»… Но русский народ два тысячелетия живет во сне. Его история приснилась ему. Приснились цари, вожди, демократы. Мы навеем ему еще один сон – твое венчание на Царство. И, поверь мне, это будет удивительный сон, как у роженицы под веселящим газом. Я уже дал приказ собирать веселящий газ, который выделяется ночами вокруг подсвеченных, иллюминированных зданий…
Счастливчик не ответил. Нос его начал удлиняться, загнулся вниз, как у попугая. Весь он порос пышными перьями. Модельер понял, что Счастливчик мимолетно подумал о птице фениксе… и обрел ее образ.
Они подкатили к стройплощадке, где раздавались металлические гулы. Из неба вдоль медного туловища текли голубые ручьи сварки. Подъезжали и отъезжали тягачи, доставлявшие огромные рулоны листовой меди. Было людно, пахло металлом. Колосс Московский уходил в небеса, и на его плечах, словно пышный воротник, скрывая голову, лежало голубое облако.
При входе их встретил маэстро Свиристели. Он сиял радушием и преданностью, склонялся в глубоком поклоне.
– Счастлив видеть того, кто послужил прообразом моей поднебесной скульптуры, – произнес Свиристели, делая грациозный взмах рукой, соединяя этим взмахом Счастливчика и его медное исполинское подобие.
– Неужели я так велик? – спросил смущенный Счастливчик, поднимая глаза в небо.
– Он мал по сравнению с вами, – ответил Свиристели, тонкий льстец, царедворец, придворный скульптор, мастер бронзовых миниатюр, которыми уставил весь земной шар, соединив Землю с верхними слоями атмосферы. Его исполинские скульптуры, поставленные на всех континентах, полые внутри, обладали свойством печной трубы. Не утихавший в вышине ветер, попадая внутрь скульптуры, производил рев, как дымоход в бурную осеннюю ночь. С некоторых пор над Землей установился непрерывный душераздирающий вой, несущийся с небес, и народы, склонные к антиглобализму, смирялись, прислушивались к жутким рокотам неба, жили вобрав голову в плечи.
– Та небольшая скульптура на стрелке Москвы-реки, что я поставил во славу вашего великого предтечи, является настольной миниатюрой по сравнению с этой. Монблан уступает вашему изображению на целых шесть метров. – Свиристели скромно улыбался, зная за собой всемирную славу величайшего из зодчих, которому принадлежала крылатая фраза: «Высота спасет мир».
Оригинальный во всем, он и одевался под стать своей славе. Тяжелая грива седых волос ниспадала до плеч, схваченная бархатной лентой, черной на белом челе, с голубым прозрачным сапфиром, на дне которого переливалась таинственная капля потустороннего света. Он был одет в узкий камзол, шитый золотыми акантовыми листьями и серебряными пауками, в голове которых переливались крохотные злые рубины. Веки его были покрашены в лазурный цвет, под стать изразцам Самарканда, на каждом веке был начертан каббалистический знак, означавший вечное бодрствование. Его безукоризненные зубы были выполнены из бранденбургской разноцветной эмали с платиновыми инкрустациями, каждая из которых изображала зодиакальный знак. Когда он говорил, на резцах отчетливо виднелись Рыбы и Скорпион, а когда улыбался широкой доброй улыбкой, открывались клыки с изображением Рака и Козерога. Ноги в высоких чулках были обуты в мягкие средневековые туфли, напоминавшие большие растопыренные уши. А руки украшали перчатки – он их поминутно менял, бросая использованные на серебряный подносик, который держал неотступный слуга в арабском тюрбане. Счастливчик знал за Свиристели эту странность, знал и то, что перчатки выделываются из человеческой кожи в знаменитой фирме «Чехов», – сдираются целиком с кисти мертвеца, а потом выделываются с помощью тонких дубильных веществ.
– Дорогой Свиристели, – Модельер не мог отвести восхищенного взора от серебряных пауков, которые посылали из глаз рубиновые лучики смерти, – поведайте Президенту, в чем идея вашей скульптуры.
– Основная идея – это Вертикаль власти, восходящая от корней травы до планеты Сатурн. – Свиристели указал на крохотную травинку, пробивавшуюся у ног исполина, потом предложил взглянуть в телескоп. – Если угодно, этим сооружением мы продолжаем дохристианскую традицию Вавилонской башни, выстраивая пирамиду современного общества строго по сословным иерархиям. – Свиристели совлек с руки пергаментно-прозрачную перчатку, затем другую. Кинул скомканные комочки кожи на серебряный подносик и тут же надел другие перчатки. Как хирург, вставил персты в лайковые пятипалые оболочки, оглаживая длинные запястья. – Все сооружение разделено на уровни, или, если угодно, палубы, соединяемые скоростными лифтами. Каждый этаж, или палуба, соответствует уровню власти. На вершине – воздушные замки для узкого круга олигархов, с набором всех мыслимых атрибутов господства, включая скрижали. Ниже следуют дворцы для членов Правительства и губернаторов, главным достоинством которых являются сады Семирамиды и бассейны с водой Евфрата и Тигра, которую мы получили от дружественной американской морской пехоты. Следующий уровень – великолепные палаты для федерального и регионального чиновничества, с ресторанами и кухнями всех народов мира. Постепенно снижаясь, слегка теряя в комфорте и качестве интерьеров, следуют этажи для духовенства, с храмом синтетической Религии Будущего и главной святыней – Медным Змеем; для парламентариев – с прекрасной психиатрической лечебницей, где используют электрошок и лоботомию; для прокурорских работников, военной и разведывательной элиты – с массой бильярдных столов, кегельбанов и казино; для среднего бизнеса – с великолепным, в виде Парфенона, домом терпимости; для придворных писателей, актеров и режиссеров, награжденных премией «Триумф», – с гипсовым бюстом знаменитого поэта, посвятившего актрисе Мордюковой поэму «Нонна и овес»; для журналистов и телеведущих, награжденных премией ТЭФИ, – с золотой копией нижней челюсти Познера. На нижних уровнях грандиозной фигуры, в районе пупка, размещаются этажи для мелкого бизнеса, «челноков» и бюджетников – для последних предусмотрены специальные площадки для протестных демонстраций под девизом: «Сильное образование – сильная Россия!» В паху исполина, в его ягодицах и бедрах, до самых колен размещаются представители простого народа, с удобными ночлежками, бесплатными полевыми кухнями, палаточными городками и набором мусорных баков, чтобы было где коротать время. Причем простолюдины выполняют энергетическую функцию монумента. Я умышленно отказался от ядерных реакторов, двигателей внутреннего сгорания, дизелей и аккумуляторов. Остановился на древних формах движения – колеса, рычаги, огромные шестерни и приводные ремни, которые движутся простыми мускульными усилиями нескольких тысяч людей. Так простолюдины будут избавлены от праздности и станут соответствовать определению: народ – главный двигатель истории. Именно эти усилия приведут в движение сложную механику монумента, заставят его поднимать и опускать ноги, совершать гигантские шаги. Монумент двинется, переставляя ноги, по дну Москва-реки к месту воздвижения, на Воробьевы горы, в район университета. Это хождение по водам предусматривает предварительный промер глубин и укрепление берегов по всему маршруту следования. Все гигантское сооружение увенчано хрустальной головой, повторяющей величественные черты нашего дорогого Президента. Голова изготовлена в Гусь-Хрустальном по эскизам президентского духовника отца Тихона, великого стеклодува и исповедника.
Свиристели торжествующе взглянул на гостей, совлек перчатки и кинул их на серебряный подносик, тотчас заменив использованные на новую, чудесно выделанную, желтовато-прозрачную пару.
– Великолепно!.. – не скрывал своего восхищения Счастливчик. – Что же будет размещаться в хрустальной голове?
– Там будет трон из материалов, не имеющих земного происхождения. На троне будете восседать вы, ваше величество… Сквозь сложную систему линз и зеркал, с помощью лазерной техники ваш лик будет спроецирован в мироздание, чтобы инопланетяне, которые выйдут на контакт с Землей, по вашему изображению, а не по дурацкой формуле Планка: энергия равна скорости света в квадрате – смогли определить характер и дух нашей земной цивилизации. Если угодно, я создал не просто скульптуру, но и мистический маяк, на оккультный свет которого из иных миров будут приплывать космические корабли… – Перчатки плохо снимались с пальцев Свиристели. Он легонько ухватил их зубами, потянул за кончики и ловко стянул. При этом стали видны эмалированные резцы и клыки с изображениями Рыб, Скорпиона, Козерога и Рака.
– Нельзя ли осмотреть вашу планетарную стройку, – желая польстить маэстро, произнес Счастливчик.
– С превеликим удовольствием… От Человекобога у нас нет секретов… – Свиристели склонился в глубоком поклоне.
Исполин упирался гигантскими стопами в землю. Под медными пятками были видны остатки деревни, находившейся у Москвы-реки до начала великой стройки. Мощные ноги, как два Александрийских столпа, возносились к небу, сходились в туманной высоте, образуя громадные полусферы ягодиц и рельефно выступавшие мужские чресла. Торс, расходясь к плечам, был выше Останкинской телебашни. Могучие руки, чуть согнутые в локтях, казались двумя свисавшими из неба башнями. Головы не было видно, ее укрывало облако, какое обычно повисает над кратером неуснувшего вулкана. Непомерное сооружение звенело, громыхало, скрежетало, высекало искры, сыпало раскаленные водопады, окутывалось пылью, едким дымом, бесчисленными язычками автогена, было окружено легчайшей сеткой строительных лесов, на которых копошились муравьиные сонмища строителей. Казалось, все человечество собралось к подножию колосса, карабкается по нему в небеса, желая дотянуться до Бога.
К подножию по железной дороге подъезжали составы с арматурой, медью, сталью, двутаврами, которые разгружались и тут же жадно поглощались исполином, превращаясь в его жилы, кожу, суставы. Подкатывали тягачи, какие возят тяжелые ракеты. Они были нагружены строительными материалами, краснели медными рулонами, плитками драгоценной керамики, смальтой для мозаик. К вершине поднебесного сооружения по грузовым лифтам уходили мебель, сервизы, картины великих мастеров, гобелены, светильники. Множество подъемных кранов передавали с этажа на этаж, с палубы на палубу дорогие унитазы, ванны, биде, музыкальные инструменты, телевизоры, зеркала, восточные ковры. Мощные грузовые вертолеты отрывали от земли стальные фермы, напоминавшие пролеты моста, надсадно воя винтами, уносили в туманную высь. Туда же поднимались дирижабли, держа под брюхом то громадное зубчатое колесо, то сверкающий, необъятных размеров шарнир, то смазанный маслом громадный рычаг.
Плотью истукану служили не только медь и сталь. На создание его оболочек шли развалины античных храмов, остатки египетских пирамид, перемолотые американскими бомбами руины Вавилона. Исполин создавался из древних надгробий, праха исчезнувших поколений, идолов полузабытых религий. Колосс жадно вбирал в себя саркофаги фараонов, греческие амфоры и галеоны, крепостные стены замков, купола православных церквей и синагог. Все это варилось, мешалось, поглощалось, становилось телом поднебесного идола.
На земле создавались отдельные элементы сооружения, главным образом декоративные медные пояса с барельефами, повторявшими античные статуи, скульптурные алтари, буддийские фигуры, украшающие стены храма. Для этих декоративных копий использовалась особая технология, которую Свиристели, никогда не отрекавшийся от советского интернационализма, назвал «Навеки вместе». Беженцы из стран ближнего зарубежья приглашались миграционной службой на строительство монумента. Их разбивали на группы, каждая из которых, по эскизам самого Свиристели, изображала тот или иной скульптурный шедевр. Например, выходцы из Северного Казахстана, обнаженные, напрягая мускулы, воспроизводили Лаокоона. Беглецы из Таджикистана, мужчины и женщины, сбросив одежды, занимали разнообразные позы любовных соитий, как на барельефах восточных храмов. Беженцы из Прибалтики своей пластикой воспроизводили Пергамский алтарь. Погорельцы из Абхазии создавали скульптурную группу – памятник воинам вьетнамской войны в Вашингтоне. А иммигранты из Карабаха – памятник воинам-афганцам в Люблине.
К этим застывшим живым скульптурам подъезжали цистерны с металлизированной краской. Помощники Свиристели в респираторах направляли разбрызгиватели, под большим давлением покрывали тела и лица слоем металлической краски. К этим влажным, блестящим скульптурам придвигались огненные факелы, обдували раскаленным пламенем, в результате чего краска превращалась в прочную тонкую корку, повторявшую пластику тел, а сами тела выпаривались. Следом подъезжали тигели с жидким стеклом, и оно заливалось в эти пустые оболочки, наполняя их плотной массой. Стекло заливали искусные стеклодувы из Гусь-Хрустального. Ими руководил духовник Тихон, суровый, в клеенчатом фартуке и в скуфейке, покрикивал на мастеров: «Дуй, да не передуй!.. Лей, да не перелей!..»
Очередной готовый барельеф, еще не до конца остывший, изображал памятник английским пехотинцам, погибшим во время газовой атаки на Марне, был подхвачен подъемным краном и медленно уходил в небеса, где его ожидало свободное место на правом бедре медного идола.
– Теперь прошу пройти в лифт… Мы поднимемся в хрустальную голову, – пригласил Свиристели.
Они погрузились в капсулу, являвшую собой реактивную катапульту. Заняли горизонтальное положение, как космонавты. Свиристели голосом Гагарина крикнул: «Поехали!..» – нажал кнопку, и катапульта рванула вверх с первой космической скоростью. Счастливчик видел, как от страшного давления расплылось и затрепетало подобно студню лицо Свиристели, как Модельер, еще секунду назад изящный, с утонченным лицом, стал похож на трясущуюся скифскую бабу. Счастливчик почти потерял сознание от перегрузок.
Они были на вершине монумента, в хрустальной, пронизанной солнцем голове, сквозь которую виднелась незамутненная лазурь, застыло внизу перламутровое облако, и в его разрывах сквозила земля с чуть заметными линиями дорог, крапинками и чешуйками поселков, рыжими и голубыми лесами дальнего Подмосковья.
– Отсюда вы станете видны не только земным континентам, но и всему мирозданию. – Свиристели обводил рукой хрустальную полость, приглашая Счастливчика любоваться невиданными красотами земли и неба.
От перенесенных перегрузок, от высоты, от разреженной атмосферы Счастливчик чувствовал головокружение.
Ему было странно и сладостно находиться внутри собственной головы, узнавая из глубины хрустального черепа свои собственные черты: прозрачный лоб, надбровные дуги, выступавший нос, сжатые губы, узкий подбородок – все хрустальное, светоносное, пропускавшее лучи, с легчайшими радужными переливами, словно он находился на дне огромного графина, куда попадало солнце.
– Я тот, кто сам в себе и кто себя объемлет… – произнес он чей-то, быть может шекспировский, стих.
Головокружение продолжалось мгновение. Очнулся. Хрустальная голова была полна солнца. Свиристели протягивал ему грузинский серебряный рог с красным вином, предлагал выпить на высоте двенадцать тысяч метров над уровнем моря.
Плужников и Аня завершали свой день, сидя в кухоньке, под матерчатым абажуром. Она убрала в буфет помытые чашки, стряхнула с клеенки крошки. Плужников выложил на стол альбом, кисти, краски, налил в граненый стакан воды.
– Так и не знаю, кто ты, – сказала Аня, щуря свои зеленовато-серые глаза, наблюдая за тем, как он раскрывает альбом, готовясь приступить к рисованию, которым прежде никогда не занимался.
– Я и сам не знаю, кто я, – ответил Плужников, созерцая волшебную прозрачность воды в стакане.
– Откуда ты появился в Москве, на углу Остоженки, весь в ожогах и ранах?
– Не помню… Детство вспомнил… Маму и папу… Наш городок… Школьных учителей и товарищей… Девочку, которую полюбил в третьем классе… Проводы в училище помню… Золотой кораблик на шпиле… Хождение на паруснике по Финскому заливу… Помню базу, где служил, комнату в офицерском общежитии, сослуживцев-холостяков Вертицкого и Шкиранду. Гарнизонную красавицу, рыжеволосую Нинель, командира, отдававшего приказы в мегафон, лодку помню и мой акустический отсек, выход в море и зарю над сопками, а потом ничего не помню…
Память ударяется о какую-то стену и отступает. Будто кто-то мне говорит. «Нельзя… Будет время, и вспомнишь…»
– Этот кто-то и мне говорит постоянно: «Это делай, а это не делай…» Когда тебя увидала, несчастного, на углу, сначала собиралась мимо пройти. Но кто-то сказал мне: «Стой… Помоги ему…» Когда помогла, пошла дальше и уже собиралась свернуть за угол, но кто-то сказал: «Оглянись…» Оглянулась, увидала тебя и вернулась. И так все время. Кто-то нянькой меня к тебе приставил, потому что ты как ребенок, краски себе купил, будешь цветочки-василечки раскрашивать…
– Когда мы были с тобой в Раю и летели над березами, там было много полян, на которые я мельком взглянул. Толком не рассмотрел, что там делалось. Теперь хочу вспомнить и нарисовать те поляны.
– Когда мы были с тобой в Раю и лежали в санях, ты меня обнимал. Чудная женщина пролетала над нами, протянула из неба розу и коснулась меня… До сих пор чувствую ее прикосновение… Вот здесь, – Аня раскрыла домашний халатик и показала живот. – Может быть, я зачала от тебя?
Плужников обнял ее, прижался лицом к ее животу, поцеловал, осторожно вдувая тихое тепло. Так нежно и осторожно дуют на свечу, и золотистое, окруженное голубым ободком пламя слабо колеблется.
– Отдыхай, – отпускал он ее. – А я порисую.
Глубокая ночь. За окном ползет сырая холодная мгла, в которой желтеют фонари переулка, мечется случайный, залетевший огонь машины. Плужников чувствовал, как город, отягощенный пороками, погружается на дно, словно огромный корабль с бесчисленными пробоинами, в которые натекала темная глухая беда. Пробоины были огромными, как пещеры, и малыми, как прокол иглы, разрастались, разъедали защитные оболочки. В них валила жуткая тьма. Город наклонялся. Его башни, колокольни и шпили кренились, и он оседал, проваливался в пучину.
…В ночном клубе «Распутин» богатый старик-сладострастник склонялся над огромным овальным блюдом, на котором возлежала красавица. Ее грудь и живот были залиты взбитыми сливками. Разведенные ноги выступали из белых хлопьев, как из пышной перины. Она улыбалась пунцовыми губками, говорила: «Съешь меня, милый!» Старик по-собачьи начинал лизать сладкую пену, просовывал руки в глубину пышной мякоти, похихикивал: «А где у нас марципанчики?… Где шоколадки?»
…В милицейском каземате, при тусклом свете зарешеченной лампы, менты пытали старика, пойманного на краже. Подвесили его, голого, под потолок на кожаных ремнях. Охаживали дубинками по впалым, костистым бокам, приговаривая: «На чужой каравай рот не разевай!..» Старик не дотягивался кривыми ногами до грязного пола, вздрагивал от каждого удара тощей, с седыми волосками грудью, охал, открывая беззубый рот, заводя выпученные, полные слез глаза. Выкрикивал: «Сынки, не надо!.. Не бейте меня, сынки!..» И тут же получал удар литой дубиной.
…В больнице, в переполненной палате, среди смрада, хриплого дыхания спящих, корчился от боли фронтовик. Ему казалось, что в горло его вставили раскаленный шкворень, поворачивают там, и он сквозь удушье сипел: «Сестра… Сестрица…» – надеясь, что появится санитарка, та, давнишняя, что вытащила его с поля боя под Прохоровкой, впрыснет ему в кровь спасительное лекарство, принесет испить водицы. Но никто не шел. Убегавшись за день, ненавидя грязных, умиравших на койке людей, сиделка забылась дурным сном, не слыша зовы о помощи. Фронтовик бредил, глядя на синеватую тусклую лампу, и ему казалось, что он умирает среди воронок и обугленных танков под светом ночной ракеты.
…Владелец вещевого рынка ворочался в своей роскошной постели. Его мысли были о дневной выручке, о наезде налоговой полиции, о наглых чиновниках префектуры… Приходила жуткая и сладостная мысль – избавиться от партнера. Нанять стрелка… Как грешник раскаявшийся он построит возле рынка храм. И Бог простит его. Видел пробитое пулей стекло, окровавленную голову сотоварища.
…Художник-неудачник, чьи картины не раскупались, а малый, великими трудами добываемый заработок просаживался в игральном павильоне, после чего семья встречала его голодными глазами детей и истерическими упреками некрасивой больной жены, – замыслил повеситься. Только что вернулся в загаженную мастерскую из ослепительного мира игральных автоматов. Каждый напоминал волшебный фонарь, музыкальную шкатулку, пленительный ларец, из которого раздавалась музыка неисчислимых соблазнов. Он спустил весь маленький гонорар, заработанный за малевание какой-то нелепой вывески в булочной под названием «Хлеб наш насущный», и теперь, несчастный, подыскивал крюк, на который можно было бы набросить петлю. С незаконченного, запыленного холста смотрело на него лицо жены, молодое, прекрасное, несуществующее.
…Плужников, сидя перед раскрытыми листами бумаги, слышал муки огромного погибающего города, видел среди улиц и площадей темные пробоины и каверны, в которые врывалась тьма. Город тонул, все глубже проваливался в пучину. Слыша вопли и зовы о помощи, испытывая великое сострадание, побуждаемый неведомой волей, выбравшей его среди миллионов других, он окунул кисточку в булькнувший стакан, тронул мокрыми слипшимися волосками алую краску. Кисточка превратилась в горящую свечку с огненным красным язычком. И он, вдохновляясь чьей-то любящей и благодатной силой, стал рисовать.
Рисовал коричневую гору, набухшую весенней влагой и силой, коней, бредущих по мокрой стерне, мужиков, налегающих на деревянные сохи. Железные подсошники режут землю. Под мужицкими лаптями круто вскипает суглинок, открытые от напряжения рты, истовые лица, торчащие бороды. Кони – красный, золотой, фиолетовый – екают селезенками. Опушка с березами, с запахом первых, из-под снега, цветов. Вечерняя в небе заря. Влажная молодая звезда над вершиной и белая, словно облачко, прозрачно-голубая луна. Над пашней, мужиками, конями возникает в заре, летит на звезду птица валешник, затмевает луну красными крыльями.
Плужников ухватил за уголки разрисованный, отяжелевший от влаги лист, поднял к лампе, разглядывая наивные и счастливые переливы красок, приложил рисунок туда, где в городе зияла дыра и хлестала из преисподней черная мгла, залепил рисунком пробоину. И течь прекратилась. Черный бурун иссяк. Наивная красота рисунка удерживала страшное давление тьмы.
…Развратный старик, рывший носом сладкую пену, обнимавший залитые кремом бедра девицы, вдруг хрюкнул. Лицо его превратилось в свиное рыло с мокрым кожаным пятаком, хлюпающим в белой гуще. Тощая грязная свинья истошно визжала, колотилась о стены комнаты, а потом выкинулась из окна на Садовое кольцо, помчалась по осевой линии, пугая редких шоферов. Наутро в бульварных газетах появилось сообщение о страшном кабане, сбежавшем из зоопарка, утонувшем в канализационном люке.
…Плужников сменил воду в стакане. Вновь смотрел на девственную белизну листа, вспоминая мимолетное зрелище, открывшееся на райской поляне. На зеленую луговину с белой нарядной церковью выезжают на конях молодцы, в нарядных рубахах, с тиснеными седлами, с наборными уздечками, кто с усиками, кто с бородкой, в заломленных шапках, удалые женихи. Кони горячатся, пританцовывают. Невеста в сарафане на травяном лугу поглядывает из-под платочка. Играет глазками, морщит пунцовые губки. Не узнать, кто нравится больше, кому пошлет тайный знак засылать сватов, с кем сыграет осеннюю свадьбу. Женихи гикнули, свистнули, ударили каблуками в конские бока. Кони прянули, разбрасывая из-под копыт траву, и испуганные гуси в пруду загоготали на синей воде. И он, Плужников, через двести лет возник из той свадьбы, из желтой ветлы за окном, из студеного синего пруда, в котором плыл красный конь осени.
Рисунок был чудесен, источал благоухание цветка, словно краски были на меду. Плужников изумленно обернулся – не стоит ли за его плечом кто-то, кто нарисовал картинку. Никого не было. Пустая кухня. Абажур. Светоносный рисунок и он, Плужников, его творец.
Теперь он знал, что делать с рисунком. Осторожно ущипнул еще влажные уголки, приподнял и накинул на пробоину, откуда в город, как из прорвавшейся канализационной трубы, била жуткая тьма. И клокочущий зловонный бурун прекратился.
…В каземат, где менты мучили старика, вошел молоденький лейтенант, только что поступивший на службу, увидел подвешенного узника, услышал звук ударявшей в тощие ребра дубинки, тонкий пронзительный всхлип, кинулся на мучителей, расшвыривая влажные, пахнущие потом и водкой тела. «А ну прекратить!.. Под суд пойдете!.. Суки кровавые!..» Менты тупо смотрели, снимали пытаемого, укладывали на топчан. Лейтенант склонялся над плачущим стариком: «Прости, отец… Они одурели от злой работы… Прости их, дураков полоумных…»
…Третьей лубочной картинкой был деревенский хор в натопленной душной избе. Раскрытые жаркие рты. Заведенные голубые глаза. Песня про коней и орлов. Грохочут венцы в стене. Стала золотой половица. Зажглась, как от молнии, сухая лучина. Озарилось окно, за которым – радуга, отлетающая туча дождя, алое, на зеленом лугу, мокрое стадо. Хор поет на райской поляне, и райская песня, позабытая живущими ныне людьми, загудела в крови у Плужникова сладким, из древности, гулом.
Этот ликующий разноцветный лубок Плужников приложил к черной дыре, в которую хлестала беда. Наивная, из зайчиков света, картинка заживила рваные кромки пробоины. Они срослись, не оставив рубца.
…К больному в палату спешила сиделка, несла целебный настой. Впрыскивала в синюю вену лекарство. И боль отступала. Ветеран благодарно кивал. Санитарка в белой косынке, которую он когда-то любил в полевом лазарете под Прохоровкой, склонилась к его изголовью. Израненный старый танкист хватал молодую свежую руку, благодарно ее целовал.
Плужникову казалось, что вокруг его рисующей руки веют легкие дуновения. Чуть видная, мелькает чья-то другая рука, а он лишь повторяет ее движения. Рисовал на лубке вдову, глядящую за синюю реку, в далекую степь, где под кудрявой ветлой лежал сраженный пулей солдат, ее суженый, ненаглядный. Рисовал рождественские игрища, когда ряженые ходили под окнами, и в избы, сквозь морозное стеклышко, заглядывали размалеванный солдат, бумажный бородатый козел, цыган с фонарем и выкроенная из мешковины головастая смерть с наведенными на щеки румянами. Рисовал пасхальную трапезу, когда степенный бородатый мужик разговлялся у медного самовара, подливал из зеленого штофа вино, на черной сковородке шипел золотой лещ, перед образом лучилась лампада, самоварная медь была в медалях, орлах и гербах.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































