Текст книги "Крейсерова соната"
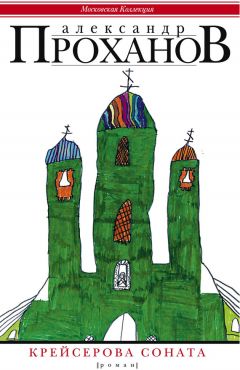
Автор книги: Александр Проханов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 38 страниц)
Глава 18
Аня и Плужников, разнеся по подъездам почту, углубились в переулки между Остоженкой и Пречистенкой; миновали арбатские улочки; вышли на стеклянное сверканье Нового Арбата; увлекаемые огнями, мерцаниями, течением толпы, вихрями у витрин и дверей, очутились в ослепительном магазине, где, казалось, было собрано все, что сотворяется на усладу и утеху человеку. Мерещилось, где-то в небе без устали работают невидимые мастера и умельцы, наполняя своими изделиями рог изобилия. Приоткрывается занавес неба, и из этого волшебного рога высыпаются тысячи мужских и женских туфель, различного размера и цвета, разнообразных фасонов, с неповторяемой длиной и раскраской шнурков и пряжек, высотой каблуков, с золотыми и серебряными клеймами фирм и компаний. Все это богатство заполняло полки и стеллажи, блестело, пахло вкусной кожей, манило, зазывало; и люди не могли удержаться: ослепленные, хватали костяной рожок и с трепетом и нетерпением мерили дамские туфли из Италии, мужские штиблеты из Франции, практичные башмаки из Германии.
То же было и с дамским бельем, поражавшим кружевами, нежными прозрачными тканями, пленительными формами; то же и с наручными часами, мужскими и женскими, золотыми и в серебре, с хрустальными стеклами и с крохотными каплевидными линзами. Кожаные тисненые ремешки и усыпанные топазами браслеты, литые из платины обручи и искусные плетения делали часы произведением искусства. Запястье вожделенно трепетало голубой жилкой, ожидая, когда на него наденут восхитительное изделие. Небесный полог продолжал растворяться, и из волшебной мастерской сыпались бессчетные вазы, сервизы, музыкальные инструменты, шляпы, зонтики, умащения для кожи, благовония для волос, драгоценные флакончики с кремами и духами, ларчики и шкатулки для помады и пудры.
Плужников рассеянно двигался среди этого множества, оставляя Аню у витрин, перед которыми она замирала, словно перед ней открывался невиданный и прекрасный пейзаж. Его что-то влекло. Будто перед ним бежал сказочный клубочек, огибая множество ног, проводя вдоль витрин, не останавливаясь перед изделиями стеклодувов, парфюмеров, скрипичных дел мастеров. Клубочек исчез перед стеклянным прилавком, на котором были разложены краски, карандаши, колонковые кисти, лежали альбомы, листы рисовальной бумаги.
– Должно быть, вы учитель рисования? – спросила его приветливая продавщица.
– Нет, ученик, – ответил Плужников, жадно рассматривая приоткрытую коробку, где маленькие фарфоровые ящички были наполнены алыми, золотыми, небесно-голубыми, изумрудно-зелеными, фиолетовыми и малиновыми красками. Их вид необъяснимо волновал Плужникова. Он чувствовал исходящий от них медовый аромат. Они и были как пахучие сгустки разноцветного меда, выпукло наполнявшие фарфоровые соты. Краски вызывали у Плужникова религиозное восхищение, как если бы он созерцал еще ненаписанную, но уже существующую в душе икону. Никогда не державший кисти, он ощущал свое умение, дарованную кем-то способность написать этот дивный образ.
– Масло? Гуашь? Темпера?… – любезно предлагала продавщица. – Мольберт?… Загрунтованный холст?… Палитра?…
– Если можно, – Плужников чувствовал, как кто-то руководит его выбором, указывает необходимые принадлежности, – акварельные краски… Две кисточки, побольше и поменьше… И альбом для рисования…
Все это было извлечено из-под стекла, завернуто в нарядную упаковку, с улыбкой вручено Плужникову. И тот расплатился всем, что оказалось у него в кармане.
Он отыскал Аню среди ослепительных даров, которые переливались, благоухали, манили. Восхищенно раскрыв глаза, она смотрела на чудесное платье, отдельно от остальных выставленное на обозрение. Темно-вишневое, с глубокими переливами, открытое до плеч, с глубоким вырезом, оно спускалось нежными, легкими складками, источало легчайший блеск, какой исходит от крыльев темной лесной стрекозы. По лицу Ани пробегали свет и тень, как если бы она смотрела на темную текущую воду, по которой скользит луч солнца. Она была околдована платьем. И эта околдованность изумила Плужникова. Казалось, платье было выставлено именно для нее, чтобы она увидела и восхитилась, забыла обо всем, устремилась в этот вишневый омут, в таинственный серебристый блеск, в переливы света и тени. Так распускает свой прекрасный ядовитый цветок болотное растение, заманивая пролетающих бабочек. Ждет, когда плененное красотой существо присядет на нежные лепестки, чтобы брызнуть ядом, оросить жгучей росой, захлопнуть клейкое соцветие.
– У меня никогда не было такого платья, – восхищенно сказала она.
Плужников оглядел ее поношенный плащ, стоптанные туфли, простенький берет, из-под которого выглядывали невзрачные кудряшки.
– Так купи его, – сказал Плужников.
И испугался. Не умея объяснить, откуда в нем это знание, что за голос предостерегает его, он чувствовал исходящую от платья смертельную опасность, словно ткань была пропитана бесцветным ядом, в нее были вплетены отравленные нити, вклеены губительные частички. И если надеть это платье, очутиться в его невесомых тенетах, отразиться в высоком зеркале белизной плеч, мягкой нежностью рук, стройностью ног, едва прикрытых до округлых колен, то платье жадно вопьется в тело невидимыми шипами, впрыснет смертельные яды, спалит и погубит.
– Платье прямо для вас! – улыбалась мужеподобная, толстогубая продавщица, чувствовала власть над Аней, готовилась снять платье с вешалки.
Плужников видел беззащитность милой ему женщины; глубинным зрением, как в прибор ночного видения, угадывал в душе продавщицы темный непрозрачный сгусток, напоминавший опухоль; тронул Аню за плечо, словно разбудил. Она будто вынырнула из-под воды на воздух. Ошеломленно смотрела.
– Не на что его купить, – вздохнула она, выбредая из волшебного потока на твердый берег. – Наш голубь еще не снес второе золотое яичко.
Уходили из волшебного, опасного мира. Платье переливалось им вслед тончайшими радугами. Толстогубая продавщица криво улыбалась из-за прилавка.
На улице шел мокрый снег. В переулках дул промозглый предзимний ветер. Из дворов пахло сыростью и тленом еще одной, безвозвратно исчезающей московской осени.
Они пришли домой, зажгли свет на кухне и увидели прижавшегося к мокрому стеклу голубя с опавшим крылом, нахохленного, взиравшего на них умоляющим темным глазком. Аня ахнула, открыла балконную дверь, внесла птицу под свет лампы. Оглядывала опаленные крылья, обожженные лапки, чувствуя в руках испуганное теплое птичье тело.
– Обгорел наш голубок… Где-то был большой пожар… – сокрушенно сказала она.
Плужников сквозь закрытые веки увидел пылающую в темном московском небе Останкинскую башню, багровую жирную копоть, бесчисленные, реющие в темноте искры, похожие на огненные чаинки.
– Надо лечить голубка… – хлопотала Аня, передавая Плужникову притихшую птицу, чье розоватое оперенье было опалено, маховые перья обуглены, и вся она казалась несчастной, беззащитной среди людских пожаров, бед и напастей.
Достала лекарства, мази, целебные растворы. Промыла раны, умастила ушибы, остудила ожоги. Нашла линялый голубой лоскуток, сохранившийся от девичьего платочка, и перевязала голубю крыло. Птица не вырывалась, терпела боль. Когда врачеванье было закончено, открыла клювик и поцеловала Плужникову и Ане руки. Аня достала из шкафа старую шубейку, смастерила из нее гнездо и посадила голубя. Раненая птица, прикрыв глаза, дремала под светом лампы, рядом с черным окном, на котором таяли и стекали хлопья мокрого снега.
Стихали шумы огромного города. Все реже по переулку с шипеньем проносились машины. Аня устроилась на диванчике, накрывшись пледом, читала Блока, и было слышно, как с ее шепчущих губ срывался невнятный стих:
«Та, кого любил ты много, поведет рукой любимой в Елисейские поля…»
Плужников освободил под абажуром стол, поставил коробку с красками, налил в граненый стакан воду. Раскрыл альбом и выложил кисточку, замер в созерцании. Бумага ослепительно чисто белела. Вода в стакане казалось недвижной, как слиток. Краски в фарфоровых ячейках выпукло, глянцевито блестели. Все было отдельно, разъято, таило в себе изначальный покой, остановившееся время, простоту несоединенных элементов. И только сердце таинственно и чудно дышало в предчувствии творчества.
Созерцание белого листа длилось минуту или час. Белизна волновала его, пугала, влекла: ее можно было потревожить черной резкой линией, и тогда возникнет подобие наскальных изображений; можно положить нежно-зеленый, травяной цвет, как на старинных церковных фресках; можно плеснуть ярко-голубым и лазурным, как на картинах французских мастеров, где балерины танцуют в аметистово-голубом воздухе. Он медленно взял кисть; окунул в стакан, услышав тихое бульканье; увидел сквозь стекло, как распушились в воде нежные волоски; вынул кисть с отточенным, блестяще черным острием мокрого колонкового меха, держал над коробкой красок, позволяя руке выбрать и угадать самый важный, выражавший его сокровенную сущность цвет. Кисть опустилась на красный, несколько раз мягко коснулась, впитывая в темную глубину растворенную краску, перенеслась к альбому, сильно, страстно коснулась, оставив на белизне огненный алый мазок.
Он был как лепесток розы на белом платье, как брызнувшая на снег кровь раненого лося, как плащ ангела на иконе, как цвет закрытого века, когда смотришь сквозь него на солнце.
Этот первый мазок ослепил Плужникова. Он был восхищен его первозданностью, истинностью, творящей энергией. Это не он коснулся кистью бумаги, а чья-то благая, всесильная воля, словно молния, пробежала по руке, прошла сквозь колонковую кисть и ударила в белизну, оставив на ней сочную рану.
Рана влажно дышала, углублялась, обретала бесконечную глубину, была той раной, которую проводило копье на ребре Христа.
Плужников чувствовал, как этот надрез затягивает его, сладко влечет, повернулся к лежащей Ане:
– Пойдем…
Она послушно встала. Они вошли в белизну, в алый свет. Их подхватили могучие безымянные силы, пронесли сквозь миры и пространства. И они оказались на опушке осеннего леса, среди неопавших деревьев, на которые падал снег. Красные и желтые осины, ржавые дубы, темно-синие ели были в снегу. Земля на опушке была в сыром, благоухающем покрове. Они касались теплыми руками прохладной бело-голубой свежести, разгребали снег до земли, и на них из-под снега глянули алые листья брусники. Алый мазок на девственной белизне.
– Мы где? – спросила она, глядя на туманные, занавешенные снегопадом опушки.
– Мы в Раю, – ответил он.
– А почему снег?
– Мы в Русском Раю.
Он взял ее за руку, и они пошли сквозь лес, мимо темных огромных елей, чьи сумрачные пахучие ветки отяжелели от снега. Иногда с зеленой опущенной лапы сваливалась снежная кипа, и ветвь распрямлялась, качалась у самого лица. Вершины скрывал туман, пахло сырыми шершавыми стволами, мокрой хвоей. Хрупкая рябина с красной гроздью пригнулась под тяжестью снега. Крохотная лесная геранька, не успевшая доцвести, несла в фиолетовом венчике маковку снега.
– Ты сказал, мы – в Раю. А где же Бог? – спросила она, отводя гибкую, блестящую ветку орешника.
– Лес – наш бог…
Они вышли на край широкого поля. Сухая стерня была покрыта белыми хлопьями, словно взбитыми сливками. За туманами, за медленной, опадавшей с небес белизной, золотились далекие размытые холмы. На них стояли леса, словно иконостасы, дышали, теплились, круглились бессчетными нимбами, туманились цветными лампадами, негасимыми свечами. Он любил эти чудные дали, обожал ненаглядную Родину, лелеял милую, нежную, божественную красоту.
– Ты сказал, мы в Русском Раю. Где же Бог?
– Снег – наш бог…
Они вышли к болоту с темными пожухлыми тростниками, поломанными стеблями, с черной мертвой водой, на которую, не тревожа ее, падал медленный снег. И была в этом болоте сладостная тоска, воспоминание о минувшем лете, о белых пахучих цветах, о блестящих стрекозах и горячих ливнях.
– А где же Бог? – с пытливостью и упорством ребенка повторила она.
В тростниках раздался шелест и треск. Темная вода заволновалась. Сквозь заросли, проламывая стебли, чавкая и хрустя, вышел темно-малиновый лось. Бока его жарко дышали, окутанные паром. Влажные, похожие на трубы ноздри шевелились. На огромной лобастой голове качались рога, чутко двигались уши, блестели выпуклые, сиреневые, с блестящими точками глаза.
– Лось – бог… – сказал Плужников, глядя на огромного теплого зверя, поднявшегося из глубины болота.
Медленно переступая высокими ногами, лось двинулся по снегу, оглядываясь на них, словно звал за собой. И они пошли за поводырем, чувствуя близкий запах огромного теплого зверя, наступая в сердцевидные отпечатки копыт.
Лось исчез, следы его канули. Они оказались в березняке, где воздух был голубым и серебряным. Его можно было раздвигать руками и плыть среди белых стволов, не касаясь земли.
Они плыли в невесомости негасимого света, и она говорила:
– Мы в Раю… Мы в Русском Раю…
Они увидели поляну. Среди снега, как в парке, стояли деревянные лавки. На лавках отдыхали святые и богомудрые старцы. На них были одежды, в которых ходят в лес по грибы и по ягоды. На некоторых были лапти, на других – резиновые сапоги, третьи и вовсе были босиком, и на снежной поляне виднелись следы их босых ног. У каждого была корзинка – с орехами, с последними, добытыми из-под снега грибами, с ветками красной калины для целебных настоев. Серафим Саровский, чуть поодаль, обламывал с берез нижние розовые ветки, складывал их в пучочки. Тихонько, светясь голубыми глазками, напевал:
Я в роще гулял, пруточкя ломал…
С лавки наблюдал за ним Сергий Радонежский.
Спросил ласково, с чуть заметной усмешкой:
– Пошто, Сима, прутья ломаешь?
– А как же, мятелки вязать, Сережа… С молитвенных камушков снег смятать…
Плужников и Аня отлетали сквозь голубые светящиеся стволы.
Приблизились к соседней поляне, где на лавках сидели известные на Руси воины и полководцы, все в домашней одежде, в вольных, навыпуск, рубахах, чтобы тело отдыхало от кольчуг и доспехов, от тесных мундиров и ременных поясов.
Маршал Жуков указывал Дмитрию Донскому на волнистый, покрывший поляну снег, из-под которого выглядывал засохший цветочек ромашки:
– Хорошо, нынче снегу много… Так бы всю зиму… Тогда и рожь уродится…
– Надо возы готовить… – ответил задумчиво Дмитрий Донской, глядя на засохший цветочек.
Перелетев розовую вершину березы с птичьим, полным снега гнездом, Плужников и Аня увидали, как на длинном бревне, сбросив с него нападавший снег, уселись философы, мудрецы и писатели. Старец Филофей сосал черную корочку хлеба. Николай Федоров нюхал снежок, который благоухал как прохладный сочный арбуз. Над поляной пролетела высокая сойка, складывая и распуская лазурные крылья. Лев Толстой проследил полет птицы.
Задумчиво сказал сидящему рядом Достоевскому:
– Сойка – это летающая незабудка…
Рядом, за березами, было шумно и весело. Молодогвардейцы играли в снежки, хватали сочный, синеватый снег, лепили комки, запускали друг в друга.
Сережка Тюленев, сдвинув кепку козырьком назад, крикнул:
– В кого попадет, тому и водить!
Любка Шевцова, в голубом крепдешиновом платье, румяная, озорная, пустила снежок в Олега Кошевого.
Снежок ударил ему в аккуратный пиджак, и Олег, счищая с груди снежную метину, смущенно произнес:
– Значит, мне водить…
Тут же, с краю, генерал Карбышев лепил снеговика. Три снежных шара, большой, поменьше и маленький, стояли один на другом. Темнели жухлой травой промятые шарами дорожки. Генерал вставил снеговику вместо глаз два золотых желудя, на плечи прилепил два красных кленовых листа, и они смотрелись как генеральские шпалы. Карбышев, отойдя на шаг, осматривал свое изделие внимательно и серьезно. По соседству, на белой полянке, стояли Александр Матросов и Евгений Родионов. Евгений держал на ладони серебряную цепочку с крестиком, что подарила ему перед Чеченской войной мама, Любовь Васильевна, говорил Александру:
– Больно тонка цепочка. Боюсь, как бы не порвалась…
Матросов серьезно рассматривал цепочку и крестик, отвечал:
– А я бы крест на бечевке носил… Как-то, знаешь, надежнее…
Плужников и Аня вознеслись над бескрайними березняками, среди которых, словно озера, сквозили поляны. От них поднимались сияющие столпы света, и на каждой райской поляне пребывали святые и праведники, водили хороводы в алых сарафанах и красных рубахах, ступали крестными ходами, поблескивая крестами и окованными в медь священными книгами.
Они опустились на поляну, в драгоценный серебряный свет, увидели на снегу двух гуляющих ангелов. Оба были высоки, златокудры, с плеч спускались долгополые хитоны, алый и золотой.
Сквозь прорези на спине свешивались почти до земли розоватые крылья с уложенными крупными перьями. У того, что носил алый хитон, крыло казалось поврежденным, было перетянуто линялой голубой перевязью, в которой Аня узнала лоскуток своего девичьего платка.
Ангелы медленно шли, негромко беседуя, тот, что был с перевязью, сказал другому:
– Пока он не должен об этом знать. Время придет, узнает…
– Каждый узнает об этом в свой час, – согласился второй.
Они прошли несколько шагов, разбежались, раскрыли за спиной сильные крылья и полетели над поляной как журавли, вытянув сжатые ноги, сильно и плавно взмахивая. Пролетели над белизной, алый и золотой, и скрылись за вершинами. Плужников и Аня прошли по снегу, видя отпечатки их босых ног, росчерк маховых перьев, ударивших в снежный покров.
Они миновали березняк и вышли в чистое поле. На холме в прозрачной и чудесной пустоте стояло огромное дерево. Это был не дуб, не клен, не ясень и не кедр, а Дерево Жизни, или, как его называли в Раю, Древо Познания Добра и Зла.
Подойдя к дереву, коснувшись шершавого ствола, Плужников вдруг понял язык птиц. Он улыбался, обнимал Аню, чувствуя могучие, исходящие из древесного ствола силы. Он знал, что любит Аню, невесту свою. И об этом сказал:
– Люблю…
Поцеловал ее в прохладные губы, и сверху на них просыпалась гроздь красных рябиновых ягод.
Обнявшись, они удалялись от вещего дерева в сумерках снежного поля. Когда стемнело, и снег под ногами казался темно-синим, они вышли к дому, который издали манил желтыми озаренными окнами… Молодые красивые люди сидели в застолье, на скатерти стоял сервиз, прелестная девушка снимала с чайника лоскутную бабу.
Плужников и Аня встали на пороге… В застолье не заметили их появления, продолжали чаевничать. В этом многолюдье, в домашнем собрании благодушных мужчин и женщин Плужников узнал вдруг ожившую фотографию из семейного альбома, что хранился в материнском шкафу… Молодые братья и сестры выстроились цветущей когортой по старшинству, возглавляемые усатым красавцем в фуражке дорожного инженера…
Плужников узнавал своих предков… Смотрят друг на друга через стол одинаковыми зеленоватыми глазами, молодые, белокожие, не ведающие о налетающей из-за горизонта судьбе… Плужников от порога внимательно рассматривал застолье, озаренное розовым светом ламп.
– Милые братья и сестры, – сказала Анастасия, хрупкая, с пепельно-золотыми волосами, именно от нее через три поколения появится он, Плужников, именно она тайно присутствовала в его сновидениях, томила своей неисчезнувшей, растворенной в нем жизнью. – Мы все в Раю и можем сполна наслаждаться нашей близостью и любовью. Мало кто помнит о нас на земле. Потому что почти никого от нас не осталось. Такое уж горькое выпало время в России. Но один из наших живет. Он последний. Это Сережа. Ему сейчас нелегко. Но будет еще труднее. Давайте же помолимся за него, чтобы он перенес все тяготы, выполнил все, что ему положил Господь. И вернулся к нам. Мы посадим его рядом с Шурой. Ты, Шура, подвинься, на твоем конце просторно, мы поставим к тебе плетеное кресло. Помолимся же о Сереже…
Все встали, склонили головы. Некоторые закрыли глаза. Губы неслышно шептали молитву. И от этой молитвы у Плужникова стало горячо на сердце, а из глаз потекли радостные тихие слезы.
Так и покинул вместе с Аней веранду, оставляя ночной светящийся дом с высокими золотыми окнами.
За время, что они были в доме, похолодало и вызвездило. Снег идти перестал, облака отлетели. В небе драгоценно, морозно, образуя разноцветные дышащие россыпи, сверкали звезды. Снежная дорога, натертая полозьями, блестела. Они замерзли. Увидели распряженные сани с опущенными оглоблями. В санях было накидано сухое душистое сено, был брошен курчавый овчинный полушубок. На деревянном задке синели два нарисованных льва.
– Ложись, – сказал он, отворачивая тяжелую кудрявую полу. – Я рядом… Так будет тепло…
Они улеглись в душистое сено, в котором темнели головки клевера, усохшие соцветия горошка. Он укрыл ее тулупом, и они лежали рядом, выглядывая из-под овчины. Над их лицами блистали, переливались, становились то голубыми, то розовыми бессчетные алмазные звезды.
– Я хотела тебя спросить, почему в Раю столько берез?
– Это Русский Рай. Береза – райское дерево…
– Ты слышал, как святой угодник пел ту самую песню, которой я тебя воскресила?
– Песня про святые метелочки…
– Ангел с синим лоскутиком, который я ему повязала, он говорил о тебе? Ты отмечен чем-то особым?
– Тем, что тебя люблю…
Он просунул руку под ее теплый затылок. Поцеловал ей сначала губы, потом раскрытую теплую грудь. Сани качнулись, скользнули вниз по дороге. Она заблестела, засверкала, высекая полозьями искры. Чистый ветер объял их и поднял на воздух. Они неслись среди звезд, которые застревали как светляки в кудрявой овчине, а когда опустились, еще несколько звезд догорало в бараньем меху, лежали недвижно, глядя, как над их лицами текут, переливаются звезды.
Среди звезд, невесомая и прозрачная, появилась прекрасная женщина. Стеклянные птицы держали над ней два шелковых платка. Женщина наклонилась, протянула из неба розу. Из розы капнула кровь. Упала на грудь Плужникова теплой каплей. Из капли с тихим посвистом вылетела ночная птица.
– Люблю тебя… – сказал он Ане.
Они снова были в маленькой московской квартире. На столе под лампой лежал раскрытый альбом. На белизне листа пламенел алый мазок.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































