Текст книги "Крейсерова соната"
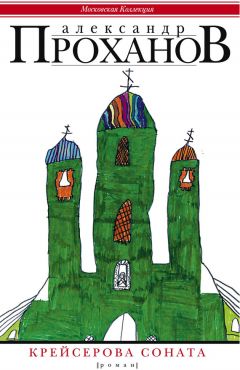
Автор книги: Александр Проханов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 38 страниц)
Они спустились на пристань, шагнули на трап, очутились на палубе. И трамвайчик тут же отчалил. Плужников с Аней стояли под тентом, слыша, как рокочет железное нутро корабля, уплывавшего на середину реки. На пустую железную палубу падал дождь, покрывая ее блеском. На носу горел фонарь, окруженный голубыми и розовыми кольцами. Под фонарем, на мокром железе, лежал затоптанный цветок хризантемы с поломанным стеблем, жухлыми ржавыми лепестками. Звучала медленная музыка, летевшая над дождливой рекой, словно разносила весть о них, плывущих по вечерней воде. Город окружал их фасадами причудливых домов, двумя бегущими по берегам огненными линиями, проступал сквозь дождь туманностями, вспышками света.
– Такое странное чувство… – сказала Аня, зябко поводя плечами, прижимаясь к Плужникову. – На трамвайчике каталась последний раз, когда закончила школу. Была весна, тюльпаны, молодые счастливые люди… На палубе играла веселая музыка… Какой-то кавалер пригласил меня танцевать, и мы танцевали на солнце среди голубой реки… Это было сто лет назад…
Белый туманный собор, сияя размытым золотом, медленно надвигался. Плужников испытывал необъяснимую печаль, словно с чем-то расставался навек, и загадочное волнение и сладость в предчувствии приближавшейся новизны. Так живая, заключенная в кокон куколка чувствует напряжение растущих в ней крыльев, готовая превратиться в бабочку, томится тесным коконом, торопит свое преображение.
В дожде и тумане возник Кремль. Так художники на мокрый лист кладут розовые и золотые мазки, и они расплываются, затекают на белое.
– Пойдем танцевать, – сказал Плужников, глядя на холодную палубу с блестящим накрапом капель.
– Пойдем, – сказала она, и они вышли из-под тента в дождь.
Музыка, наивная и певучая, неслась из репродуктора. На корабле, кроме них, не было ни души. Капитанская рубка казалась пустой, и кто-то невидимый вел кораблик по дождливой реке, мимо зубчатых темно-розовых стен. Аметистовый, с туманными кольцами огонь горел на носу, и под ним, на мокром железе, лежала затоптанная квелая хризантема. Плужников чувствовал, как их окружает таинственная прозрачная сфера, дышит, приближается. Сквозь завесу дождя проплывали мимо соборы Кремля, островерхие башни, красные туманные звезды, каждая в крохотном зареве. Словно две драгоценные гирлянды, волновались набережные. Плужников обнял Аню, прижал к груди ее голову, чувствуя, как волосы ее пахнут дождем. Они танцевали, и он смотрел на фиолетовый туманный огонь.
Огонь стал медленно разрастаться, будто кто-то бережно дышал на него, раздувая лиловое пламя. В этом круглом прозрачном огне появились золотистые кольца. От них волнисто и нежно стали отслаиваться зеленые, синие. Расходились малиновые, алые волны, наполняя ночь волшебным свечением. Плужников счастливо и страстно смотрел на огонь. Среди туманных размытых радуг появился шелковый алый платок. Едва различимые прозрачные птицы растягивали его за углы. Появился второй платок, из чудного золотистого шелка, и другие четыре птицы, словно создания стеклодува, тянули за острые концы. Два платка трепетали, накладывались один на другой, смещая углы, образуя восьмиконечную звезду.
В центре этой звезды, как в сердцевине цветка, возникла дивная женщина, улыбалась Плужникову, беззвучно ему говорила:
– Ты видишь, я тебя не оставила… Готовься… Тебе предстоит великое дело во имя Мое… Ничего не бойся… Смерти нет… А есть Жизнь вечная… Целую тебя…
И она исчезла, увлекая за собой разноцветный шелк, расточая во тьме гаснущие нежные радуги. Вновь на носу туманно светился розово-синий огонь. Мимо проплывал сумрачный Кремль с белым столпом колокольни.
Аня держала голову у него на груди, ничего не заметив. Они продолжали танец, но Плужников чувствовал, что с ним случились небывалые перемены, в него вселились непомерные силы, его души коснулись безымянные творящие духи.
Глаза его обрели небывалую зоркость. Он смотрел на корабельный огонь и, если прежде различал вокруг лишь розовые и голубые кольца, теперь видел множество разных оттенков, бессчетное число переливов, от густой, словно ночь, синевы до алого нежного пламени и золотого лучистого света.
Он разглядел во тьме, на куполе Ивана Великого, отставшую золотую чешуйку и под ней зеленую капельку меди; чуть ниже, среди сумрачно-золотых, на черном обруче букв усмотрел прилипший липовый листок, занесенный ввысь мокрым ветром; возвел зрачки туда, где в дождливое небо тянулся от креста прозрачный гаснущий луч, и сквозь мокрую мглу, туманное зарево города увидел звездную бездну, разноцветные алмазы созвездий, серебряную, в мерцающей пыльце луну. На ней отчетливо смотрелись лунки кратеров, лучистые морщинки от упавших метеоритов, скалы и отроги Моря Дождей. На белой как пудра равнине отпечатались рифленые следы лунохода. Сам луноход был тут же, припорошенный мучнистой пылью.
– Ты ничего не почувствовала? – спросил он Аню, заглядывая ей в лицо.
– Ничего, – сказала она. – Только твое тепло. – Она улыбнулась, прижимаясь к нему, и глаза ее оставались закрытыми.
Они продолжали танцевать на мокрой палубе под тихим звенящим дождем, сквозь который в глубине корабля утомленно постукивал двигатель. Город вокруг непрерывно рокотал и гудел. Стоя на плывущем кораблике, он услышал, как нежно хрустнул черенок осинового листа в подмосковной роще и красный осиновый лист, кружась, полетел в ночи, еще услышал, как бьется сердце в груди у спящего голубя, что укрылся от дождя в завитке кремлевского собора.
Звуки мира наполнили его во всей бесконечной красоте и гармонии, и он различал вселенскую музыку, под которую вращались прозрачные сферы мироздания.
– Ты ничего не слышишь? – спросил он Аню.
– Ничего. Только дождь. И твое сердце.
На палубе пахло холодным ветром, мокрыми моросящими небесами, скользким железом палубы. Но его обоняние дарило ему запахи, удаленные на тысячи километров.
Он слышал сладкое дуновение дыма в афганском кишлаке, приторный аромат белых цветов в горячем кампучийском болоте, медовый запах лазурной бабочки, присевшей на куст в Мозамбике, железное дыхание вулкана в Никарагуа, уловил мимолетное благоухание, которое оставила в воздухе молодая парижанка, скользнув под фонарем на бульваре Капуцинок.
Почувствовал, как пахнут теплые перья птицы, спящей в дупле кипариса. Его обоняние стало столь чутким, что он чувствовал скопление озона в верхних слоях атмосферы, едкую струйку от сгоревшего метеорита. Мир вокруг него благоухал, переливался радужными цветами, звучал хоралами. И ему казалось, что его глазами смотрит на мир кто-то другой, ясновидящий, поселившийся в нем. Кто-то другой, наделенный абсолютным слухом, внимает вместе с ним музыке сфер. Чье-то сверхтонкое обоняние позволяет ему улавливать запах лепешек в харчевнях Бомбея и свежий аромат ледника в Швейцарских Альпах.
– Ты ничего не заметила? – спросил он Аню, глядя с реки, как медленно удаляется в туманных лучах стоцветный храм Василия Блаженного.
– Ничего… Только чудесную хризантему, которую кто-то обронил…
Она наклонилась, подняла с палубы белый чистый цветок, похожий на лучистую звезду… И он не изумился преображению цветка. Преображение коснулось его самого. Он обнимал ее под дождем, чувствуя, как она для него драгоценна.
Глава 14
После космического убийства Роткопфа Мэр и Плинтус, боясь себя обнаружить, избегали встреч и телефонных разговоров. Плинтус, страшась преследования, едва не сжег рукопись неоконченной книги «Мед и пепел». Мэр, демонстрируя полную аполитичность и озабоченность исключительно хозяйственными делами столицы, начал строительство четвертого автомобильного кольца вокруг особняка своей жены, которое народ тут же окрестил обручальным. К тому же он устроил в Москве карнавал в честь католического святого Игнация Лойолы, что великолепно вписалось в чествование других знаменитых католиков – святого Патрика и святого Валентина. Пользуясь тем, что большинство москвичей вышли на улицы в масках и в противогазах или просто напялив на головы поношенные колготки, Мэр и Плинтус, оба в домино, встретились наконец в Парке культуры и отдыха у Чертова колеса, переименованного в Колесо фортуны. Уселись, как бы невзначай, в одну люльку, и их медленно повлекло вверх на огромной раскрашенной спице.
– Я боюсь, – сказал Плинтус, держась за поручни люльки.
– Колесо почти безопасно, – ответил Мэр.
– Я боюсь репрессий… Возможно повторение тридцать седьмого года прошлого века…
– Сохраняйте самообладание… Вы ведь мужчина, хотя и ослабевший после операции на предстательной железе.
– Мне повсюду мерещатся агенты Модельера… Взгляните на соседнюю люльку… Те двое, юноша и девушка, они только делают вид, что совокупляются, на деле они за нами следят…
– Во всех люльках находятся мои люди! Видите того, загримированного под корейца? У него в руках электронный вибратор, которым он заглушает микрофоны подслушивания.
– Тогда зачем он сует вибратор под юбку своей соседке-балерине?
– Это не балерина, а вице-мэр! Вибратор нуждается в маскировке!
Их возносило над Нескучным садом, полуоблетевшим, в холодном осеннем солнце. Над голубой рекой, где вдали золотились Воробьевы горы и туманно розовело здание университета. Москва, прекрасная в последние погожие дни, перед началом предзимних бурь, нежно белела затуманенными кварталами, мерцала куполами церквей, распушила перламутровые дымы, развесила в студеном воздухе тончайшие проблески паутинок.
– Слушайте мои директивы… – Мэр стал тверд и категоричен. – Кто первый нанесет удар, тот победит! Не спорю, мы потеряли Роткопфа, и его тело покоится на Арлингтонском кладбище, но следующий ход за нами! Мы спровоцируем беспорядки в Москве, после которых коррида и устранение Счастливчика дестабилизируют обстановку, и власть сама упадет нам в руки! Для этого вам следует немедленно встретиться с руководителем «Красных ватаг» и провести переговоры, смысл которых изложен в этой инструкции! – Мэр сунул в руки Плинтуса пухлый конверт. – Сам же я проведу переговоры с вождем скинхедов… Доверьтесь Колесу фортуны, которое возносит нас к вершине славы…
Люлька, в которой они сидели, достигла высшей точки. Великий город был виден как на ладони. Все его банки и церкви, казино и министерства, ночные клубы и культурные центры, вещевые рынки и музеи абстрактного искусства, казалось, взывали к обоим: «Владейте нами!.. Мы ваши!..»
– Так давай же поклянемся в верности друг другу и нашей великой цели! – Мэр пожал Плинтусу руку, предварительно натянув на пальцы резиновую перчатку. – Как Герцен и Огарев на Воробьевых горах.
Плинтус рыдал от переполнения чувств. Солнце выкатилось из пышного облака, брызнуло на город червонным золотом, и на воде, писанная золотым лучом, обозначилась надпись: «Эката пеката щуката мэ…»
– Абуль фабуль дай мане, – повторили оба священную клятву, и Колесо фортуны медленно и неуклонно повлекло их к земле.
Плинтус просыпался раньше обычных людей и первые два часа после пробуждения посвящал оздоровительной терапии, после которой в течение дня оставался бодрым и эффективным. Терапия включала ряд методик, почерпнутых из разных медицинских школ, и была подобрана самим Плинтусом, живущим на Земле уже третье тысячелетие и имеющим из чего выбирать.
Процедура начиналась с того, что лекарь, врачевавший еще Плиния Младшего, накладывал на лицо Плинтуса компресс из верблюжьей мочи. Терпкая горячая влага впитывалась во все поры, придавая уже немолодому лицу нежно-розовый, дышащий вид. Препарат доставлялся в особняк Плинтуса прямо из зоопарка, где проживал двугорбый верблюд по кличке Горби. За физиологией верблюда наблюдали врачи из бывшего Четвертого управления Минздрава, поддерживая в верблюжьей моче должное содержание сахара и белка.
Вслед за компрессом следовала процедура, заменявшая контрастный душ. Ею пользовались алеуты в период охоты на китов. Плинтус, абсолютно голый, ложился на клеенку, и его сначала обкладывали с ног до головы мороженой треской, и он почти впадал в анабиоз, покрытый инеем, среди зубатых, с оледенелыми глазами рыбин; потом треску убирали и обкладывали его горячей печенью, вырванной из молодых моржей. Плинтус оттаивал, бодро шевелил конечностями, вращал глазными яблоками среди дымящихся темно-алых лепестков моржовой плоти. И многие, с кем он встречался в течение дня, гадали, почему от него слегка попахивает рыбьим жиром и ливерной колбасой.
Затем следовала очень тонкая процедура, позаимствованная у вологодских пастухов в ту пору, когда они еще были язычниками. Приготовлялся целебный настой из травки подорожника, и из него делалась оздоровительная клизма. Плинтус ложился на живот. Служитель поднимал над ним объемистый стеклянный сосуд, глядя, как медленно уменьшается содержимое, стекая по прозрачной трубке в отверстие между ягодиц Плинтуса. Когда травка подорожник производила в кишечнике свое целящее действие, Плинтус переворачивался на бок, поджимал колени к груди, возвращая обратно в сосуд настой из лекарственного растения, который тут же шел на ополаскивание горла и полости рта. Это позволяло в течение дня принимать участие в нескольких банкетах и произносить множество тостов и здравиц, в которых было куртуазное, политологическое и религиозное содержание. Дыхание его, освеженное травкой подорожником, напоминало запах русских обочин.
Проделав все это, он отказывался от услуг лекаря, сам брал в руки масленку с тонким и длинным клювиком и впрыскивал себе в коленный сустав несколько капель масла, добытого у африканского носорога. Шарнир из нержавеющей стали, вживленный в мениск, покрывался нежной масляной пленкой и при ходьбе почти не скрипел.
На этом завершалась физическая часть терапии, за которой следовала духовно-психологическая. Она была позаимствована из древних ведических культов и сводилась к тому, что Плинтус усаживался на молитвенный коврик в позе лотоса и произносил две тысячи раз слово «блин». После тысячного произнесения, когда терялось различие между «блин» и «нбли», Плинтус выходил в астрал, сливался с ноосферой, где приобщался к наследию общечеловеческой мысли, паря среди великих культур, философских и религиозных школ, впитывая тексты, которые накатывались на него как волны, будь то Махабхарата, «Майн кампф» или бессмертное «С рассвета до заката», написанное начальником преторианской гвардии Первого Президента России.
Вернувшись из астрала в свою бодрую, помолодевшую плоть, он не нуждался в обильном завтраке: похрустев и почмокав зажаренным шмелем, отправлялся в свой огромный рабочий кабинет, напоминавший Кельнский собор, усаживался за тяжелый стол, зажигал настольную лампу с зеленым абажуром, светившую когда-то в кабинете Сталина, и начинал прием посетителей.
В это утро он ждал предводителя «Красных ватаг». Предводитель считал себя носителем красной революционной традиции, и кто, как не Плинтус, современник всех советских вождей, друг революционерки Коллонтай, родной дядя подпольщицы Землячки, «бель ами» Инессы Арманд, сосед по общежитию Зары Долухановой, соратник по партии Екатерины Фурцевой, тайный советник Раисы Максимовны, компаньон Наины Иосифовны по игре в покер, мог передать молодому революционеру «красные заповеди», посеять семена «красного смысла». Поэтому, когда слуга с несколько испуганным лицом доложил: «Они прибыли-с…» – Плинтус приосанился за столом, начал выводить ручкой «Паркер» слово «зоб», делая вид, что углублен в писание книги.
За дверью раздались шаги. Плинтус изобразил на лице высшую степень благожелательности. Вошел Предводитель. Плинтус едва успел разглядеть белокурые локоны, яркие голубые глаза, кобуру пистолета «стечкин» на широченных галифе, как в лицо ему полетел кремовый торт, залепил глаза, ноздри, рот. И пока Плинтус, как жук, попавший в клейкую коровью лепешку, шевелил конечностями, прочищал отверстия для дыхания и слуха, Предводитель привычным движением приковал себя к тяжелому креслу, удобно уселся, холодно наблюдая за самоочищением Плинтуса.
Когда тот обрел некоторую возможность видеть и говорить, Предводитель произнес:
– Вы меня звали, я пришел…
– Очень хорошо… Не желаете кофе? – Костяным ножом для резки бумаги Плинтус снимал с бровей хлопья сладкого крема.
– Да, кофе… Если можно, с тортом… – согласился Предводитель. – Я весь внимание…
– Видите ли, я уже далеко не молод, – начал Плинтус, вытирая костяной нож о край стола. – Никто из нас не вечен, и рано или поздно мне придется сомкнуть глаза…
– Я слышал, некоторые виды жаб живут три тысячи лет, – сказал Предводитель.
– Но и они умирают, – вздохнул Плинтус, прощая злому юноше его иронию. – Сейчас я озабочен только одним – кому передать сокровище, сохраненное мною в эти жуткие десятилетия, кого сделать наследником «красного смысла», зерна которого сберегались в продолжение всего двадцатого столетия, ибо минувший век был веком борьбы за обладание горсткой драгоценных зерен… Вот они. – Плинтус окончательно соскреб с себя крем, приготовленный на фабрике «Красный Октябрь», и указал на деревянный штатив с небольшой стеклянной пробиркой, где покоилась щепотка пшеничных зерен с необычным красным оттенком. – Эти семена либо погибнут вместе со мной, если я не найду человека, кто как сеятель разбросает их по земле, всколосит урожай новой Мировой Революции, либо сохранятся, попав в достойные руки нового Ленина, который засеет ниву всемирной истории зернами «красного смысла». Я долго искал преемника и остановился на вас…
Предводитель отковал себя. Спрятал наручники. Внимательно посмотрел на пробирку:
– Если можно, подробнее…
– Видите ли, об этом мало пишут историки, но еще весной двадцать третьего года Ленин, находясь на лечении в Горках, чувствуя необратимость болезни, недалеко от своей усадьбы, на делянке крестьянина Иллариона Михайлова, посеял пшеничное зернышко, содержащее всю полноту «красного смысла». Это зерно он получил в наследство от Карла Маркса, а тот, через свои связи во Франции, от Сен-Симона, откуда оно попало к Сен-Симону, остается только гадать. Не исключено, что его путь ведет к Томасу Мору, к восставшим рабам Рима, к иерусалимским зелотам и к негроидным племенам Северной Африки, чья цивилизация была разрушена наступлением Сахары. Одним словом, посеянное Лениным зернышко дало колосок, за которым бережно, в течение лета, ухаживала Надежда Константиновна, пропалывала, вырывала васильки, тщательно скрывала колосок от приезжавших в Горки членов политбюро и ВЦИК. Когда пришла осень, Надежда Константиновна срезала колосок, обмолотила его, хорошенько провеяла и добытое таким образом зерно ссыпала в полотняный мешочек. Владимир Ильич в своем политическом завещании в последнем абзаце наказывал раздать по зерну каждому из своих заслуженных соратников, дабы «красный смысл» не стал достоянием кого-нибудь единственного и распределился равномерно среди всей когорты борцов, за исключением Радека, для кого зерна не нашлось. Сталин перехватил завещание, исключил из него последний абзац и завладел драгоценным мешочком сразу же после погребения Ленина… Внутрипартийная борьба в послеленинский период была борьбой за овладение ленинским наследием, схваткой за урожай, полученный из красного пшеничного зернышка, погоней за горсткой пшеницы, содержащей драгоценный «красный смысл». Троцкий, войдя в заговор с Бухариным, Зиновьевым, Рыковым, пытался отобрать у Сталина мешочек с зерном. Бухаринский взгляд на крестьянство, его попытка воспрепятствовать сталинским планам коллективизации объяснялись нежеланием распылять ленинское наследие по колхозам, которые, не обладая соответствующей агротехникой, могли загубить элитное зерно. Все эти наспех созданные артели – «Колхоз Ильича», «Красный колос», «Красная нива», по мнению Бухарина, были не способны воспроизводить «красный смысл». Троцкий, ратуя за Мировую Революцию, хотел полученное Лениным зерно посеять на полях Европы и Америки, обладающих высокой агрокультурой. Сталин же готовил нивы исключительно на Украине и в Средней России, уповая на «русский путь». Он хранил заветный мешочек у себя на груди, не расставался с ним даже ночью, пресекая всякие попытки похищения, чем и объясняется смерть вероломной Аллилуевой. Вы знаете, чем кончилась внутрипартийная борьба. Враги Сталина были уничтожены, быть может, и поделом… Жаль только Радека, кому по завещанию не полагалось зерна и кто, выходит, просто попал под колесо истории…
Зоб Плинтуса увеличивался, достигал огромной, небывалой величины, до неба, как фасад Московского университета, на который великий кудесник Жарр проецировал лазером цветные абстракции, сменявшие одна другую, словно зрелища космических восходов и закатов. Малиново-зеленые зори, алые протуберанцы, голубые и синие облака сопровождались космической музыкой, будто кто-то двигал огромным смычком по небесным струнам, и каждая издавала рокоты и певучие стоны. Предводитель был заворожен этими звуками, и Плинтус, произносивший свои сентенции, казался оперным певцом, исполнявшим арию.
– В этом свете абсолютно новое звучание получает война Гитлера с Советским Союзом. Это был арийский поход за овладение «красным ферментом», «красным снопом», как его называли в германском Генштабе, или «красной бородой», откуда и название – «Барбаросса». Национал-социализм к сорок первому году уже обладал «коричневым ферментом», небольшим запасом зерна, добытым экспедициями Ананербе в пустыне Гоби и в отдаленных районах Тибета. Драгоценные горстки тибетской, «коричневой» пшеницы хранились в «Вольфшанце», и идея Гитлера, которую он отстаивал в борьбе с еврейскими банкирами, состояла в скрещивании «красного» и «коричневого» сортов, в создании «красно-коричневого» сорта, где оба «смысла» сливались в абсолютное космическое единство, гарантирующее физическое бессмертие. Сталин, спасая зерно от наступающих на Москву армий группы «Центр», перевез мешочек на Волгу. Этим и объясняется изменение стратегии Гитлера, когда он вдруг оставляет наступление на Москву и всю мощь своих армий кидает через Сальские степи на Сталинград. Битва на Волге была сражением за пару десятков красных пшеничных зерен из ленинского колоска. Паулюс проиграл битву за урожай. Русские ратники, сражавшиеся на Волге, были хлеборобами «красной пшеницы», защитниками незамутненной чистоты «красного смысла». Гитлеровский гибрид не состоялся. В бункере имперской канцелярии в мае сорок пятого он сам, Ева Браун и их овчарка проглотили отравленное «коричневое зерно». Умерли во плоти, чтобы в образе арийских богов жить вечно в Валгалле среди зеленых прохладных нив арийской пшеницы…
Предводитель, как в гипнотическом сне, смотрел на зоб Плинтуса. На нем возникали знаки, символы, буквы неведомого алфавита.
– Попытку скрестить «тибетскую коричневую» с «подмосковной красной» предпринял генетик Вавилов. Он обладал удивительной коллекцией злаков, включавшей в себя и таинственный тибетский сорт «браун», что впоследствии дало повод следователям заподозрить академика в тайной любви к невесте Гитлера. Обманом добыв у Сталина, доверявшего ему как сыну, заветный мешочек, он засеял клумбу у себя на даче. Но сначала засуха, а потом и град уничтожили всходы, за что разгневанный Сталин жестоко покарал нерадивого генетика. У Сталина сохранилось одно зерно, которое он передал академику Лысенко, и тот, верный докучаевец, наследник Мичурина, вывел сорт «ветвистой пшеницы», мгновенно, во всей полноте восстановившей «красный сорт». Смерть Сталина, тщетная попытка Берии завладеть кисетом с «красными зернами», победа Хрущева, который сам вырвал из хладеющих рук застреленного Лаврентия Павловича кисет с зерном, затеянная Хрущевым травля Лысенко, который преждевременно умер, не сохранив своей лаборатории, авантюра Целины, перечеркивающая проект священной посевной от Урала до Карпат, почти полный отказ Хрущева от зерновых, когда страна перешла на аризонскую кукурузу, – все это должно было покончить с «красным смыслом», затоптать драгоценные зерна в пыль истории. Ревизионист Хрущев, побывав в Америке, быть может, и не догадывался, что привезенный им в СССР «кукурузный проект» и был планом Даллеса по уничтожению коммунистической сверхдержавы…
Зоб переливался как голографическая картинка, меняя перламутровый цвет при малейшем дрожании зрачков.
– Меня часто называют членом кружка Андропова… И это так… Юрий Владимирович приблизил меня к себе… Я наблюдал драму большого политика, тайного сталиниста, изо всех сил старавшегося сохранить пробирку с последними семью зернышками «красной пшеницы», которую он как глава КГБ, а потом и Генеральный секретарь, хранил в тайном укрытии, на одном из ядерных полигонов. Он поведал мне, как мучают его врачи, как пытают его, стараясь выведать место хранения зерен. «Я никогда не открою им тайну зернохранилища», – говорил он, когда мучители были готовы отключить ему искусственную почку. Они сделали это, но он, уже посиневшими губами, шепотом назвал мне место на Новой Земле, где хранится «ленинский урожай». Если бы вы знали, как молодой секретарь ЦК Горбачев, специально назначенный куратором сельского хозяйства, рыскал по всем элеваторам, хлебным токам, хранилищам семенного фонда, отыскивая эту драгоценную пробирочку! Перестройка была затеяна им как поиск этой «красной пшеницы»! Летом девяносто первого года с членами будущего ГКЧП и писателем Прохановым я отправился на Новую Землю и тайно от своих спутников взял из урочного места пробирку с зернами. В августе, когда по Москве шли танки, мне удалось ускользнуть от ельцинистов с драгоценной пробиркой, бросив на заклание ГКЧП. И пусть наивный Гайдар, занимаясь проблемой «красной ртути», утверждал, что пробирки с красным порошком – это истертые в муку зерна «красного смысла»… Пробирка, которую вы видите у меня на столе, – это и есть подлинный неприкосновенный запас. В каждом зерне таится «красный смысл», теплится искра Революции, крохотной генетической спиралью свернулся ген коммунизма…
Плинтус умолк, а Предводитель, опьяненный переливами зоба, все еще раскачивался в кресле, и его голубые глаза с появившимися в них потусторонними золотыми искрами, смотрели далеко, в бесконечность…
– Теперь вы верите мне? Верите, что я ваш друг? – спросил Плинтус, пряча под рубашку свой зоб, как если бы прятал на груди маленького, раскрашенного акварелью бегемота.
– Да, – завороженно ответил Предводитель.
– Тогда приступим к обряду восприятия «красного смысла»…
Плинтус вытряхнул на ладонь из пробирки одно-единственное красноватое зернышко; положил на камень яшмы с небольшим углублением; яшмовым пестиком растер пшеничное семя в мелкую розоватую пудру, как если бы его перемололи жернова; извлек металлическую, величиной с наперсток, капсулу и ссыпал туда муку; пипеткой накапал в наперсток воду, где уже содержались дрожжи; палочкой, напоминавшей спичку, тщательно перемешал содержимое наперстка, превращая его в тесто, которое тут же, под воздействием дрожжевых молекул, начало всходить, взбухать над краями наперстка. Плинтус продолжал месить, творя заговор, в котором Предводителю чудились отрывки из сочинений Фурье, фрагменты второго тома «Капитала», несколько фраз из «Апрельских тезисов» и завершающая часть «Морального кодекса строителя коммунизма».
Когда тесто подошло, напоминало упругий красноватый колобок, Плинтус достал из ящика спиртовку, укрепил над ней металлическую пластинку, напоминавшую противень, смазал ее сливочным маслом, используя для этого колонковую кисточку, уложил на пластину тестяной колобок и зажег спиртовку. В воздухе запахло пекарней. Крохотный каравай покрывался румяной корочкой. Колонковая кисточка смазывала его маслом, и он начинал блестеть, словно покрытый лаком. Через несколько минут хлеб был испечен.
– Теперь, друг мой, совершим обряд преломления хлеба. – Плинтус хорошо отшлифованным ногтем раздвоил каравай, протянул Предводителю половинку, чудесно источавшую пшеничный дух. – Мы съедим каждый свою половину и станем как братья. – Он положил хлебец в рот, приглашая сделать то же Предводителя. С минуту они жевали, проглатывая вкусный хлебный мякиш. – Теперь в нас обоих присутствует «красный смысл»… Нас питает хлеб Революции… Верен ли ты ее заветам, товарищ?
– Верен, товарищ, – как сомнамбула ответил Предводитель.
– Готов ли ты вместе со мной содействовать победе Мировой Революции, товарищ?
– Да, товарищ…
– Тогда слушай… Соберешь революционеров из «Красных ватаг»… Вы атакуете здание бывшего Статистического управления, где сводятся воедино данные о рейтинге Президента и хранится секретный рейтингомер, показывающий истинные, а не мнимые цифры… Вы добудете этот прибор и обнародуете ничтожно малый процент народной поддержки… И тогда олигархический преступный режим пошатнется… Ты готов на это, товарищ?
– Готов…
Они обнялись. На глазах Плинтуса блеснули слезы. Он передал Предводителю пробирку с драгоценными зернами. Тот принял дар, порывисто вышел, развевая белые кудри. Пустая кобура «стечкина» эффектно колотилась у него на бедре.
Покуда длился разговор в готическом кабинете Плинтуса, все это время в пустынном зале картинной галереи, что у Крымского моста, перед картиной Малевича «Черный квадрат» стоял Модельер. Обостренно вслушивался в звуки, доносившиеся из черного квадратного зева, напоминавшего старомодный репродуктор. Стократ усиленная магическими и электронными системами, смешиваясь с потрескиванием эфира и упругим хрустом холста, воспроизводилась беседа Плинтуса и Предводителя. «Квадрат», задуманный создателем как чувствилище, реагирующее на протестные настроения людей, захватывающее в свою сумеречную глубину людские несогласия, социальное раздражение, политическую оппозиционность, использовался Модельером как разведывательное устройство высокой эффективности, выявлял опасные для власти зоны сопротивления, после чего спецслужба «Блюдущие вместе» внедрялась в очаг протеста, нейтрализуя его.
Вначале Модельер использовал картину известного авангардиста в «режиме подслушивания», наблюдая, как пульсирует глянцевая поверхность «Квадрата» и сквозь мельчайшие трещинки краски исходит нежное алое свечение. Затем он перевел картину в «режим подглядывания». Черный, небрежно намалеванный квадрат превратился в экран, на котором возникли Плинтус и Предводитель, зеленоватые в туманном свечении, какое бывает в приборах ночного видения или в аквариумах с редкими рыбами. Когда свидание двух заговорщиков завершилось, Модельер выключил «Квадрат», давая ему остыть, и удовлетворенно произнес: «Горе тому, кто соблазняет малых сих…»
«Квадрат» успокоился, по нему больше не пробегали конвульсии. Трещинки краски сомкнулись, погасив розовое воспаленное свечение.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































