Текст книги "Рассказы о Великой Отечественной"
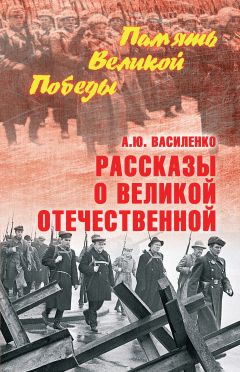
Автор книги: Алексей Василенко
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц)
Прорыв
Михаил Степанович Скрябин
– Видел я на войне всякое, но такого, что видел под Ленинградом, под Волховом, не пришлось больше видеть…
Мы тогда в наступление пошли, утром это было, в четыре часа. Наши дивизии буквально рванули вперёд, хотя сопротивление было бешеное. Они почему-то считали, что мы полностью неспособны к наступательным действиям после блокады.
– Михаил Степанович, вот вы говорите о дивизиях, увлеклись. А ведь вы тогда командовали ротой, и именно о том, что вам довелось увидеть, хотели рассказать…
– Верно. Ушёл я в сторону. Я тогда действительно командовал стрелковой ротой. И задача у нас была очень конкретная – ворваться в город Волхов. Мы действовали с правого фланга от Ленинградского фронта, и наша рота эту задачу выполнила – вошла в город первой из батальона и первой из нашего полка, 546-й был стрелковый полк. И вот когда мы вошли в город, увидели…
Было много там наших солдат. Они, наверно, попадали в плен, когда бои шли с переменным успехом. Я сказал – много солдат. Нет, соврал. Не солдат, а того, что от них осталось. Это были часто даже не тела, а какие-то бесформенные куски лежали… Как же их, бедных, мучили! Что с ними немцы, «культурные европейцы» делали! Те, кто попал в плен, принимал там страшные мучения…
– Что именно вы видели?
– Не хотел говорить… Что видел? Уши, носы отрезанные, переломанные во многих местах, буквально раздробленные руки и ноги… Видно было, что их, раздетых, из пулемёта прошивали в упор… Нет, хватит!.. В знаменитой песне «Священная война» поётся: «Пусть ярость благородная вскипает, как волна»… Вот это слово «ярость» самое точное, чтобы описать наше состояние, когда мы это увидели всё…
– А наши ребята в ответ не поступали так же? Из чувства мести?
– За своих точно могу сказать: нет. Никогда и ни разу.
А так, если вообще, то тоже могу сказать, что не было с нашей стороны ничего подобного. Мозги у нас другие. Ведь за время войны я видел множество убитых немцев. И ни разу, понимаете, ни разу я не видел ни отрезанных частей тела, ни вырезанных ремней кожи со спины… Никогда никаких следов пыток не было. Убит, так ведь оно видно, как убит: пулевое ранение, осколочное. И всё. И ещё одна деталь. Нашим не разрешалось использовать даже части немецкого обмундирования – ремни там, сапоги тёплые у них были… Не валенки, правда… Но помимо того, что не разрешалось, наши ещё и брезговали всё это с трупов снимать, а немцы это делали сплошь и рядом…
– Михаил Степанович, столько лет прошло уже, оцените силу немецкого солдата.
– Очень сильные они были. Начиная с первого же наступления, мы почувствовали это. Я не говорю об оружии, на первых порах они особенно нас превосходили в оснащении.
У нас ведь автоматов не было почти, в основном трёхлинейные винтовки да штыки. Гранат, правда, хватало. Так что не об оружии я говорю. А говорю о физической силе, о моральном духе, особенно офицеров. Все рослые, крепкие. И сильные духом были. Серьёзный противник. Они не сдавались, как правило, это уже в конце войны их сломило, а в начале – не-е-ет!
Верили своему Гитлеру и очень верили в свою победу. И вообще сильны. Даже во внешности.
– Недаром Константин Симонов написал: «Да, враг был храбр. Тем больше наша слава». Очень важно, что вы именно это говорите.
– Да, мы ни в чём не уступили. Мелкое поколение, малорослые, вооружены хуже вначале, а вот духом – превосходили их. Ведь простую вещь взять: сколько раз населённые пункты разные переходили из рук в руки. Но в конечном итоге победа всегда оставалась за нами.
Я думаю, что так всегда и будет.
Ленинградская застольная и ленинградский марш
Алексей Николаевич Александров
– За два с половиной года фронтовых несколько раз я бывал в госпиталях. Один раз, правда, не по ранению, а по болезни. Но болезнь эта – как ранение. Боевая болезнь.
Всё это под Ленинградом случилось. Был очень тяжёлый бой, а после него нужно было нам перейти реку Нарву. Перейти – это потому, что зимой, по льду. Морозы были сильные, так что спокойно могли по льду форсировать. Шли мы взводными колоннами. И вот тут в наш взвод попал снаряд. Снаряд-то, будь он проклят, случайный был, ни до него, ни после обстрела не было. А этот как ухнул! Нам ещё повезло, что мы были не на земле, потому что от взвода не осталось бы никого в живых. А тут эта дальнобойная, крупнокалиберная махина пробила лёд и взорвалась уже там, под ним. Лёд, естественно, в куски, и мы все оказались в воде. Это вообще радости мало, а в мороз тем более. Ну, ребята набежали, помогли выбраться. Но ни переодеться, ни сушиться мы не могли, потому что уже рядом был берег, а там наши держали небольшой плацдарм, и мы шли к ним на помощь.
Одним словом, обледенелые, мы провели там ночь, день, потом вторую ночь… Я никому не пожелаю испытать это. Мы непрерывно ползали, чтобы согреться. Иного способа не было, потому что поднимешь голову – убьют тут же, все мы под прицелом были. И остановиться нельзя, замёрзнешь окончательно. А ещё голод – он же тепла не добавляет. Только на третьи сутки старшина приполз к нам с термосом каши и котелком спирта. Наелись, выпили, согрелись чуть-чуть… И вот тут странное дело: пока я ползал и мучился от холода и голода, как-то ещё организм сопротивлялся, что-то ещё работало, а после еды и спирта наступила такая же холодная ночь, мороз, и сказал мой организм: баста, всё, надоело, не хочу бороться. И утра я уже не помню: очутился в госпитале. И не раненый, а заболевший, а заболевание такое, что месяц был на грани смерти, а всего меня два месяца выхаживали!
А время военное быстро всё меняет. Фронт отодвинулся, наши ушли далеко, и после того, как меня поставили на ноги в госпитале, отправили в часть. А надо сказать, что тогда было такое правило: воины гвардейских соединений возвращались обязательно в ту часть, в которой служили. А тут уже весна. Выписали нас несколько человек, приодели – гимнастёрки, пилотки, обмоточки… Добираемся до своих. Где-то возле города Сланцы плюхаем по дороге, смотрю – чуть в стороне позиции оборудованы, пушки огромные стоят. Посмотрел я на них и размечтался что-то. Эх, думаю, попасть бы сюда! Уж наверняка живым бы остался, из этих пушечек далеко от фронта стреляют. Это тебе не то, что в пехоте: в атаку – ранен, в атаку – ранен… Хорошо хоть не убили.
И вот пока я предавался таким завистливым размышлениям, смотрю – у обочины старик сидит, солдат, цигарку смолит. Что-то лицо знакомым показалось. Пригляделся – а это отец!
Отца призвали с самого начала войны, и мы даже переписываться не могли: то его ранит, то меня, адреса менялись. Он бронебойщиком был. Мать писала, что он рядом где-то со мной. Вот так мы и встретились, обнялись… Прямо петь хотелось!
– Кстати, какая из фронтовых песен вам больше всего запомнилась?
– Больше всего «Ленинградская застольная». Очень часто пою её и сейчас. Ведь там говорится, поётся о том, что я сам пережил. Там упоминается Сенявино, а я ходил в атаку на высотах Сенявино в сорок третьем, в сентябре; я воевал в болотах под Мгой… Так что всё это мне знакомо, когда поётся «Наши штыки на высотах Сенявино, наши полки подо Мгой». Справедливости ради надо сказать, что как раз эти слова мне не очень нравятся, потому что это не доблесть, что мы допустили отход наших полков до этих рубежей. А вот то, что это песня отличная, песня защитников Ленинграда, – это так.
– Песня людей, которые выстояли, несмотря ни на что.
– Да, несмотря ни на что. Замерзали в снегу, в холодных блиндажах, мокли в этих болотах…
– А как кормили всё это время?
– Если честно, то фронтовой паёк нам давали неплохой. Не всегда, правда, вовремя. Но для блокадных условий это было очень хорошо. Но дело в том, что мы часть пайка добровольно отдавали голодающим ленинградцам. И в целом, конечно, не хватало питания.
– Хотя воевали отчаянно.
– Понимаете, мы же воевали за Родину, за жизнь, хотя своей жизни не жалели. Многое пришлось пережить, это я уже не за всех говорю, а за себя. И в штыковую ходили, и ранен был не один раз. Мы ведь гвардейцы. А они никогда в запасе не были. Нас бросали повсюду, где нужен был прорыв. А это означало одно – характер, воля, бросок, смелость, умение – всё это против огня и свинца. Грудью вперёд.
Но вот когда меня спрашивают: какой день в войне был самый памятный, я называю совсем не боевой день.
Это было, когда нашу дивизию, хорошо подготовленную, гвардейскую, направили на окончательный прорыв блокады Ленинграда. Я не знаю, кому это в голову пришло, даже допускаю, что этому человеку могло нагореть от начальства за то, что среди бела дня целая дивизия прошла через город. Но это был очень умный, гениальный человек.
Мы шли от Всеволожска через весь Ленинград. Строем. Это… я даже не могу сказать, какой это был день, слов для этого было мало. Мы шли чётким шагом, который, казалось, забыли в окопах и болотах. Но вдоль всего пути нашего выходили и стояли по сторонам женщины и дети, уже уставшие надеяться и ждать. Они смотрели на нас. И мы шли! Весёлыми, подтянутыми, хотя горе сжимало сердце при виде истощённых, укутанных в старьё ленинградцев. Мы вселяли в них надежду и уверенность. Старухи… Впрочем, почему «старухи»? Старики к этому времени практически все умерли. Это молодые и средних лет женщины, выглядевшие старухами, становились на колени и молились, чтобы мы победили и остались живыми.
Среди нас было много ленинградцев, так их жёны, сёстры, матери становились рядом и шли вместе с нашим строем! Ребятишки бежали, задыхаясь от слабости, и смеялись!
Вот такой незабываемый был этот марш. Вот какой это был день. Было это 15 января.
А потом мы заняли исходные позиции и после залпов «катюш», после артподготовки пошли в атаку – освобождать Ленинград, город, который для каждого из нас стал второй родиной…
Когда я, готовя циклы телепередач «Победители» и «Один день войны», встречался с ветеранами Великой Отечественной, то со многими не удавалось договориться с первого раза: плохо себя чувствовали, болели, лечились, работали на даче, что очень важно нынче для пенсионеров… Я делал отметку о том, что нужно позвонить попозже, и звонил другим. И решал потом когда-нибудь, когда будет не так много работы, позвонить ещё раз.
Ах, как много у нас дел! Каждое из них кажется спешным, важным, и как же мы не умеем отличать истинную первоочерёдность в них! Шло время, я всё собирался позвонить, договориться. А потом стало во многих случаях поздно. Совсем поздно. Навсегда поздно. Я уже никогда не позвоню и не договорюсь о встречах с ними. Поздно. Позднее этого ничего нет на свете…
Мы часто забываем, а то и просто гоним от себя мысль о том, что люди умирают. На войне, в мирной жизни. На войне это противоестественно, в мирные дни – это закон природы. Но какой неистовый дьявол смешал эти понятия?! Какие силы ада укорачивают жизнь им – выжившим и победившим?! Мне рассказывали о человеке, которого в аэропортах всё время задерживали и подолгу проверяли, потому что каждый раз, когда он проходил через магнит-металлоискатель, звонки тревожно заливались, на человека все оглядывались с подозрением, а он краснел и смущённо разводил руками: ну, что поделаешь, такой уж я – весь утыканный осколками, вы уж простите меня, что я – такой… И когда под медные марши уходят в последний поход ветераны, кто скажет, кто сумеет определить, сколько на роду им жить было написано и сколько они прожили на самом деле…
Единственная пуля
Летела по войне,
Единственная пуля
Вломилась в грудь ко мне…
Единственная пуля
Оттуда не ушла,
Десятки лет та пуля
В груди моей жила.
Зерно войны кровавой
Однажды проросло,
Последней переправы
Вручило мне весло.
А так мне жить хотелось!
Ещё! – и весь тут сказ.
Но всё. Труба пропела.
Я выполнил приказ…
Будни войны
Первое военное задание
Владимир Арсеньевич Травин
Эту главу я обязательно должен предварить пояснениями. Записи воспоминаний ветеранов я собирал много лет. В конце девяностых годов я получил письмо. Было оно большим, с подробностями и малоизвестными сведениями. С автором обязательно нужно было встретиться в присутствии телекамеры, чтобы зафиксировать то, о чём было написано в письме. Но… письмо, видимо, по просьбе автора, кто-то просто принёс в редакцию, точнее – оставил на вахте. Там оно пролежало несколько дней, пока я был в командировке. Потом обнаружилось, что в письме нет ни обратного адреса, ни номера телефона. На поиски в списках ветеранов тоже ушло время. А потом… В общем, письмо осталось письмом. Несколько лет лежало оно без движения. За это время многое менялось вокруг, постепенно стало восстанавливаться в обществе должное отношение к ветеранам. Но… документ есть документ. Поэтому, читая его, помните, что написан он был в 1997–1998 годах ХХ века.
«…Да, нас, участников тех далёких событий, становится всё меньше и меньше. Казалось бы, должны быть мы окружены постоянной заботой и вниманием, но, к сожалению, это не так. Заботу и внимание к себе мы видим только раз в году – в день Победы, а в остальное время нас за редким исключением не вспоминают.
А средства массовой информации? Порой начинает казаться, что они специально делают так, чтобы весь народ забыл о Великой Отечественной войне. Если даже и касаются этой темы, то обязательно выпячивают негативные стороны, которые, разумеется, были, обыгрывают трагизм войны и военные нелепицы, которых тоже было немало. А вот “о доблести, о подвигах, о славе”, как сказал поэт, немодно стало нынче говорить. Не пишут и не говорят о буднях войны, о том, что сама жизнь в условиях войны – будь то на фронте, будь то в тылу – это подвиг всего нашего народа. Растут новые поколения, а что они знают об этом? На экранах телевизоров – развлекаловка, всякие шоу, детективы и боевики. Газеты и журналы молодёжь в подавляющем большинстве не читает. Да иногда уж и лучше, что не читает. Недавно вот мне попались в руки несколько номеров весьма уважаемого когда-то толстого журнала, так там в двух номерах (мне и одного хватило!) какой-то умник с пеной у рта доказывал, что не гитлеровская Германия напала на нас и начала войну, а именно Советский Союз начал войну с Германией! Какая чушь! Какая наглость! И редакция этого когда-то почтенного журнала печатает это всё… Свобода слова! Взял бы я такую “свободу”, смял бы вот эти загаженные страницы да засунул бы в глотку этому провокатору! Ну, хорошо, – мы-то, люди пожилые, участники событий и свидетели тех времён, не примем эту чудовищную ложь, но наши внуки и правнуки могут ведь и поверить.
Вообще-то, кроме лжи, много ещё и равнодушия, безучастия вокруг нас, ветеранов. Каково мне, старому солдату, читать в газете, как живут сегодня в Германии те, кто пришёл к нам с огнём и мечом. Огромные по нашим меркам пенсии, сотни всяких льгот, лучшие лечебницы, санатории… Мне скажут: есть же у нас тоже Закон о ветеранах. Но даже такой скудный, он часто и не выполняется. Все статьи этого Закона претворятся в жизни, наверно, тогда, когда все мы уже будем на кладбище…
А интерес ко всему, что связано с тем периодом истории нашей страны, есть у молодых. Есть. Мне часто приходится выступать в школах, и вот, проводя беседы, я вижу, как загораются глаза у детей, да и у учителей тоже, когда они слушают рассказ о той войне.
Как-то был я в санатории. Проводил беседу о войне. Было это перед началом концерта, и я, грешным делом, подумал, что люди отдыхать пришли, а я про войну, про историю… Короче, стал я торопиться, сворачивать разговор. И вот тут-то из зала и крикнул кто-то: “Не спешите, нам это очень интересно, а концерт – успеется!” А зал поддержал аплодисментами. Как же хорошо было у меня на душе!
В годы моей молодости все парни, кому позволяли здоровье и образование, мечтали стать лётчиками. И немудрено: по всей стране, да и по всему миру гремела слава советских лётчиков, первых Героев Советского Союза – Чкалова, Громова, Водопьянова, Коккинаки и других. Я в этом отношении ничем не выделялся – тоже хотел летать, быть лётчиком, поэтому я после окончания средней школы прошёл строгую медицинскую комиссию, выдержал вступительные экзамены (был очень большой конкурс) и был зачислен курсантом военного лётного училища. Война началась, когда учёба у меня подходила к концу. Но поскольку враг быстро занимал нашу территорию, нужно было срочно эвакуировать училище в тыл. И вот во время эвакуации случилось то, что, по сути дела, изменило всю мою жизнь.
Подхватил я где-то инфекцию – желтуху. Естественно, меня, как острозаразного, – в медсанбат. А с гепатитом, видимо, там бороться как следует не умели. Болезнь обострилась, меня – в госпиталь. В общем, здоровый был я, крепкий и молодой, да ещё врач попалась Нина Степановна Солнцева, так она в госпитале дневала и ночевала, лишь бы скорей нас на ноги поставить. Выздоровел. Похудел, правда, на 16 килограммов, и комиссия дала мне краткосрочный отпуск. И я, не повоевав ещё и дня, отправился домой. В Москву приехал утром, поезд на Кострому был, как и сейчас, много лет спустя, поздно вечером. К тому времени немцев от Москвы уж отогнали, но повсюду на дорогах стояли металлические “ежи”, рогатки. На перекрёстках все угловые дома были превращены в доты и дзоты, девушки в военной форме тянули на верёвках аэростаты воздушного заграждения… В общем, всё было так, как показывала кинохроника, как потом воспроизводили в фильмах. Но вот один момент мне запомнился на всю жизнь.
Был январь. Был мороз. Была война. Буханка хлеба на рынке стоила 200 рублей, картошка – 90—100 рублей за килограмм, деньги огромные по тому времени…
А у памятника Пушкину в этот январский мороз среди войны лежали… живые цветы! Истинную цену этим цветам даже трудно себе представить! И не успел я подумать об этом, как подошла к памятнику бедно одетая старушка и тоже положила на постамент красную розу… Воистину, не зарастёт народная тропа!
Приехал я в Кострому. Она считалась тогда прифронтовым городом, ведь немцы были по военным масштабам совсем рядом – всего 245 километров! И все законы войны на Кострому распространялись в полной мере, иначе было нельзя: немцы бомбили Ярославль и Горький, летали и над Костромой, хотя и не бомбили из-за отсутствия в городе стратегических объектов. Поэтому были в Костроме и комендантский час, и прочие “прелести” военного быта. Военкомат был вторым центром управления городом, и я, приведя себя в порядок, отправился, как положено, на Лагерную улицу, где военкомат тогда размещался. И вот когда я вставал на временный учёт, военком, полковник Видякин, пошелестел моими бумагами и неожиданно спросил: “Значит, вы – костромич… Город хорошо знаете?” Я ответил утвердительно. И тут он, как человек, принявший решение, твёрдо сказал:
– Отдыхать будем после победы. Сегодня ночью из блокадного Ленинграда привезли две тысячи детей дошкольного возраста. Все они дистрофики, грязные, вшивые. А это не только для них опасно, но и в городе могут возникнуть эпидемии. Мы предпринимаем все меры (полковник Видякин был по закону военного времени заместителем председателя комитета обороны города), мобилизуем медицинских работников, парикмахеров, поваров, чтобы привести детей “в божеский вид”. Тут уж женщины собрали детскую одежду, обувь, игрушки и предлагают свои услуги по уходу за детьми. Но у нас нет главного – мыла! И взять его негде. Ваша задача – достать мыло. Для этой ситуации лучший вариант – дегтярное. Срок – три дня. Мы даём вам большие полномочия, но чтобы лучше понять важность этого задания и свою ответственность, езжайте в один из домов – всё увидите сами.
Отказаться было нельзя – время военное, но сказать, что я был обескуражен этим заданием, значит ничего не сказать. Я ничего не знал про мыло, кроме того, что им моются, стирают бельё. Где взять мыло, я тоже не знал. Тем не менее, пошёл получать “полномочия”.
Когда я ехал к детишкам, я ожидал увидеть страшное, но то, что я увидел, было ужасно. Приехавших оголодавших детей в первую очередь накормили, что надо было делать, как я потом узнал, очень осторожно. В результате в массовом порядке начались боли, рези, расстройства желудка. Дети беспрерывно плакали, стояла кошмарная вонь, и в этом хаосе метались с горшками, которых на всех катастрофически не хватало, нянечки, усталые, сбившиеся с ног нянечки. У многих стояли слёзы на глазах. Крохотные дети были похожи на старичков и старушек – все в морщинах, кожа обвисла и была синюшного цвета. Они не могли не только смеяться – говорить им было трудно! А глаза у них были… неживые! Такой взгляд у умершего человека, которому не прикрыли веки…
Ах, военком, военком! Как он был прав, послав сначала меня сюда. Я понял, что мыло – это жизнь для этих детей и что приказ я получил по-настоящему военный, первый военный приказ в моей жизни, который надо было выполнить во что бы то ни стало… Но как? Вспомнил, что недалеко от военкомата, на окраине, в Татарской слободе была когда-то артель “Химпром”, которая кустарным способом изготовляла хозяйственное мыло. Поехал туда. Цех этот мыловаренный не работал уже давно, соответственно – топки разрушены были, котлы – грязные, сам мастер-мыловар – на пенсии. С трудом нашёл его. И – первая удача: оказывается, наладить в городе производство дегтярного мыла вполне возможно. Правда, для этого нужно раздобыть достаточное количество берёсты и кожаного лоскута, каких-нибудь обрезков. Кроме того, нужно было достать каустик, топливо, нужно было найти работников, которые хоть что-то понимают в этом деле. И вот если всё это будет, то мастер сварит мыло.
Мне было важно понять, что мыловарение в принципе возможно. Остальное было уже делом техники.
И я начал носиться по городу. На фанерном заводе рассказал, в каком положении дети, договорились, что оттуда будут возить берёсту и начнут немедленно. Буквально рядом была обувная фабрика. Там обещали собрать все отходы. Одновременно шла работа в бывшей артели: ремонтировали печи, чистили котлы, наводили порядок. Раздобыл каустик. Труднее всего было с людьми, но и они нашлись – женщины, окончившие местный химико-механический техникум имени Красина.
И дело пошло! Гнали из сырья дёготь, варили мыло и тут же в бочках развозили в дома, где были дети. Приказ городского комитета обороны был выполнен в конце второго дня.
Дальше тоже было не легче. Работали круглосуточно – по 12 часов смена. Кто жил далеко, ночевали тут же. Питание тоже организовали на месте… Варилось мыло. Обычная, простая вещь, которая в военных условиях давалась с таким трудом.
Когда отпуск кончился, пришёл я в военкомат сняться с временного учёта. Полковник от имени городского комитета обороны объявил мне благодарность и предложил остаться, чтобы постоянно обеспечивать мылом не только блокадных детей, но и все детские дома города. Но мне ведь было совсем не много лет, по нынешним временам мальчишка совсем, кроме того, я понимал, что в небо меня после гепатита не пустят, и рвался на фронт. Так и сказал Видякину. Дело было налажено, справятся и без меня. На том и порешили.
Перед отъездом отправился к “своим” ребятишкам. Ну, подготовился, конечно, – в “Военторге” выпросил на благое дело пряников и конфет. И ещё только зашёл в дом, слышу – музыка играет, пианино: “Жил-был у бабушки серенький козлик”… Боже, как хорошо мне было, когда увидел я не “старичков” и “старушек”, а живых, весёлых детей, ведущих хоровод. Откормиться они не откормились, всё такие же худые, но в глазах блеск, смех слышен, двигаются и… не падают! Вот и я стал серым козликом в хоровод и прошёл с ребятами несколько кругов, совсем не думая о серых волках войны, которые могли съесть и меня, и любого…
Где сейчас эти дети? Спустя десятилетия вспоминают ли они хоть иногда приютивший их город и военного дядю, который водил с ними хоровод?..
Пришёл домой. Пора было уезжать. Мама моя, царство ей небесное, вдруг говорит мне:
– Сынок, ты бы снял гимнастёрку ненадолго…
– А зачем?
– Молитву свою Господу Богу зашью тебе туда.
В те времена большинство из нас были атеисты, я и сам в старших классах был председателем союза безбожников, но я-то ехал не к тёще на блины, а на фронт, откуда многие не возвращаются, и, кто знает, может быть это была последняя встреча с отцом и матерью… Поэтому, чтоб не расстраивать мать, я безропотно снял гимнастёрку, и мать пришила завёрнутую в материю свою молитву.
– Вот, смотри: она у внутреннего кармана, и пусть она всегда будет с тобой. Береги её. Пока моя молитва с тобой, ни пуля, ни снаряд тебе не страшны.
И вот ведь какое дело – после гепатита моего про авиацию надо было забыть, определили меня в матушку-пехоту, которую в то время звали “царицей полей”. В каких только переделках не приходилось бывать, иногда сто из ста должны были убить, но смерть проходила мимо. Сменил десяток шинелей, все они были порваны пулями, осколками бомб, снарядов, мин, но сам остался жив и невредим…
Много лет спустя я как-то, будучи на похоронах, а позже – за столом на поминках, оказался рядом со священником. К слову пришлось, и я рассказал ему о молитве матери. Он сказал тогда, что в моём рассказе не увидел ничего удивительного. Мол, именно так и должно было быть: молитва матери дошла до Бога, и он оберегал меня. У меня буквально язык чесался спросить: а как же молитвы других матерей – тех миллионов погибших? Они что – хуже молились? Меньше желали удачи своим сыновьям? Если их молитвы не дошли до Бога, их душевный крик, их мольбы, значит, плохо их слушали на небесах, не хотели слушать. Сколько я видел на фронте солдат и офицеров, носивших крестики и иконки, молившихся перед атакой (во время войны вера усилилась, люди цеплялись за малейшую надежду), и видел их потом убитыми, растерзанными металлом! Нет, то, что было со мной, – особое чудо. Тут не силы небесные, а что-то другое… Но спорить тогда было не время и не место, и я промолчал. В другое время я сказал бы всё это, а ещё вспомнил бы ещё одну чистую и святую душу, которую не пощадила война.
…В 1944 году, после тяжёлых боёв, вышли у нас из строя все медицинские работники батальона: кто убит, кто ранен. По нашей заявке были присланы новые медсёстры. Все они уже имели фронтовой опыт, все были ранены, вылечились и вновь вернулись на фронт. Но наше внимание привлекла одна – почти девочка, тоненькая и изящная, несмотря на шинель и кирзовые сапоги, она была так хороша собой, что хотелось кричать: зачем её-то сюда?
А она держалась просто, познакомилась со всеми. Лена Егорова, москвичка, только что с отличием окончила школу. Отец её был музыкантом, мать – преподаватель хореографии. И дочку они тоже видели балериной там же, где они работали, – в Большом театре Союза ССР. Но Лена тайком от родителей, иначе не разрешили бы, закончила краткосрочные курсы медсестёр. Она отказалась от работы в московских госпиталях. Видимо, жалея её, предлагали направить в армейский фронтовой и уж на худой конец в дивизионный госпиталь. Она рвалась на передний край. Мы спрашивали её: “Почему?” А она отвечала коротко: “Так ведь война же!”
Напомню, что тогда, в 44-м, конец войны был уже виден, уже можно было думать о будущем, беречь самых юных. Но… Не помогли и наши уговоры, когда Лена появилась у нас. Мы говорили, что на поле боя, под разрывами, медсёстры должны не только оказывать помощь раненым, но и вытаскивать их на себе. Мы говорили, что здесь нет элементарной вещи – туалетов, что иногда глоток воды не сделать, не то что умыться. Но Лена была непреклонна. Пришлось её оставить в батальоне.
В первом же бою Лена вытащила с поля боя одиннадцать солдат и офицеров и по заслугам была награждена главной фронтовой медалью “За отвагу”.
Полюбилась она всем. Было за что. Ровная с каждым, приветливая, улыбчивая, она всем старалась помочь хоть чем-нибудь: одному гимнастёрку зашьёт, другому подворотничок приладит, в минуты затишья споёт с нами, а то и станцует под трофейный аккордеон.
Потом были у нас тяжёлые бои. И там Лена отличилась. За проявленные храбрость, героизм была награждена она орденом Красной Звезды. Мы, офицеры и солдаты, старались уберечь Лену, наш “ветерок”, наш цветочек, как память о доме, о мирном времени. Старались не пускать её, когда был сильный огонь, но разве можно было её удержать?! “Там же раненые, им помощь нужна”… И снова шла наравне со всеми под пули и снаряды.
Однажды с боем мы заняли село. Вернее, то, что от него осталось: пепелища да разрушенная церковь с уцелевшей колокольней. При отступлении фашисты жгли всё подряд, оставляя нам пустынные пожарища. И тут над головами просвистел снаряд. Перелёт. На него особого внимания не обратили: мало ли на фронте снарядов летает. Но второй снаряд взорвался, не долетев до нас. То есть классическая артиллерийская “вилка”, и корректировщик сидел наверняка на колокольне, больше немцу деться было некуда. Тут бы бежать в сторону, потому что третий снаряд должен был попасть туда, где мы были, но замешкались мы, посылая разведчиков к колокольне, чтобы сняли наблюдателя. И тут ударил третий снаряд. Совсем рядом разорвался. Но за какую-то долю секунды толкнуло меня в спину, я упал, а на меня сверху кто-то. Весь в пороховой гари, я приподнялся. Человек, лежавший на мне, скатился. Меня прикрыла собой Лена. Всё её тело, прекрасное девичье тело, было изрублено осколками… Лене было 18 лет… На мне – ни царапины. И злая, грешная мысль с тех пор не оставляет меня: а ведь Лена погибла во исполнение молитвы моей мамы! Почему же? За что? Боже, как же несправедливо ты устроил этот мир, допустив в него такое страшное чудовище, как война!
Меня часто спрашивали: страшно ли было на войне? Страшно, но надо. Я видел страшного очень много, бывал в разных переделках. Довольно жуткий эпизод был, когда пришлось голодать, как в блокадном Ленинграде. И до этого бывало, что кухня проехать не могла, – всё простреливалось, или разбомбит кухню, или расстреляют из пушки или миномёта – охотились на них тоже, знали: голодный солдат слабее. Но как-то наш батальон прорвался вперёд, соседи поотстали, и немцы отрезали нас от тыла. Мы оказались в лесу, но лес был какой-то странный, ненадёжный, он весь насквозь простреливался, передвигаться можно было только перебежками или ползком.
Шли сплошные дожди, земля раскисла… Три дня мы жили только тем, что находили в лесу, – ягоды, грибы, которые мы ели сырыми. На четвёртый день кто-то из солдат нашёл убитую лошадь (не буду уточнять, сколько дней назад убитую!), сапёрной лопаткой оттяпал от трупа ногу и притащил, причём вместе с подковой. “Суп” варили в каске: вода из болота, грибы и конина. Всё это, конечно, без соли. Сейчас такой “суп” можно бы употреблять только как рвотное, а тогда ели и похваливали: “Вкусно! Совсем как в ресторане!” Вот таким рестораном и продержались, пока наши не выручили. А ещё эвакуированные ленинградские ребятишки помогли: я всем про них тогда рассказывал. А уж если дети могли вынести всё это, то нам, взрослым солдатам, как говорится, сам Бог велел!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































