Текст книги "Рассказы о Великой Отечественной"
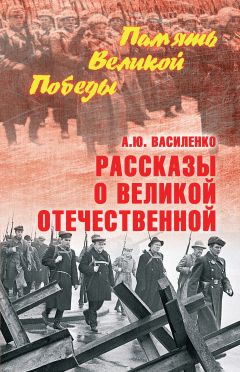
Автор книги: Алексей Василенко
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 32 страниц)
Дороги к партизанам
Александр Михайлович Минин
– До войны оставалось совсем немного, когда всей семьёй мы приехали в Белоруссию…
– Да-а, время, конечно, выбрали вы неудачное!
– А кто же знал? Мы-то все нормальной жизнью жили. И поэтому, когда война началась, мать, я и два младших брата оказались в мгновение ока на оккупированной территории.
– И что же дальше? Что делали? Вы двадцать четвёртого года рождения, в сорок первом вам было почти семнадцать лет. Возраст хотя и не армейский, но ведь могли вполне в Германию угнать. Тогда таких подростков всех собирали…
– Это было не сразу. Попозже. А вначале я год проболтался без работы, без учёбы, не очень-то сходясь со сверстниками местными. Ну, пара друзей у меня, правда, была. Я был очень маленького роста, почему-то задержка была в физическом развитии, потом, правда, наверстал. А так – незаметный был, да ещё и горбился специально, чтобы ещё поменьше казаться. В общем, почти до осени сорок второго я ни к чему не прислонялся. Жил в семье. А потом была вроде случайная встреча с пожилым мужиком. Он всё про жизнь расспрашивал, а потом посоветовал устроиться на работу. Более того, он даже подсказал мне, куда пойти работать. А там, в местечке нашем, и до войны была так называемая салотопка. То есть разделывали свиные туши, а сало перетапливали на смалец. Так вот немцы оказались большими любителями этого смальца, и салотопка работала бесперебойно. И почему-то этот мужчина настойчиво повторял: пойди туда, пойди.
Я пошёл. Сидеть на шее у матери больше никак нельзя было. Как ни странно, но меня приняли сразу. Стал я снимать шкуры, солить, укладывать. Кто хотя бы один раз с одной шкурой возился, знает, как это тяжело. А через меня их шло…
Однажды пришли немцы и забрали всех работников этой салотопки. Они евреями были, и я больше их никогда не видел. Меня, белобрысого, оставили – очень им было нужно, чтобы работа здесь шла. Я остался один. Дело я уже знал и, хотя и тяжело было, справлялся. И опять неожиданно, как говорится, возник в проёме дверей человек. Да, да, тот же самый, который посоветовал мне идти на работу. На этот раз он долго кругами не ходил. Уже через пару минут спросил:
– Хочешь помогать партизанам?
– Да, конечно же, хочу.
Тогда я как-то сразу поверил, что это всерьёз, не шутка, не провокация.
– Вполне могли на этом «погореть».
– Да, естественно, но по молодому делу не понимал этого. А мужик ситуацию сразу почувствовал, только усмехнулся слегка…
– То есть они, видимо, приглядывались…
– Конечно! И мне было дано только одно задание: в своё рабочее время, пока я нахожусь на рабочем месте, подсчитывать число прошедших на восток эшелонов. Учет нужно было вести только в уме, никаких записей! Человеку, который придёт и назовёт пароль, надо только назвать день и цифру. Например: сегодня 120. Цифру, кстати, тоже не требовали точную, понимая, что во время работы я могу и ошибиться, что-то пропустить.
– А что, от работы вашей станция была недалеко?
– Да в том-то и дело, что прямо напротив. И вокзал, и маневровые пути… Я ведь, получив это задание, понял, почему тот мужик (кстати, имени его я так и не узнал никогда) так настойчиво советовал пойти работать именно сюда. То есть меня запрограммировали с самого начала.
В общем, стал я давать сведения. Регулярно давал цифры. Наверно, и ошибался, ведь работаешь, не всё время в окно смотришь. Но я так думаю, что в целом сведения были правильные, потому что, скорее всего, их кто-то ещё дублировал. И порой представлял я себе, как данные наши попадают как-то на стол большим командирам, а они смотрят на карту и думают о том, что в этом направлении немцы явно начинают собирать силы для неожиданного удара. Но фашисты и не подозревают, что их коварные планы уже видны нашей армии, как на ладони…
Но… моя деятельность в роли разведчика-наблюдателя через какое-то время закончилась. Дело в том, что к нам домой нагрянули немцы с обыском.
Обысков я всегда боялся. Не потому, что я прятал дома что-то недозволенное, нет! Но у меня были два брата – совсем пацаны маленькие. А ведь у ребятишек есть такая привычка – подобрать, если плохо лежит, всё, что блестит. Как сороки. А таким предметом могли оказаться патроны, взрыватели, ещё что-нибудь подобное… Если б в доме нашли такое, то… Короче, я сам регулярно проводил обыски в доме и всё найденное выбрасывал в колодец. Тоже, кстати. Глупо и по-детски, но мне казалось, что там не найдут наверняка… Братьям от меня попадало, но запретные вещи продолжали появляться с завидной регулярностью. Вот этого я и боялся. В тот раз всё обошлось. То ли братья что-то поняли, то ли дело случая – не знаю. Но перевернули немцы весь дом, ничего не нашли и убрались восвояси.
О таких случаях надо докладывать немедленно. Как только появился связник, я сообщил об обыске. И добавил, что если нужно, я останусь, но лучше бы мне уйти в отряд, чтобы семью не ставить под удар. Попросил на это разрешение.
Через неделю пришёл из отряда человек и сказал, что командир разрешил. Договорились обо всём, и я ушёл. Со своим оружием, конечно, и с одним моим товарищем.
– Оружие-то где добыли?
– Да во время войны-то?! Здесь же бои проходили, так оно везде валялось. Мы с приятелем ещё тогда собрали, завернули в брезент и закопали. Правда, неопытные мы тогда были, недошурупили, что надо хорошо смазать патронники и стволы. В результате у одной нашей винтовки – СВТ десятизарядной – в патроннике образовалась раковина, пришлось шомполом выбивать после выстрела… В общем, с пятью винтовками вдвоём пришли в партизанский отряд.
– Оружие – это, так сказать, вступительный взнос?
– Да. А без оружия там делать нечего. Если идёшь, иди со своим. Должен так идти.
– И вот вы пробыли там почти десять месяцев, да? И какие действия отряд проводил?
– Отряд никакие действия всем составом не предпринимал. А группы диверсионные – это да! Вот это мы рады стараться! Все тут были молодые, здоровые, нам бы только взрывчатки. Кстати, я тогда и расти начал нормально…
– Что подрывали?
– Да всё, что нужно было. Дороги автомобильные минировали, мостики всякие, столбы телефонные. Немцам всё время приходилось что-то восстанавливать, ремонтировать. Ну и хоронить.
А однажды приказ – всех собрали в отряд. Мы взводами по разным местам были. Собрали и начали обучать. Натаскивали нас только на один объект: железную дорогу. Вот, мол, перед вами дорога. Ваш взвод должен перейти её, залечь и вести огонь. Раз попробовали: «Марш!» – неудачно, отбой. Опять через дорогу перебегаем. Плохо. Нас учат, как её, родимую, правильно, незаметно перебегать. Но в конце концов учение удалось. Командование сделало нам пробный…
– А ещё говорят: партизаны, мол, необученные. Вы же хорошо тренировались!
– А как же! Вот после этих тренировок мы и задали вопрос: а чему же мы учились? Нам сказали, что надо вывести из строя железную дорогу Слуцк – Барановичи. А это, надо сказать, достаточно важная и поэтому хорошо охраняемая магистраль. Вся эта взрывная кампания на железной дороге описана в литературе о партизанском движении, называют по-разному её. Одни – «рельсовой войной», а другие кодовым названием операции: «Концерт». Вот нас, «музыкантов», и готовили к «концерту».
Вышли мы к железной дороге недалеко от железнодорожной станции. Почему именно там, а не в глухом лесу – мне неведомо. Наш взводный выполнял роль огневого прикрытия. Вот для чего нас тренировали! Всё было так, как учили: перешли на другую сторону дороги и в случае атаки со стороны станции должны были прикрывать наших минёров, принять огонь на себя, отвлечь. Но… никто не стрелял! Наши ребята работали спокойно, и вскоре мы получили сигнал – переходить обратно. Мы перешли тоже спокойно. Дождались, пока были взорваны мины, понаблюдали, как куски рельсов падают с неба…
И вот тут-то на нас обрушился огонь. Да ещё какой! Сколько там было солдат задействовано, не знаю, но много. Огонь плотный. Мы отходили последними, и у нас семеро были ранены, в том числе и я. И командир взвода нашего тоже ранен был.
У меня ранение сложное оказалось. И на этом моя война закончилась…
Эту главу я назвал «Дороги к партизанам». Таких и подобных дорог было множество, у каждого партизана был свой путь к борьбе против врага. И очень часто шли в отряды люди, ненавидевшие фашистов лично, перенесшие огромную беду.
Бросишь камень в воду – от него ещё долго расходятся круги. Это – если вода спокойная. У нас вода была спокойной, когда в неё упал огромный камень. Уже и камень утонул, опять вроде бы тишина вокруг, но круги от той беды всё бегут и бегут. Сменяются поколения, а эхо давней войны всё звучит…
Кому-то мои слова покажутся преувеличением. Но вот совсем недавно познакомился я с хорошим человеком. Всю жизнь, более полувека, проработал он на крупном пассажирском и грузовом автотранспорте. А это, как правило, означает, что такой человек физически силён, бывал во многих переделках, объездил всю страну вдоль и поперёк, хранит в памяти множество историй – весёлых и не очень. Но чаще всего он возвращался в детство, своё послевоенное детство без отца. Один из таких рассказов Фёдора Фёдоровича Лосякина я записал.
– Мы вообще-то родом из Белоруссии. Это Витебская область, Бешенковичский район, деревня Дуброво. То есть, уже по географии понятно, что война пусть и не в первые дни, но уже в самом начале пришла к нам. От Бешенковичей до Витебска по нынешним меркам – всего ничего. Это на трассе Минск – Витебск, что перед Витебском идёт вдоль Западной Двины. Вот там семья наша и жила перед войной. Дом был хороший, рубленый, хозяйство – всё как у людей. Когда наши отходили, вокруг творилось страшное. Здесь уже красноармейцы дрались всерьёз, хоть и силы были тогда неравные. Много их тогда полегло в наших краях, многим раненым мамочка моя помогала тем, чему научилась, наблюдая за работой отца. А он был медиком и ушёл на фронт с первого же дня войны. Но всё это длилось недолго: пришли немцы и стали устанавливать «новый порядок». Нашу деревню сперва они как-то пропустили: не на оживлённой дороге она была, да и жителей в ней было не так уж много, а после начала войны и того меньше – на 30–40 домов – 20–30 человек. Так что в основном питались слухами о том, что происходит вокруг. Рассказывали, что знакомые деревни полностью выгорали, про расстрелы говорили. Говорили про евреев, их у нас в округе немало было. Удивлялись покорности и их послушанию: велено было носить жёлтые повязки на рукавах, – и носили, велено было собрать все золотые вещи, включая и коронки зубные – собрали, приказали всем собраться и копать ров, – копали. Их всех там потом расстреляли. Одна только женщина бежала, Сарой её звали. Умом она тронулась, и потом ходила полураздетая по окрестностям, несколько лет кормилась подаянием. Я там был, на том месте. Там теперь памятник стоит – чёрный такой…
Много всякого рассказывали. Про своих, кстати, тоже. Была, например, такая история. Когда наши отступали, повсюду убитые наши солдаты лежали. Всех их понемногу, поскольку просто народу столько не было, постепенно хоронили. Так вот одна женщина наткнулась на убитого солдатика и не погнушалась – стала с него сапоги снимать. А мародёрство считалось в народе да и, кстати, в законах наших большим грехом. Сейчас многие этого не понимают. Говорят: всё равно в землю уйдёт, зачем же добру пропадать! Это, я так думаю, с запада к нам пришло. Не по-православному это. Вот немцы, народ рациональный и не задумывающийся обо всяких мерехлюндиях моральных, они, прежде чем сжечь заживо людей в печах, очень заботливо и аккуратно откладывали обувь, одежду, даже волосы отрезали у женщин… У нас не так. Умер человек – даже если он фашист, – должен быть похоронен достойно.
И долго по всем окрестным деревням передавали рассказ о том, что когда эта женщина начала снимать с убитого второй сапог, прилетел откуда-то снаряд. Один. Шальной. Больше никакого обстрела не было. И разнесло женщину на клочки. Её жалели, конечно, как соседку, как знакомую, как родственницу. Но всегда при этом добавляли: её Господь покарал за непотребство!
Но рано или поздно, а «новый порядок» пришёл и к нам. Фашистский каток катился медленно, но неотвратимо. Отовсюду доходили вести о расстрелах, поджогах домов, угонах людей в Германию. Но жизнь – она так устроена, что по-настоящему беду чувствуешь только тогда, когда она пришла в твой дом. А она пришла. В лице группы фашистов во главе с офицером при поддержке украинских полицаев. Один, мама рассказывала, запомнился особенно: всё время, пока шли обыски в домах, норовил что-нибудь стащить, избить женщин и стариков (больше никого в деревне не оставалось). Ругался при этом по-украински, всячески подчёркивая своё превосходство перед белорусами.
Моя мамочка была далеко не глупым человеком, она уже прекрасно понимала все прелести новой жизни. Поэтому, когда направились к ней во двор, она задними дворами послала пятилетнюю дочку к той соседке, где уже побывала зондеркоманда. Но и она допустила грубую ошибку. Когда к ней в хату вошли немцы, то ничего опасного для себя они не обнаружили. Но зато злобный полицай углядел на стене фотографию отца, про которую мама просто забыла! Фотография уже выгоревшая, плохо различимая, но этот гад распознал по фотографии, что отец там – в военной форме…
Это был конец. Анастасия Александровна Лосякина с годовалым ребёнком на руках стала ещё одним человеком в нашей деревне, а всего их набралось более десяти человек, подлежащим расстрелу за разные «провинности». Их вывели за околицу, поставили на краю овражка. Полицай-украинец оказался пулемётчиком. Он удобно приладился и дал несколько очередей. Все попадали в ложбину. В это время каратели уже у кого-то расстарались с самогоном да и устали, наверно. К тому же уже темнело. И они отправились к почти пустым домам – переночевать.
Мамочка моя, прикрывая ребёнка, в момент расстрела чуть повернулась. Пуля попала в руку, и мама упала вместе со всеми.
Когда пришла в себя, было уже совсем темно. Она села рядом с убитыми. Дала ребёнку пустую грудь, только бы он не заплакал, и пошла домой. Про немцев она ещё ничего не знала, но когда подходила к дому, насторожилась: в окне был виден свет лампы. Заглянула. Лампа не погашена, коптит, на стол уронили головы офицер и его помощник, возле дверей спал, сидя на табурете, пулемётчик. И тут на неё нашло что-то совсем необычное: голова стала ясной, и чётко мама вдруг представила, что ей нужно делать. Она осторожно прошла в сарай, положила там ребёнка. Дальше действовала быстро и не задумываясь: взяла в сарае топор, стремительно вошла в дом, первым же ударом раскроила голову полицаю, метнулась к столу, нанесла ещё два удара. После этого она почувствовала, что теряет разум, потому что всё, что она делала дальше, было в каком-то затмении. Это потом ей рассказали, что она сделала: она отрубила головы офицеру и полицаю и наткнула их на колья возле ворот в ограде. Потом собрала оружие, пошла к той соседке, к которой отправила дочку, велела ей предупредить всех, что утром будет погром и всем нужно скрываться.
И пошла моя мамочка, не оглядываясь, по дороге на запад, туда, где были густые чащобы и болота и где она надеялась найти партизан. За плечами – пулемёт, который мог убить её с сыном, в правой руке она несла меня, ещё даже не годовалого, а левой держала ладошку пятилетней Лиды…
Она дошла. Работала и воевала в партизанском отряде до освобождения нашей местности Красной Армией.
…Во время рассказа этот сильный, всё на свете видавший человек то и дело кривил рот, сдерживая слёзы, которые всё же иногда поблёскивали на глазах. Но кто бы укорил его в слабости?!
Уходили в поход на врага
Григорий Николаевич Броник
– Войну я встретил в Ганчештах, в Бессарабии, лейтенантом, только что окончившим училище, и начало было таким же, как у очень многих. Так что особенно рассказывать нечего: отступление, выходы из мелких окружений, голод, только одно стремление – туда, на восток, к своим! Мы и предполагать не могли, что линия фронта откатывается всё дальше и дальше… Но – дошли, прорвались, вышли к нашим уже недалеко от Киева. Позже нас помурыжили бы долго с проверками на затесавшихся шпионов и диверсантов, но тогда была такая неразбериха! Нас быстро пристроили к делу. Мне поручили создать разведгруппу, и какое-то время мы были обычными фронтовыми разведчиками. Впрочем, наверно, не очень-то обычными, потому что нашу группу всё чаще и чаще стали отправлять далеко за линию фронта с конкретными заданиями, которые заключались в основном в проверке каких-то сведений и проведении диверсий. Уходили мы всегда вполне себе «привидениями», облачёнными в специальную одежду, вооружёнными до зубов. Вернувшись, приобретали обычный военный облик.
Но однажды вернуться не получилось. Уже на обратном пути мы узнали во время сеанса связи, когда передавали добытые сведения, что наши войска оставили Киев, и мы оказались в таком глубоком тылу в центре Украины, что и представить себе трудно. Дело ведь не в расстоянии, а в том, что это была настоящая глухомань с очень редкими небольшими поселениями, где уже прочно осели фашисты и стали наводить «новый порядок». Приказано было либо пытаться пробиваться к своим, либо на месте влиться в какой-нибудь партизанский отряд. Или попробовать создать его самим…
Первый вариант отпал как-то сам собой, потому что я и ещё несколько человек из нашей группы уже испытали эти бесконечные плутания, стычки и прочие «прелести» жизни оторванного от своих подразделения. А сейчас и вообще предполагаемый путь увеличился неизмеримо.
Было нас одиннадцать человек. Голод и холод – не самое страшное из того, что тогда приходилось испытывать. Педантичные немцы очень аккуратно прочёсывали все леса в округе… Кстати, знаете одну из причин успехов фашистов в начале войны? Говорят обычно о неожиданности, о перевесе в вооружении, об отсутствии у нас нормальной связи и так далее. Так вот в это самое «и так далее» я добавлю ещё одну причину, о которой, может, и говорят специалисты, но в другой литературе этот фактор почти не упоминается. Плохо у нас была развита картография. Немцы издревле считаются хорошими печатниками, а в этой области они нас обскакали далеко.
Однажды уничтожили мы крупный немецкий лесной патруль – около взвода на машине-бронетранспортёре при двух мотоциклах. Так для меня самая большая радость от этой победы была не оружие и продовольствие, которые буквально выручили нас. Главным призом для меня был офицерский планшет с картами. Вначале я к этому приобретению отнёсся как-то ровно: ну, карты какие-то… Но потом разглядел и ахнул: вот как они готовились к войне! На полевых картах типа старых российских двухвёрсток было отмечено всё, что было в этом районе, вплоть до отдельных сараев и обветшавших охотничьих домиков, не говоря уже о даже самых мелких населённых пунктах. А у меня, командира группы разведчиков, не было карты вообще никакой. Та, которой нас снабдили, отправляя в тыл к противнику, в новых местах, естественно, была просто непригодна. Так что в руках у меня оказался поистине клад. Я почувствовал себя, как чудом прозревший слепой, который в один миг стал всё видеть и понимать всё происходящее. До этого времени мы были обречены на гибель, речь могла идти только о том, чтобы отдать свои жизни подороже, я это прекрасно понимал, думаю, что понимали это и все остальные. Но уж теперь-то у нас появились шансы не просто на жизнь, а на реальную борьбу, действия против оккупантов.
Мне сегодня говорят: что ж вы к людям не обращались, уж как-нибудь помогли бы, что-то подсказали. Я в таких случаях отвечаю: а вы понаблюдали бы в то время из леса за какой-нибудь деревенькой! Увидели бы и полицаев-прихвостней по большей части из наших же дезертиров, заметили б и старосту, который, угодливо сгибаясь перед каким-нибудь ефрейтором, докладывает ему обо всём и обо всех. Увидели бы за околицей трупы жителей… Да стоило нам совершить ошибку и нас бы, что называется, «засекли», то вся деревня была бы уничтожена вместе с домами и людьми – женщинами, детьми, стариками… Как же мы могли рисковать… не собой, нет, к своему риску мы были всегда готовы, а вот этими беспомощными, невинными людьми? Тем более что немцы, разумеется, знали, что где-то под боком у них действует боевая группа, которая доставляет им немало беспокойств и потерь.
Но нам вскоре повезло. Парень из наших разведчиков под видом бродяги-беженца сумел войти в контакт с одной семьёй. Понаблюдав за их жизнью, решил рискнуть. Пока только собой. Сказал, что он – красноармеец, пробирается к своим. Через несколько часов, поскольку не произошло ничего чрезвычайного, он сказал хозяевам, что у него есть несколько товарищей в лесу, которые буквально голодают и замерзают. (Дело было уже зимой, а мы в рейд уходили, когда было ещё тепло, налегке.) И вот с этого момента жизнь наша изменилась.
Из деревни Поташи, где всё это происходило, нас быстро переправили в заброшенный сарай, где мы обогрелись, утеплились, поели в первый раз за несколько дней. Потом, пошептавшись меж собой, хозяева сказали, что в нескольких километрах в глубь леса есть ещё деревня, где немцы и не бывали ещё.
Пошли. Добрались за полночь, вошли в какую-то вросшую в землю хату. Сели, расслабились в тепле, хотя оружие всё же наготове. И вот тут происходит следующее: открывается дверь, входит парень рослый такой, садится за стол под лампу – лица не разберёшь, спрашивает:
– Ну, что за гости у нас? Старший есть? Рассказывайте – кто такие, откуда?
Я только собирался говорить, как хозяин (а он и держал себя, как хозяин) поднял руку к низко висевшей над столом керосиновой лампе и повернул её так, чтобы свет падал мне в лицо. Я невольно прикрыл рукой глаза, а парень вдруг усмехнулся:
– А не надо вам ничого рассказувати, Григорий Николаевич!
Я смотрю – да это же мой совсем недавний подчинённый Арсей Полудненко! Хороший был боец, но… здесь? Дезертир? Да ещё вдруг полицай?..
И вот такие мысли с бешеной скоростью вертятся в голове, а Арсей смотрит мне прямо в глаза, понимает причину затянувшейся паузы.
– Не дезертир я, товарищ командир. Часть нашу разбили, вы знаете сами. Пока выбирался, поздно было кого-то догонять. Дошёл до родных мест. Эта деревня ведь – родина моя. Она и называется, как фамилие моё: Полуднивка. А до вас у мене есть дило…
Вот «з етого моменту», как говорил Арсей, пошли у нас дела уже совсем по-другому. После более тесного знакомства с местными жителями, после недомолвок и недосказанностей Арсей вывел меня на командира создававшегося там партизанского отряда Петра Антоновича Дубового (имя я тоже намного позже узнал). Конечно, надёжная и опытная боевая единица в отряде ох как нужна была! И уже вскоре в Чигиринском районе, а это, как бы вам объяснить… это примерно на полдороге от Киева до Днепропетровска, если по Днепру спускаться, начал действовать наш партизанский отряд.
Поначалу и отрядом-то нас назвать было трудно. Скорее – группа. Связи с другими отрядами не было, не говоря уж о Большой земле, поскольку наша рация давно вышла из строя, оружия не хватало, боеприпасов… Но постепенно обрастали мы, набирали опыт и всё чаще наносили существенный урон фашистам. К концу 1943 года мы стали очень существенной силой: было у нас больше двух тысяч партизан. И помимо боевых, мы выполняли и ещё одну задачу, не менее важную: рядом с нашим затаившимся в лесах посёлком жили, спасаясь от насильников и убийц, примерно тридцать тысяч женщин, стариков и детей. Это мы спасали их от угона в Германию и прочих подобных «прелестей» оккупации.
Лет за двадцать до встречи с легендарным Броником был у меня ещё один разговор. На этот раз с человеком, который начал службу ещё до войны, год воевал, а потом, как он говорил, по неизвестным ему причинам вызвали его в некий кабинет и приказали вместе с политруком Бондаревым возглавить диверсионную группу. Было их всего семнадцать человек. Был июль 1942 года. Нужно было проникнуть в Освейский район Витебской области и организовать там партизанское движение. Лейтенанту тогда был двадцать один год, родом он был из далёкого причерноморского города Сухуми и понятия не имел об условиях выживания в белорусских лесах и болотах. Целый месяц они добирались до цели. Голодали. Всё необходимое добывали с боем, буквально прорывались к обозначенной в приказе точке. Через год в партизанском отряде имени Фрунзе было более двух тысяч человек, это была мощная самостоятельная единица, наносившая существенный урон врагу.
Сегодня о героизме одного из самых известных партизанских отрядов известно в Белоруссии практически каждому. Отряд имени Фрунзе навеки вписан в историю партизанского движения. С его командиром в течение полутора лет, а в дальнейшем, уже в действующей армии, командиром миномётной роты, прошедшей до Восточной Пруссии, Ваграмом Погосовичем Калайджевым, мы говорили о многом, обо всех сторонах партизанской жизни, но боевые дела отряда даже к тому очень уже давнему времени (семидесятые годы) были подробно описаны в нескольких книгах, о них уже давно были сложены песни, и я не буду здесь воспроизводить тот разговор. Но одну часть его всё же приведу…
– Не знаю, как вам, а мне приходилось сталкиваться с таким, на мой взгляд, страшным явлением. Иногда заговоришь с кем-нибудь о войне или о фильме на военную тему, а в ответ слышишь: а не хватит ли об этом говорить? Устали уже. Мир забыл войну, так давайте радоваться жизни, а не вспоминать о трагедиях. Люди с такой «позицией» (я это устанавливал осторожными расспросами), как правило, не теряли никого из близких на войне, не прикоснулись к ней сами, и дороже всего на свете им их собственный мирок. А если что-то сообщают новое из «горячих» точек – выключим, а включим снова через пять минут, когда грянет музыка или понесётся разухабистая реклама. Зачем знать о бедах и несчастьях, ведь нервные клетки не восстанавливаются…
В такие минуты хочется кричать в оглохшие уши, бить кулаками, разбивая ледяную кору на сердце, и насильно открывать глаза, поднимать веки: смотри, слушай, помни, ведь ты человеком должен быть, а сейчас ведь, беспамятный, ты – видимость человека, мираж, фантом! Историческая память – это то, что делает нас людьми, а не бессмысленно жующими жвачку потребителями суррогатов, выработанных «хозяевами» жизни. А они, эти нынешние претенденты на мировое господство, уже много лет пытаются внедрить и успешно внедряют в головы наших людей мысль о том, что истинная цивилизация, культура, мораль – это там, на западе, что мы живём не по правилам, что нужно учиться жить по-другому. И тогда, если будем послушными, будет нам всем счастье. Забудьте обо всём, забудьте о страшной войне… Да и такой ли страшной она была? Ну, установили бы европейский порядок, кому от этого было бы хуже? Недавно один политический деятель в Германии в газетной статье (я немецкий язык ещё не забыл!) утверждал, что гитлеровцы не зверствовали на оккупированных территориях, что они вроде бы наводили порядок, но воевали только с вооружёнными людьми, то есть с нами, партизанами…
Враньё! Какое враньё! Стараются замазать, заштукатурить, припудрить правду. А она ведь страшная. Не дай кому-нибудь увидеть то, что я видел своими глазами! Это же был геноцид в полном смысле слова, хладнокровный, изощрённый. Я не буду говорить о планах Гитлера уничтожить всех славян, эти планы есть в давно обнародованных документах. Я хочу рассказать о том, что происходило по всей Белоруссии, на Украине, на оккупированных временно российских территориях. За все эти советские земли говорить не могу, но данные по ним есть в материалах Нюрнбергского процесса, в тысячах свидетельств, книг, документов. Поэтому я расскажу только об одном районе, и о том, что я видел своими собственными глазами.
После войны наши благодушные послесталинские руководители долго учили нас, что не надо смешивать фашизм и весь народ, что вины народа в злодеяниях фашистов нет! Но как мне быть с моей памятью, с моими глазами и всеми остальными органами чувств, которые сохраняют по сей день совсем другое. Сейчас пытаются разделить эсэсовцев и вермахт: злодеяния совершали, мол, одни, а другие честно выполняли приказы. Но мы-то живы! Я жив ещё! Я буду всегда и везде говорить об этом ещё и потому, что знаю всё памятью крови. В 1915 году всё население Амшена, откуда семья наша родом, было практически уничтожено турецкими аскерами и башибузуками под заботливым руководством немецких и других иностранных инструкторов. Оставшиеся в живых бежали к берегу Чёрного моря, под защиту России… У нас об этом каждый ребёнок знает, а всего четверть века спустя мне довелось здесь, в Белоруссии, увидеть такое же…
Две карательные экспедиции были брошены вроде бы на наше уничтожение. Командовали ими генерал-майор Якоби и обергруппенфюрер Еккельн. Почему я употребил выражение «вроде бы»? Да потому, что то, что происходило, никак и ничем не было похоже на боевые действия. Да, у нас с карателями были бои, порой мы отступали, чаще добивались успеха и растворялись в лесах. Но для немцев, я подчёркиваю: для немцев, а не только фашистов, главным было полное уничтожение всего живого вокруг! В своих перехваченных нами отчётах эти доблестные предводители людоедов писали: «Сталинские бандитские отряды разбиты и рассеяны. Остались лишь небольшие группы, которые бездействуют и скрываются в лесах. Для немецких войск они не представляют опасности».
Их было сорок пять тысяч. Что они делали? С кем воевали? Они приводили цифры – количество убитых в боях партизан. Цифры очень большие, такого количества партизан никогда не было на территории Освейского района. Я ещё объясню – откуда брались эти цифры. И что ни строка в этих отчётах – то ложь. Лгали на каждом шагу. Даже такая вот деталь: в одном из отчётов они писали, что прибывший из Москвы для координации действий партизанских отрядов Бардадын убит в бою и что его труп подобран немецкими солдатами! А Александр Фёдорович Бардадын жив и поныне, живёт в Москве, он доктор технических наук, я с ним переписываюсь (разговор наш записывался в начале восьмидесятых годов. – А.В.).
И вот они тогда докладывали, сколько они уничтожили партизан… А мы тоже их злодействам вели точный счёт. Он сейчас в музее находится, чтобы люди всегда помнили. Цифры эти, пока жив буду – огнём горят в голове. За несколько дней Освейский район был превращён в пустыню. Сожжены дотла 158 населённых пунктов, школы, больницы, детские дома, машинно-тракторные станции, мельницы… Даже три костёла сожгли, не говоря уж о православных церквях! Это так солдаты «честно» выполняли приказы: с тупым, бессмысленным выражением на лицах. Это страшно!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































