Текст книги "Рассказы о Великой Отечественной"
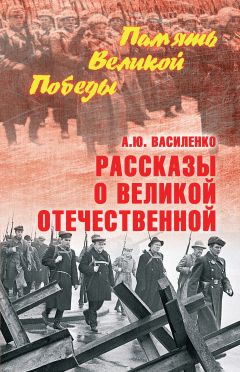
Автор книги: Алексей Василенко
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 32 страниц)
Но куда страшнее то, что делали с людьми. 3639 человек были сожжены заживо или утоплены в реке Свольне. Партизаны?! Мы потом подсчитали, мы всё считали! Из этих людей 2118 – были дети! До двенадцати лет! 310 стариков! Остальные – женщины… На каторгу в Германию были угнаны ещё 2615 человек…
Я видел такое, что не дай и не приведи кому-нибудь видеть. В деревне Беляны жила семья Юхневичей. Восьмилетнему мальчику на груди и спине вырезали пятиконечные звёзды, потом бросили его в огонь. Матери отрезали груди, семилетней девочке распороли живот. Потом их тоже бросили в пылающий дом… Возле Муквятицы изнасилована и расстреляна Просеня Черноок, расстреляна Евгения Путро. Её дочери семилетней выкололи глаза. Возле села Микулино на опушке леса нашли 56 трупов. Как потом узнали – жители села Подгайское. Удалось опознать в растерзанных ужасными пытками телах только троих: Владимира Подгайского, 15 лет, его сестру 18-летнюю Лиду, да Наталия Кудла лежала, прижав к себе труп двухлетней дочери.
Понимаете, горе – всегда горе, но оно гораздо горше, когда оно касается людей, с которыми ты сроднился. Семья партизана-разведчика Петра Шкетика была расстреляна даже не за родство с партизаном, о котором они так и не узнали, а по какому-то случайному, нелепому поводу. А семья была – мать, жена, трое маленьких детей. Мать командира роты из нашего отряда имени Фрунзе Петра Смичкова бросили в яму, облили бензином и сожгли. А семья партизана Михаила Мацулевича была утоплена в реке Свольна…
Человеческий ум не в состоянии вместить весь ужас этой трагедии, изощрённость палачей. Массовых сожжений, изнасилований, расстрелов этим зверям было мало. Эти «верные, честные солдаты», которые только «выполняли приказы», согнали 400 человек из деревень Ардавская и Задонье. Прежде чем их сжечь заживо, им, – живым! – загоняли в грудь гвозди, прибивая к бревенчатым стенам домов и сараев… Когда партизан Лаврентий Чапух нашел место казни своей семьи, он за одну ночь стал совершенно седым…
Вот так они «воевали с партизанами», вот так они «только выполняли приказы». Тем и страшен фашизм, что если человек ему активно не сопротивляется, то эта идеология может этого человека низвести до уровня зверя. Геноцид одними приказами не осуществишь, в нём виновен каждый, кто его замышляет, каждый, кто его осуществляет, каждый, кто молчит. А сейчас я ещё добавлю: и каждый, кто его замалчивает.
Но мы предъявляли счёт людоедам! Только наш отряд имени Фрунзе, которым я командовал, за год и четыре месяца, пока я там находился, уничтожил около двух тысяч солдат и офицеров, тридцать два воинских эшелона, свыше 20 шоссейных мостов и один железнодорожный, более 80 километров железнодорожного полотна, самолёт, два танка, множество автомашин и другой техники…
Но вот после таких свидетельств, после множества документальных материалов, после вроде бы международного осуждения фашизма сейчас, десятилетия спустя, усилиями многих… не только недобитков, но и вполне современных политиков нацизм возрождается! Сегодня этот факт уже замолчать невозможно! Значит, рано мы успокоились и решили, что можно после кровавой войны и восстановления страны прийти в себя и начать, наконец, спокойную, нормальную жизнь. Пошли мы в сторону от точки невозврата. Мир снова начинает катиться к войне. А посему нам говорят: «Опять вы о войне!»
Да, о войне. Не можем мы иначе.
Первые сутки
Антонина Сергеевна Лисовская
– Я не знаю, как уж так получилось, какой это фокус памяти произошёл. Но факт: за два года, что я была на войне, пришлось мне видеть многое, событий вокруг происходило очень много, казалось бы, должно крепко отложиться в голове то-то и то-то, а у меня прямо парадокс какой-то: самым памятным для меня оказался один день, который храню в памяти, как самое дорогое. Это день, когда мы прибыли на фронт, в действующую армию.
Конечно, не понимала я тогда ничего из того, что происходило на фронте, мне было тогда всего 17 лет. Я могла только наблюдать, как на всех станциях нашу санитарную летучку, наш поезд с красными крестами, почему-то задерживали и пропускали вперёд эшелоны с техникой, войсками. Я хотела скорей оказаться на фронте, я понимала, что нас там должны ждать с нетерпением, но не могла ещё понять, что мы-то пока едем порожняком, что мы не единственный санитарный поезд, что там уже работают тысячи медсестёр и врачей…
Наконец, мы прибыли в Могилёв-Подольский. Уже намного позже я узнала, что в этот момент проходила знаменитая Ясско-Кишинёвская операция, а мы прибыли на её фланг – Могилёв-Подольский расположен на берегу Днестра, на самой границе, на Украине. И госпиталь наш, вернее здания, предназначенные для госпиталя, находились прямо на берегу реки.
Мы прибыли одними из первых, а раненых свозили в Могилёв-Подольский уже несколько дней, они получали первую помощь в полевых госпиталях, а у нас уже, в эвакогоспитале, были более квалифицированные врачи, хирурги. В первый же день, как только мы прибыли и начали размещаться, поставили меня на дежурство в третье отделение. Ну что сказать? Раненые были тяжёлые. Это я не только в смысле ранения. Они были тяжёлыми в физическом смысле сами по себе, а большинство из них были загипсованы, а гипс-то тяжеленный, а мне 17 лет. Я и сейчас-то габаритами не вышла, а тогда – хлыстик хлыстиком! Все они на нижнем этаже были, раненые-то. И вот туда меня и поставили. А ни нянечки, никого не было, я одна работала. Сколько у меня было раненых, я не знаю, может, сто, а может быть, сто пятьдесят…
Это же кошмарный труд! Но так и было. А потом ведь, как говорится: глаза боятся, а руки делают. Три палаты мне достались. Все лежали на полу, на соломе. А солома, я обратила внимание, была уже перетёрта. Ходишь, а от неё пыль поднимается, глаза разъедает, представляете? А раненым каково приходилось?! Я уж не говорю об инфекции, но многие из них, видимо, давно здесь лежали, дышали всем этим… Лежали без помощи, потому что им была оказана первичная помощь, а другой до этого и не было. Беспомощные были совсем, я уже говорила.
Ну, одна… Раненый ничего не может сделать сам. Его надо напоить, накормить, судно, утку подать. А мне же 17 лет, и всё это я делала сама. Говоришь себе: человек беспомощен, мы – медработники, мы и к этому призваны… И, стараясь не думать ни о чём, выполняла всё, хотя это в обязанности медсестры не входило, но я же одна была…
И дали мне десять тарелок и десять ложек. Это на всех. И вот по порядочку… Я ему на грудь поставлю тарелку, хорошо, если у него руки, то он сам ест, уже хорошо. А которые без рук или руки в гипсе, мы потом их называли «самолёт» в шутку, раненые не обижались, – так ведь их и накормить надо. Я-то спешу, стараюсь, знаю – надо же мне ещё остальных накормить! А их много…
Как я в тот день успевала – не знаю. Уже для меня минуты и часы не существовали, сплошной поток работы, заботы… Как-то надо было чай вскипятить, чаем напоить. Там титан поставили, так в титан ведь всё время дровишки подбрасывать надо, а ещё он так устроен, что пока не закипит, из него вода не польётся. Так вот мы, сёстры из разных отделений, в очередь друг за другом, каждая старается своих раненых накормить, напоить…
Вот так и шли у меня первые сутки – в таком круговороте, в напряжении, взвинченном состоянии. Но показать это нельзя ни в коем случае! Это всё внутри, а снаружи: лёгкая, живая, подвижная… Только вот всё время слышать вокруг: «Сестра-а-а-а, сестра-а-а!», и с таким надрывом в голосе, – ох как тяжело!
Вот так. А тут ещё замполит забежал, соли подсыпал: учтите, будьте бдительны, потому что местность только что освобождённая от неприятеля. Бывают случаи – вырезают и медперсонал, и всех раненых. Будьте бдительны! И не говорит, главное, то, о чём в первый же час сообщило нам летучее человеческое Информбюро: что такие случаи были, но чаще всего немцы тут ни при чём, а зверствовали местные националисты, служившие немцам. А попробуй их распознай – наш или не наш. Ну что ж, призывают к бдительности, значит, будем бдительны.
И целый день вот так, колесом: за завтраком обед, потом ужин. Это кормление. А ведь помимо того нужно кого-то подбинтовать, раны мы в тот день не открывали, кому жгут переналожить – срок подошёл, дальше жгут держать нельзя. У кого-то кровотечение, кому-то с сердцем плохо, укол надо сделать… И всё – надо, надо, надо…
Проработала вот так весь день, как одну минуту, не заметила, как ночь наступила. Как-то начала эта суматоха приходить в нормальную колею, раненые мои – накормленные, напоенные – успокоились…
Да, забыла. Была у меня ещё одна палата, четвёртая, маленькое помещение через дорогу было. Сначала я и туда бегала, а потом Коля Ильенко, он мне симпатизировал, этот паренёк, у меня до сих пор фотография его хранится, так вот он говорит мне: «Я сам там всё буду делать». И вот он и на посту стоял, часовым был, и приглядывал за ранеными. А вечером опять приходит: «Тося, смотри, туда не ходи, а то ещё утащат тебя куда-нибудь ночью…» Вот это была единственная помощь мне в тот день, от этого паренька, простого солдатика.
И вот ночь. Всё успокоилось, почти все уснули. И вот тут-то я и почувствовала, как устала. Легла тут же, возле раненых, дверь на крючок, чтоб никто не вошёл. А что такое крючок? Преграда? Но легла на солому, холодно, зябну, халат натягиваю, укрыться нечем, ноги застыли у меня… Вот так ночь прошла, сон сторожкий, хорошего сна не могло быть, на каждый стон, на каждый шорох вскакивала, всё время в напряжении… Утром встала, ноги совсем окоченели, я же босая работала, босая! Дело в том, что мы были вольнонаёмные, нас не одевали… И когда я ещё дома была, мама спросила: «Какие туфли тебе заказать-то? На каблуке или без каблука?» Ну, что за вопрос – конечно, на каблуке! И вот у этого чуда на каблуках этот самый каблук и сломался. А когда сломался, я, естественно, сбросила эти туфли, осталась босиком!
Утром сменилась, и мне надо идти по городу без обуви. Со мной была Елизавета Мироновна, она у нас хорошая медсестра. Опытная. Я потом много у неё перенимала, я ж молодая, без практики, а она со стажем. Короче, дала она мне какие-то тапки, вот такущие, они всё время с ног сваливались. Всунула в них ноги и пошла искать, где же я живу. Всем нам наспех накануне показали, кому где жить. А я что – помню разве? Ходила-ходила по городу и без того усталая, а тут уже еле ноги волочила. Нашла, наконец. Легла спать «дома». В окно солнце светит, видны мазанки украинские, хатки, тихо, спокойно, и никакой тебе войны…
Уснула. И не заперлась. Вечером слышу шорох – а я, оказывается, целый день проспала, ни тебе обеда, ни тебе ужина – куда там! И главное – усталость-то волнами как-то захватывала: накануне к вечеру одолела, потом, когда ночью холодно было, усталость как-то и не вспоминала, а утром… Ну, я уже говорила.
И вот шорох какой-то. Я вскинулась. А это тот паренёк, Николай Ильенко. И говорит:
– Это я, не бойся!
Потом отругал меня: что ж ты, уснула и не заперлась? Хороший, чистый парень был. Светлое пятно в жизни. Он говорит: «Бомбёжку-то слышала?» Я говорю: «Нет, не слышала». – «Была, – говорит, – бомбёжка». А там прямо за садом (а хата в саду стояла) разбомбили вещевой склад, аптечный, продуктовый склады. Причём бомбы сбрасывали именно на наше отделение нашего госпиталя, хотя и обозначено всё было красным крестом, специально сбрасывали, чёрный крест плевать хотел на красный… Но, к счастью, здания стояли на берегу Днестра, и бомбы попали в реку. В общем, пострадавших не было, благополучно всё обошлось. Третье отделение тоже обстреливали. Видимо, отбомбились уже, бомб у них уже не было, так они из пулемётов и пушек обстреляли, но тоже обошлось без потерь с нашей стороны…
И вот что удивительно. Ночью, стоило кому-то застонать из раненых, как сон мгновенно слетал, я вскакивала и как была – босиком бежала к нему. А тут – бомбёжка, обстрел…
И ничего не слышала! Честное слово!
Вот так и прошёл мой первый день на фронте.
Бой первый, бой последний
Дмитрий Николаевич Рыжов
– Я 1925 года рождения, поэтому на фронте был совсем недолго. Впрочем, как посмотреть. Год обычной жизни – это, конечно же, немного, хотя и в него многое можно уместить. А год на фронте – это целая жизнь с рождением солдата, созреванием, опытом, иногда и со смертью. И всё это пролетает с невероятной скоростью, с предельным напряжением…
Перед самым началом Ясско-Кишинёвской операции я попал на фронт. И несколько дней не прошло (а эти дни не в счёт, всё на автоматизме: сказали «иди» – иду, сказали «спи» – сплю, сказали бы «танцуй» – танцевал бы, потому что вокруг все старше тебя, вокруг медали звенят, вокруг костра – воспоминания о боевых эпизодах), как послали нас, нескольких молодых необученных, куда-то далеко. В прямом смысле это называлось рекогносцировкой, задачу я не знаю, есть старший, короче, поехали. А дело было в Румынии, тут ещё с их названиями не свыкся, сейчас и не скажу, где это происходило конкретно.
Остановились мы на поле хлебном перекусить. Только консервы открыли, буханку порезали, как прямо по нам шарахнула артиллерия. Уж что мы за цель для них были – не знаю, но снаряды ложились довольно близко. Или это от страха так казалось?
А страх был… Тавтология получается, но страшный страх. Жизнь потерять вообще страшно, а когда ты цыплёнок на фронте и делаешь первые шаги – это страх особенный. А мы ведь всего пятый день на фронте были!
Побросали мы оружие, карабины у нас были, амуницию свою и кубарем вниз, в овражек, был там небольшой. И вот только на дне опомнились, пришли в себя: да что же это с нами? Какой-то ужас нас сюда кинул. И стало неловко нам друг перед другом, в глаза не смотрим. Подобрались мы и полезли наверх, собрать всё, что оставили.
– То есть голову не совсем потеряли?
– Тут самое главное было, что если ты себя одолел, то значит – становишься солдатом. То самое рождение, о котором я говорил. А страх… Он ведь и потом остался. Людей, которые вообще ничего не боятся, не бывает. Я, сколько довелось быть на фронте, боялся воздушных налётов. Она… бомба, стерва эта… летит, она же воет! Да ещё самолёт пикирует, это тоже радости не добавляет, когда моторы ревут всё ближе и ближе. Делаешь иногда бессмысленные, инстинктивные вещи. Тоже в Румынии было, я тогда ещё впервые кукурузу такую высокую увидел. Мамалыгу до сих пор помню, но это было позже, а тогда «мессершмитты» налетели, немецкая авиация. Бомбы летят, очереди землю прошивают, все вжались в землю, а я бессмысленно, не помню уж как, схватил немецкий снарядный ящик, жёлтый такой, да и голову им прикрыл. Мысль одна стучала в голове: если ранит, то хотя бы не в голову… А по сути – чем эта деревяшка могла помочь?
Ну, конечно, потом уже привыкаешь. То есть не привыкаешь, а приспосабливаешься. Уже по звуку летящего снаряда точно знаешь, что это не в тебя. Уже понимаешь, где надо ползком, где скачком, а где спокойно можно в рост идти…
– Но ведь и преодоление страха бывало множество раз. Вот вы упоминали о танковой атаке…
– Да, не раз. И в Венгрии, когда Тиссу форсировали и немцы хотели нас сбросить в реку, и в другие разы. Но я говорил про последний бой. Это в Чехословакии было – последний для меня бой.
– И вот этот день больше всего запомнился?
– Да. На всю жизнь. Мы почти всю ночь шли до места назначения. Добрались, наконец. Впереди – деревня, километр до неё. Мы должны занять позицию после марша. Орудия развернули, не успели ни окопчики откопать, ни погребки для боезапаса, и тут видим: от деревни или там от хутора бегут люди. Наши. Бегут сломя голову. Я тогда в первый и в последний раз увидел своими глазами, что такое паника на фронте. Они бежали, и оттуда доносились крики: «Танки, танки!» И гул нарастает. А сзади солдат офицер с пистолетом. Ой, совсем не так, как на плакатах рисовали «За Родину, за Сталина!». Матерится, пистолетом размахивает, но куда там! Солдаты его обтекают и бегут прямо на нас.
Через минуту-другую от деревни с двух сторон танки появились. Вначале шла инфантерия, румынская пехота. Как только показались танки, с них поспрыгивали немецкие десантники и пошли за пехотой, поверх их голов поливали огнём. Танки всё появляются и появляются. И это такое психологическое воздействие оказывало, что был момент – и мы бы дрогнули. Но отрезвила нас команда командира: «К бою!»
Встали мы по местам и соображаем, что драться будет трудно, потому что танки на нас в лоб идут, как известно – с танком в лоб тяжело разговаривать. Надежда была на поддержку второй батареи, она от нас метрах в пятистах была, и стрелять ей, хоть и дальше, но в борта.
Вторая команда: «Осколочным беглым!». И по пехоте. Пехота повернула назад, отступила. А мы начали бить по танкам. Танков было до пятнадцати, и они смяли бы нас, но нервы у них не выдержали – стали маневрировать, уклоняться. А раз так, то и борта подставлять. А мы ведь на прямой наводке, расстояние всё сокращается, но никто не дрогнул. Два танка были за нашей батареей, горели невдалеке, ещё два танка соседняя батарея достала.
Конец того боя (а они-таки попятились, ушли!) я не видел. У нас тогда двое ребят из Курска погибли – Антифеев и Некрасов. А меня тяжело ранило.
Потом по госпиталям в Чехословакии, потом – в Мишкольце, ещё где-то. В Мукачево, на Западной Украине, из поезда уже выгружали. Помню доски вокзала, все покрытые росой… Закричал: «Не хочу сюда, на родину хочу!» Санитары рассердились: «Ах, не хочешь? Давай обратно». Запихнули меня. Повезли дальше.
Интереснейший случай был, не знаю уж, на какие сутки пути. Я вообще-то не суеверный человек. А тут, понимаете, приснилось мне, что я встал якобы и сам пошёл в туалет в конце вагона. Проснулся. Попытался встать. И встал! И пошёл по вагону, опираясь на полки! А товарищ лежал наверху, говорит: «Дим! Я думал, что маленький, а ты большой ростом-то!»
Было мне тогда 19 лет. Неженатый был, естественно. И инвалидности своей очень стеснялся долго.
День Победы нашей встретил я в санитарном том же поезде где-то недалеко от Баку.
Из письма Сергея Геннадиевича Орлова
18 декабря 1944 года. «Не надо больше горевать о Жоре, это бессмысленно. Очень прошу – не думайте и обо мне, если вдруг и меня не будет, так как идёт война, поэтому и не нужно переживать сильно. Конечно, я прекрасно понимаю вас, как тяжело всем родителям, но ничего не поделаешь, таких, как мы, много… Только вы не падайте духом, не теряйте надежды, а наоборот – работайте больше, помогайте нашему государству чем можете, чтобы скорее закончилась эта тяжёлая война и мы вернулись бы домой и начали жить по-человечески. Я пока нахожусь на фронте, больше ничего не могу писать. Тот, кто был на фронте, тот знает, что такое фронтовая жизнь. Прошу вас письма писать чаще и больше, и я очень надеюсь, мамочка, что я буду жив и прочту все ваши письма».
Был и такой случай…
Владимир Сергеевич Гамаюн
Ася Алексеевна Воскресенская
Наш разговор с Владимиром Сергеевичем долго плутал по годам и фактам, но в основном – по тем временам, когда бывший землепашец выполнял другую работу, когда он, молоденький командир взвода, возглавил под Кёнигсбергом десант, строчащим дьяволом пронёсся на броне танка через линию обороны фашистов, захватил с ребятами пятачок и держал, держал его зубами и ногтями, пока наши не подошли. Орденом Отечественной войны второй степени наградили тогда Гамаюна, и я, почти не сомневаясь в ответе, спросил Владимира Сергеевича:
– Тот бой, тот день, наверно, был самым памятным?
Гамаюн помолчал, потом отрицательно мотнул головой. А потом начался рассказ, который я и воспроизвожу здесь.
– Нет, не тот день… Хорошо, расскажу о самом памятном дне, вернее – о трёх часах на войне.
Когда мы уходили из родного села один за другим на фронт, что с собой брали? Да и что возьмёшь? Фотографии, горсть земли на память о близких… Вот и вся связь с родными. Отец мой тоже воевал, хотя лет ему немало было. А фронт – это же дело такое: мало что каждую секунду убить могут, но ещё тяжёлая это работа, просто физически тяжёлая. Я молод был, о смерти как-то старался не помнить, но уставал же иногда до такой степени, что мозгам больно было об усталости думать…
И вот поэтому за отца я беспокоился сильно. Если мне тяжело, то ему-то как?! А почта – это же сплошная неизвестность. Полевая почта. По номеру ведь не узнаешь – где это. Пишешь домой, месяцами ждёшь ответа, потом напишут: у отца полевая почта номер такой-то. И опять напишешь, ждёшь ответа, а его всё нет…
Тогда я решил к устной почте обратиться. Подумал: фамилия у нас не такая уж распространённая. Если кто-то с отцом встречался, не может быть, чтоб не запомнил. И начал я всех расспрашивать. Где бы ни стояли, где бы ни ехали, всех спрашивал: плотный такой, седой, коренастый – не видели? А фамилия его Гамаюн, Сергеем зовут, не встречали?..
Мне говорили, даже подсмеивались иногда:
– Ты что, лейтенант, соображаешь, в какой лавине ты сейчас свой камешек найти хочешь? Здесь и сейчас схлестнулись миллионы людей, мил-ли-о-ны! И закружились в такой смертной круговерти, а ты на что-то надеешься…
– Надеюсь, – отвечал. – Надеюсь потому, что бывает ведь, случается. Везёт же иногда людям, сам читал в газетах.
– Ну-у! Сказал! В газетах! Там для примера могут так расписать!
Вот так. Я надеялся. И не могли мне помешать те, кто сомневался, – так я верил в удачу.
Как-то раз я по привычке спросил одного солдата, на попутной ехали мы вместе. Спросил я его, наверно, десятым или двадцатым в тот день. Спросил, а он говорит:
– Есть у нас такой. Гамаюн. Точно.
– Где это – «у вас»?! – кричу.
– А отсель вёрст с тридцать будет, рукой подать.
И началась моя гонка. Сначала – к начальству: отпустите на несколько часов всего, дело такое! Ну, отпустили. Потом ловил попутку, потом к тамошнему коменданту заявился, руки трясутся, говорить не могу:
– По непроверенным данным, отец мой где-то здесь, у вас служит, Сергей Гамаюн…
– Есть такой, – говорит. – Сейчас мы тебе, лейтенант, встречу сорганизуем.
Организовывать там умели. Полная комната народу набилась, военный корреспондент с фотоаппаратом появился, а отца всё нет. Потом дверь открылась, вошёл. И растерялся – слишком много народу.
– Рядовой Гамаюн по вашему приказанию прибыл!
– Садитесь, – комендант говорит.
Сел он, на всех смотрит, по мне взглядом пробежал, а не узнал ведь!
– Не узнаёте этого лейтенанта? – снова комендант говорит.
Посмотрел отец и заплакал. Так ведь и как не заплачешь! В тот момент мало кто удержался…
Вот так… Три часа целых мы вместе провели. Всего три часа… А дальше что – пошли воевать каждый по своей дороге. И так получилось, что довоевали оба, оба вернулись домой…
И ещё один разговор. С бывшим гвардии лейтенантом мы говорили долго. Ушёл день, тихо светились сумерки, а мы говорили и говорили. Разговор шёл о человеке в большой войне и о войне, которую человек носит в себе десятки лет. О жестокой работе на фронте, о друзьях, которые не придут в День Победы к Вечному огню, потому что они сами стали тем Вечным огнём, сгорев в пламени войны…Из этого разговора я приведу лишь один эпизод, маленький штрих к военным будням, к страшной обыденности, в которую попадает человек на войне.
– Город весь горел. Из-за каждого угла стреляют, самый типичный уличный бой со всеми его неожиданностями. Нам нужно было продвигаться вперёд, а за углом, в окне богатого особняка, – пулемёт. Прижал он нас к стене какой-то разрушенной, солдаты на меня поглядывают, а мне в последние дни войны (а это ясно было уже всем) вовсе не хотелось нести лишние потери… Потом решили так: два солдата со мной должны сделать бросок через простреливаемое пространство, а дальше – по обстановке. Побежали мы. Расстояние вроде и небольшое, но пулемёт же сверху! И он своё дело знает: бьёт по нам. Тут уже вопрос везения и скорости, с какой нам перебежать было надо. Кроме того, одну вещь учесть было просто невозможно. Почувствовали это на себе, когда пошли в этот бросок. Дело в том, что улицы там были мощёные, так что все пули, которые мимо нас проскочили, били по камням мостовой и хаотически рикошетили, так что вместо двух очередей, которые пулемётчик успел дать, фактически получились четыре! А ещё… не смейтесь, но когда пули от камня отскакивали, то такое страшное… мяукание у них было!
Но мы до мёртвой зоны добежали благополучно. Обхлопались – ни царапинки. На первом этаже этого дома магазин находился, витрина разбита уже, конечно, вокруг стёкла, всё разбито. Трупы фашистов валяются. Отдышались, огляделись. Солдат мне говорит:
– Ну, что, товарищ лейтенант, пошли? Только вы бы каску надели, а то, не дай бог, зацепит…
– Осталась каска там, у нас, – отвечаю.
– А вы вот эту, – он сорвал каску с убитого немца, протянул:
– Надевайте, надевайте, пуля шутить не любит.
С пулемётчиком мы быстро управились. Швырнули в комнату гранату, потом несколько очередей и всё. Решили на всякий случай осмотреть дом. Наверху – как будто больше никого. И вдруг вижу дверь. Попробовала – заперта. Бью ногой, дверь распахивается и прямо передо мной – фигура, человек с автоматом. Ну, тут уже инстинкт сработал, всё-таки вся война уже за плечами. Я – очередь! И в тот же момент стало понятно, что это – зеркало!
Потом, уже в магазине, внизу, смотрюсь в другое зеркало: страшное зрелище. Брюки ватные были на мне, все они изодраны камнями и осколками, кругом вата клочьями лезет, каска немецкая на голове, лицо чёрное… А тут же, в магазине, шубки висят, платья вечерние… Так мне обидно стало, прямо кричать захотелось: вот до чего вы меня довели, гады, дамочкам своим наряды приготовили, а меня солдатом сделали!
И – из автомата по всем этим платьям, шубкам дорогого меха! Только клочки полетели!
Солдаты – ко мне: что случилось, товарищ лейтенант? И так хотелось напомнить им, что я, кроме того, что я гвардии лейтенант, ещё и женщина, и мне всего двадцать лет… Да только ничего я не сказала. Пошли мы дальше в атаку.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































