Текст книги "Рассказы о Великой Отечественной"
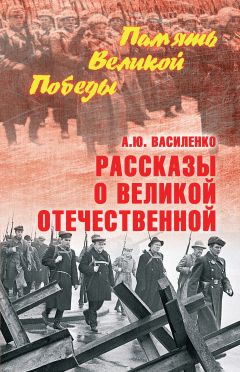
Автор книги: Алексей Василенко
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 32 страниц)
Смешной случай
Виктор Афанасьевич Мещеряков
…В рассказе Виктора Афанасьевича много было очень интересного. У него немало боевых наград, орденов, в том числе и довольно редкий для лётчика – орден Александра Невского. Так что рассказать ему было о чём. Только мне хочется привести здесь тот отрывок из его рассказа, который у самого рассказчика вызвал немного наигранный смех: так и чудилось, что хочется старому лётчику выглядеть эдаким рубакой, да что-то не очень это получалось у него…
– Чего человек стоил, определяли тогда просто: число боевых вылетов и число сбитых машин противника. Ну, хвастать мне документы не дадут, а в общем я выглядел с этой точки зрения неплохо. Правда, тогда, о каком времени рассказываю, счёт, конечно, был небольшой. А был это 1943 год. Я ведь на фронт только в 1942 году попал, в начале, до этого держали в лётной школе – готовить кадры было тогда важнее боёв на фронте. Потом упросил-таки. И в сорок третьем я всего год с небольшим воевал. Хотя можно сказать и «уже год воевал». Тогда шли бои за Северский Донец. Трудное время было, вылеты один за другим… Ну, чтоб сказать, мне, в общем, везло; сбивать – сбивал не хуже других, сам отделывался лёгкими ранениями, тяжёлое только одно за всю войну было. Но вот, чтоб не соврать, смерти я не видел. Нет, товарищей погибших мы хоронили и пропеллер втыкали. Только в большинстве случаев похороны эти были символические, потому что хоронить было нечего… Да и сейчас я не об этом, я о смерти врагов говорю. Тут ведь какое дело: пехотинец – он в атаку идёт штыковую, и он своими руками врага убивает. А у нас же – машина. Скорость. Атакуешь, открываешь огонь, попадаешь, видишь метрах в пятидесяти или взрыв, или дымный хвост, «проваливается» тот самолёт, но ты не связываешь это с человеческой жизнью, конкретной смертью, что ли… А вот тогда пришлось впервые…
Случай, конечно, как анекдот, потому что уж очень мне повезло. Заваруха только-только начиналась в небе. Вдруг слышу в наушниках голос своего ведомого: «Витя, “мессер” сзади!» А сзади – это гибель. Как я мог его проморгать – это уж никогда не пойму, как не пойму – не выяснял потом, – почему ведомый оплошал. Ведь именно он должен был прикрывать меня. А не выяснял я это всё, потому что помнил: и на старуху бывает проруха. Короче, вышел немец на меня, да только и он промазал, не сбил с первого захода. Смотрю – он уже почти крыло в крыло параллельным курсом меня обходит, чуть ли не касается, и я его вижу, вижу до мельчайших деталей его лицо и его нахальную ухмылку. И ещё, гад, что делает: показывает два пальца мне, а потом на секунду руки на груди скрещивает и глаза закрывает. Переводчика тут не надо было. Этот Ганс говорил мне, что, мол, готовься, я тебя на втором заходе заделаю покойником.
Ну, от такого нахальства я оторопел даже. Ведь к этому времени мы уже, так сказать, переигрывали их в воздухе, а тут наглец такой попался! Скорость он развил чуть больше моей, и уже стал потихоньку обходить. Но он забыл, или не знал, или не учёл, что на наших машинах, были у нас тогда на вооружении Ла-5, отличные машины, – так вот на них был ещё и педальный руль поворота. Я его повернул чуть-чуть вправо и стал выходить на него уже сбоку. Тут много всяких лётных вещей, это знать надо, чтобы понять. Мне надо было только в горизонтальной плоскости чуть повернуть, иначе «провалился» бы.
И вот тут он понял, чем это ему грозит. Бросил фашист управление, лицо закрыл… Закричал, наверно, потому что рот был открыт. И руки – скрещённые, как несколько секунд назад. Сам себе, значит, «капут» показывал чуть раньше… Ну… я и нажал на гашетку, и дал очередь из пулемёта.
…Этого нахалюгу с искажённым лицом я потом очень часто видел во сне. Как закрою глаза – вижу его. Других-то, которых сбивал, видел не так отчётливо, ну, сбил и сбил. А этого…
Да и ещё позже, дома, как-то ночью я упал с кровати. Представляете, смешно-то как? Столько лет спустя! Увидел снова немца во сне. Не разобрался что и где, вскочил и – упал… Года два назад это было.
Смешно, ей-богу…
На чём снаряды носят?
Мария Алексеевна Прошкуратова
– Когда война началась, жили мы на Украине, в Краматорске. Отец у меня был человеком известным в городе – коммунист с большим стажем, руководящий работник. И вот, когда немцы подошли вплотную, назначили его руководить партизанскими отрядами, если территория будет оккупирована. Не знаю уж, кому, в какую светлую голову пришла такая мысль, ведь отца в городе знал каждый! Такое, наверно, только у нас в стране возможно. Хоть бы в другой город отправили с тем же заданием!
В общем, когда фронт приблизился, завод уже был эвакуирован, а отец остался. Вместе с ним, конечно, и мы – мама и я с сестрой. Когда немцы пришли, они быстро провели операцию по «выявлению» возможных партизан, коммунистов и комсомольцев. Отца взяли прямо на улице.
– Кто-то выдал?
– Да вы знаете, я думаю, что особого предательства и не было. Слишком он был до войны на виду. Поэтому любой полицай, из тех, кто пошёл на службу к немцам, мог просто указать пальцем на него. Я даже думаю, что если бы узнали о его задании, то он пожил бы ещё какое-то время, за ним бы последили… А так – схватили, увели и расстреляли. Сразу…
Сестра у меня училась в десятом классе, была секретарём комсомольской организации. Её тоже забрали в гестапо. Тоже…
Остались мы с мамой. Почему сразу не забрали – не знаю, видно, всё же хотели установить связи, но то, что нас ожидала такая же участь, – не сомневаюсь. А насчёт отца – какое там предательство?! Предали отца наши, его же товарищи, когда оставили его на верную смерть.
Нас с мамой спасла переменчивая военная судьба. Немецкий порядок уже налаживался, когда они засуетились, как тараканы. Потихоньку люди шептались о том, что наши подходят. Действительно, наши подошли. Но не с востока, как мы ожидали, а с запада. Громыхало долго, всё ближе и ближе. Наши вошли в город с боем, немцы буквально драпали. Оказалось, что это 110-й стрелковый полк отступал позже других, дрался отчаянно, потом он стал гвардейским. Его немцы хотели взять в клещи, отрезать, но полк ударил по Краматорску и вышел из намечавшегося окружения. Маленькая передышка у них вышла, если не считать, что десять дней полк отбивал атаки на окраины города. Это уже потом я слышала, что командир полка сам себе срок установил – девять дней он ждал подкрепления, но, когда подкрепление не подошло, ему пришлось отступать дальше.
Десять дней бойцы жили по домам, у нас тоже жили и, конечно, знали нашу историю, жалели нас. Поэтому, когда команда была отходить, они сразу сказали нам: «Нельзя вам оставаться, немцы на противоположном берегу реки уже, минут через сорок будут здесь. Если не хотите погибнуть, вам нужно уходить и ехать на Урал». Мама мне говорит:
– Ну, что будем делать? Даже подумать некогда.
Решили мы с ней уходить с частью, а там будет видно. Но опять неожиданный поворот судьбы: подошла группа солдат, они сказали, что несколько пушек стоят на отшибе, напрямую туда не проберёшься, нужно скрытно пройти по яру, только дороги не знаем. Кто покажет?
Мама сказала: «Я покажу». Посадили её в седло, и исчезла она. Навсегда исчезла, я даже попрощаться не успела и не подозревала, что нет больше нашей семьи, я одна на свете. Я надеялась маму увидеть…
Солдаты бегут по дороге, один подтолкнул меня:
– Что стоишь? Бегом!
И я, в чём была, побежала. За ними. За теми, кто стал теперь для меня и семьёй, и друзьями, и всем.
Забыла сказать, что дело было ночью. Темнота. Только отблески огня, да в спину стреляют… Тёмная ночь, только пули свистят по степи…
Ушли мы. Оторвались за ночь. Соединились с небольшой частью и стали готовиться к бою – немцы нас выпускать не хотели.
Вы заметили, я сказала «нас»? А дело в том, что ещё перед этим командир части сказал мне:
– Не имею я права тебя держать здесь!
А я чуть не заплакала: куда же мне деваться? Он заметил, что я ещё немного – и поплыву, и говорит:
– Ну, не могу я! Ты же гражданское лицо. Хочешь остаться – принимай присягу.
Вот так я добровольно вступила в Красную Армию. Было мне 17 лет, я не знала, как без мамы жить, где она, а ехать куда-то за Волгу, в Сибирь, одной… Уж лучше всё-таки быть со всеми вместе, тем более что успела увидеть: рядом хорошие люди. И потом ни разу не пожалела об этом.
В техникуме я успела проучиться два года. Военное дело у нас было, и на этих занятиях мы проходили всё-всё. И к концу второго курса я могла стрелять из любого стрелкового оружия – пистолета, винтовки, пулемёта. Причём не только теоретически, а практически – стреляли, особенно не жалея патронов,
Тогда мы готовились к войне. Готовились по-настоящему. Помимо стрельбы, я могла работать в противогазе, оказывать первую помощь – это, конечно, не только я, а все студенты к концу второго курса. Потому когда я приняла присягу и получила винтовку, я могла в первом же бою участвовать, и не палить в белый свет как в копеечку, а стрелять прицельно. Это была моя месть за смерть отца и сестры. О матери я и до сих пор ничего не знаю…
Сейчас иногда смотрю на молодых, как из другого мира: мы были совсем другими. Я не хочу сравнивать – лучше или хуже, но другими. Всё было гораздо проще и чище. Одевались плохо, ели плохо, но почти поголовно занимались спортом. Чтобы девушка курила? Это можно было видеть, наверно, только в Питере, в Москве, да и то в каких-то полубогемных компаниях. Но в провинции?! Это было невозможно. Пили в десяток раз меньше, уголовщины – в сотни раз меньше. И человек «проходил, как хозяин». Нормальный человек, а не уголовник и жулик. Да, была какая-то романтика, вера во что-то хорошее. И – наивность, которая, сталкиваясь с жизнью, высекала иногда неожиданные искры.
Всё это надо знать и почувствовать, чтобы по-настоящему понять тот случай, который я сейчас расскажу. Вроде смешной случай, а как много он говорит сегодня!
Был очередной бой. В какой-то момент, я уж не помню, бежала я куда-то и попалась на глаза командиру. Остановил он меня и говорит: «Немедленно беги туда-то, передай: три снаряда к такому-то орудию». Я – под козырёк и бегу. Прибегаю туда, откуда подвозили снаряды к пушкам, а пушки большие были, снаряды – соответственно им, прибегаю, значит: так мол и так, ребята, командир приказал три снаряда… Ну и так далее. Тут один солдат вывернулся откуда-то, кричит: «На чём везти?! Лошадь убита, везти не на чем!»
Будь я постарше возрастом и званием, я бы сразу поняла, что значит невыполнение приказа в бою. Но тогда мне ни к чему, побежала к командиру: лошадь убита. Ни до того, ни после я никогда не видела командира таким, видно, очень серьёзное положение было, – покраснел он весь: «Немедленно три снаряда! Пусть тащат хоть на …ях!» Ну, в общем, слово на три буквы…
Я опять возвращаюсь к тому, какими мы были тогда. Нельзя сказать, что я росла в стерильных условиях, я ведь училась с разными ребятами, время проводили вместе… Но мата я не слышала! Я не знала ни одного матерного слова! Это сейчас девчонки чуть ли не с младших классов матерятся, а у взрослых – говорить нечего, на каждом шагу, особым шиком считают…
Ну, не знала я этого слова! Поэтому развернулась – и бегом опять. Подбегаю и говорю, приказ повторяю, как положено, дословно:
«Командир приказал: немедленно три снаряда к орудию тащите хоть на …ях!»
Надо было видеть в этот момент солдат! Один старик (хотя, впрочем, какой он там был старик – лет тридцать пять, сорок, наверно, не больше, но для меня он был старик глубокий!), так вот этот солдат глаза вытаращил, говорит:
– Контузило. Девку контузило!
Другой, помоложе:
– Да она пришлёпнутая, в голове сдвиг произошёл!
А я-то: нет, я нормальная, не контуженная, я точно передала приказ командира с чётким указанием – на чём везти им снаряды. Ошибиться я вроде бы не могла, потому что слово-то незнакомое и я, пока бежала, всё его повторяла. Чтобы не забыть.
Чем там дело кончилось, как они вышли из положения, не знаю, потому что я поручение выполнила и убежала. Но вот потом, когда бой закончился, природные дотошность и любопытство снова подтолкнули меня. Пошла, нашла тех солдат, слава богу, остались мы все трое живы-здоровы, они отдыхают, а я подхожу к ним и прошу:
– Ребята, вы хоть покажите, на чём вы тащили снаряды? Это что, – приспособление такое?
Старый посмотрел, покраснел:
– Не могу я, девочка!
Я к молодому:
– Ты-то хоть можешь?
Он хохочет:
– Нет, не могу!
– А кто может?
– Да кто тебе сказал-то? Вот у него и спроси! Это военная тайна!
И вот тут-то я расстроилась окончательно. Раз это военная тайна, а мне не говорят, это значит только одно: поскольку я была на оккупированной территории, мне не доверяют секреты военной техники! А я-то! Хотела мстить за отца, за сестру, я немцев готова была зубами загрызть, а мне не доверяют…
…Вот так и начинался мой фронтовой путь. Стрелком была, была связисткой. Степной фронт, 1-й Украинский, 2-й Украинский, 3-й Украинский… Война для меня закончилась как для всех, а служила ещё до декабря 1945 года…
«А ну-ка, девушки, а ну, красавицы!»
Ефросинья Григорьевна Дюкова
О ней писали много раз. Она награждалась правительственными наградами, которые отнюдь не щедро давались тем, кто работал в тылу. Её ставили в пример, имя её вошло в историю страны. Мы встретились с ней уже на закате её жизни, и поэтому, наверно, в её воспоминания вошли и боль, и беды тех лет. Но вот девчачий задор тех лет тоже остался в её рассказе.
– По шесть норм работали, даже по семь выполняли, бывало. А норма-то на мужиков рассчитывалась. Кто до войны мог представить, что лесорубами женщины будут работать, девчонки? Выполнение мы не считали, это начальство подсчитывало, мы ориентировались по хлебу – сколько хлеба получали. У нас ведь пайка давалась за выполненную норму… На все вопросы, если они возникали у кого-то, ответ один был: «Вы знаете, что сейчас идёт война?»
Надо, надо, надо… Ключевое слово было. Надо работать и работать, надо выполнять, выполнять и перевыполнять.
– Девчонки-то вы были молодые. А труд этот очень тяжёлый. И комаров, наверно, летом тучами.
– Ой, глаза нам выедали! А зимой – в любой мороз работать? Приходилось всяко: переходишь болото, это до колена почти вода, хорошо, если не топь… Ни на что не обращали внимания.
– И эти тяжёлые брёвна трелевали?
– Вручную трелевали. До дороги. Катили и тащили до того места, где можно было…
– Тросами тащили?
– Тросов тоже не было никаких. Я же говорю – всё было вручную. А для трелёвки лошадки и коровки были мобилизованы. И бычки. Это уже по дороге. Командовали этим хозяйством подростки, мальчики, их тоже мобилизовали на трудовой фронт. Механизмов вообще никаких не было. Подкатывали к дороге, а мальчишки уже тащили от нас…
– И сколько времени вы вот так работали?
– Когда война началась, я была мобилизована на рытьё окопов, а уже потом, когда враг нас почти захватил, до Москвы почти дошёл, меня вызвали к начальству районному… Начальник сказал: «На окопах вы отличились»… А мы, действительно, хорошо поработали на окопах. Я под Ленинградом была, когда он направился в ту сторону, чтобы захватить город. Потом уже, когда он под Москвой был, мы возле Ярославля рубежи сооружали… А они продолжают: «Сейчас новая ситуация, новая задача. Донбасс немцы заняли, угля нет, весь железнодорожный транспорт на голодном пайке. Не на чем подвозить снаряды для фронта, для передовой, технику, резервы подвозить не на чем… И целыми товарными составами гниют раненые»… Говорят они, а сами-то начальство губой дрожат, не хуже, чем у меня сейчас, когда про это вспоминаю, – нервы не позволяют, не дают говорить спокойно. И вот так же они, начальство, дрожали. Единственное топливо во многих районах были дрова, как в Гражданскую войну. И заставить работать все эти паровозы могли только дрова, наши леса.
Вот поэтому нам повестки вручили в клубе и тут же сказали: «Сейчас час времени, сбор через два часа». Каждый из нас должен был набрать бригаду на лесозаготовки. Конечно, девчонок. Парней откуда возьмёшь?
И я начала всех подруг обходить. Прихожу: «Нина, пойдём в бригаду! Всем надо мобилизоваться, и нам самим надо идти». Она и говорит: «Ой, что-то мне страшно». Я даже попятилась и обиделась на неё. Другую спрашиваю: «Вера, пойдёшь?» – «Пойду. Куда надо, туда и пойдём». Спрашиваю Нюру: «Пойдёшь? Вот как надо!» (А мы-то уж все слышали про такое положение, что вокруг происходит.) Я ей ещё говорю, что вот Нина не идёт. А работали мы тогда кто в столовой на подсобных работах, кто где, ни специальности, ничего. Естественно, хлеба мало получали, а у многих больные да старики на руках были. Я и говорю: «Хоть хлеба заработаем, нам сказали, кто норму будет выполнять, тому шестьсот граммов хлеба будут давать». Как только я ей предложила, она и говорит: «Идём! Треску бояться – в лес не ходить. Что же – там кровь проливают, а нам спокойненько тут жить-поживать?»
И подняла мне дух эта Нюра Груздева, и я пошла по другим. Паня Можаева такая была, так та сразу: «Идём, Фрося, идём». Мало говорила она. У ней отец и два брата к тому времени уже погибли, она осталась с сёстрами сама пятая да мать больная. И она такая мужественная была – меньше говорить, больше делать. И с первого же дня приказано было нам сегодня дрова заготовить, скажем, а уже к вечеру начнут подходить паровозы, чтобы прямо в паровозную топку грузить. Всю сегодняшнюю приготовленную древесину прямо в топку! Вот ведь какая была острая необходимость! Один паровоз загрузили – второй подходит… Вот так мы начали…
– И вот так – четыре года? Больше?
– Больше. Ведь когда война закончилась, разруха была, всё приходилось восстанавливать. И лес – ой как нужен был во всех видах. Но дело не только в том – во время войны или после. Потом мы уже профессиональными лесорубами стали, все их болезни себе заработали, но и в древесине разбираться стали. Если вначале был дровяной поток, то потом, когда ещё только завернули врага от Москвы, нам был приказ: уже не только дрова-чурки, но и другой сортамент потребовался. Немец взрывал всё, когда отступал, особенно рельсы. Надо же дорогу прокладывать? Команда была шпалу заготавливать, а то нашим нужно продвигаться, а железной дороги нет…
Несколько слов о вещах привычных, примелькавшихся, но иногда становящихся важнее важного, сверхнеобходимыми. К числу таких явлений относится, конечно же, железная дорога. У нас давно уже пропало ощущение праздника, когда мы садимся в электричку или даже в поезд дальнего следования. Хотя с исторической точки зрения не так уж и далеки эти ощущения. Во всяком случае, я сам, лично, встречался с несколькими людьми, которые впервые ехали на поезде в уже зрелом возрасте, и с ужасом смотрели на пыхтящее пародышащее чудище – обло, озорно… Сейчас это привычное дело: дорогой транспорт для бедных, не имеющих возможности купить автомобиль или летать самолётами «Аэрофлота» или «Эйр Америка»… И уж совсем мы не думаем о том, что пересекающие страну пути – это жизнь России, её экономика, её безопасность. Это наша с вами жизнь даже в мирное время. А уж если война…
Когда Гитлер начал войну против СССР, отдельным пунктом в плане было разрушение всех коммуникаций и в первую очередь железных дорог. Ведь если перекрыть сосуды, питающие организм, он погибает. Логика фюрера не учла лишь одного: героизма обыкновенных людей, каждого на своём месте.
С июня 1941 года по магистрали, построенной ещё в начале двадцатого века через всё северное Нечерноземье непрерывным потоком, с интервалом иногда в несколько минут неслись составы с эвакуированными заводами и фабриками, которые где-то там, в Сибири, за Уралом, буквально с колёс начинали работать для фронта. И в обратную сторону, на запад тоже потоком шли эшелоны с танками, орудиями, хлебом, так необходимыми, чтобы… не победить, а пока хотя бы остановить врага. И повсюду вдоль железных дорог были расположены склады продовольственные и боеприпасов, непрерывно шла погрузка эшелонов. И повсюду так же, как бригада Фроси Дюковой, работали тысячи и тысячи женских бригад…
– В общем, в зависимости от ситуации менялись и задания. После шпал добывали мы в лесу ружейную болванку, то, из чего вырезали деревянные детали оружия, потом пошёл лыжный кряж, потом, когда освободили шахты, – рудостойка пошла…
– Это крепёж?
– Да. Стойка – одного размера, поперечник – другого. И всё немедленно, немедленно, немедленно! Шахты восстанавливать надо.
…Когда шли с работы, пели песни военные и частушки. Особенно любили «Три танкиста, три весёлых друга, экипаж машины боевой»… Короче, шли с работы гамузом: поработали хорошо, а споём ещё лучше.
Нюра была у нас запевала, Нюра Груздева. Она, Паня Можаева – все награждённые были у меня в бригаде орденами и медалями, бригада-то была знаменитая. Тогда похоронок много получали. Споём – и горе… ну, не забудем, нет, но всё же как-то приглушалось оно.
«Мы деляночки работаем, вокруг зелёный лес, по-стахановски работать никогда не надоест!» А потом они, девушки наши, переменили слова, стали петь: «Для победы нам работать никогда не надоест!»
Я нередко сталкивался в работе с людьми, которые очень бойко и складно начинали рассказывать о действиях частей, в которых они служили. Всё в этих рассказах было правильно, не было только человека… Я понимал: участники войны ведут большую работу, часто встречаются с молодёжью, так невозможно же каждый раз душу выворачивать наизнанку, нужен какой-то щадящий, компромиссный вариант. И человек «нарабатывает» какой-то текст, который и против правды не грешит, но и сердце не очень-то задевает. Своеобразный метод самосохранения…
Может быть, это и жестоко в какой-то степени, но меня не устраивали никогда эти дежурные доклады. Всем, кто только прикасался к теме войны, я не уставал повторять: расспрашивайте, расспрашивайте, если хотите донести Память до будущих поколений, если хотите донести Правду (ну, не всю, конечно, всю правду о войне не сможет рассказать никто и никогда), хотя бы небольшую частичку этой большой Правды.
Фронтовые медсёстры знали хорошо: рану надо тревожить, чтобы она зажила побыстрее. И их «жестокость», с которой отдирали они порой присохшие повязки, была на деле проявлением высшей гуманности. Вот и с памятью так же: разбередишь – и живёт она дольше…
При встречах я всегда старался отсечь «парадные» воспоминания. Только не подумайте, что я пытаюсь этим бравировать или, тем паче, выдаю это за собственное достижение. Да нет же. Просто я хочу этим сказать, что всегда стремился следовать примеру Константина Симонова и других прекрасных писателей и журналистов (а их немало!), которые сумели в своей работе достичь золотой середины: не скатились к фанфарам и барабанному бою, но и не ударились в натурализм. Кстати, за последнее время эта вторая струя крепчает. Уже подробно описывается смердение трупов, брошенных на поле боя, валяющиеся оторванные конечности, «медвежья болезнь» от страха и тому подобные реалии. Беру на себя смелость утверждать, что все такие детали (а они правдивы, с этим не поспоришь!) вводятся писателями в повествование лишь для того, чтобы пощекотать нервы не видавшего войны и отпустившего брюшко в кресле перед телевизором читателя. Подобные строки граничат с извращённостью, потому что народная этика, народная врождённая интеллигентность запрещают описывать ужасы войны. Я слышал рассказы сотен людей, и ни один из них, понимаете, ни один не опустился до натурализма. А ведь все они видели немало такого, что не придумать самому изощрённому уму.
Есть, впрочем, исключение. Рассказы ветеранов становятся предельно детализированными, дотошно подробными, когда речь идёт о зверствах фашистов. Но здесь всё понятно: каждый такой рассказ – это ведь не просто воспоминание, а свидетельское показание на судебном процессе, который будет длиться вечно даже после вынесения приговора.
А обычно после долгих расспросов и разъяснений, – что же всё-таки тебе от человека нужно, после такой подготовки детали всё же появлялись, но бытового характера. На вопрос, что больше всего запоминается в отбитом у врага городе, – кто-то отвечает: хруст битого стекла под ногами, который преследует тебя всюду. Другой неожиданно вспоминает, как однажды поскользнулся он на конском навозе и упал, а в этот момент мина взорвалась в двух шагах, и как готов он был потом целовать раздавленные котяхи…
И уж только потом – о виселицах и о запахе горелого мяса из наглухо заколоченных, подожжённых фашистами домов…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































