Текст книги "Рассказы о Великой Отечественной"
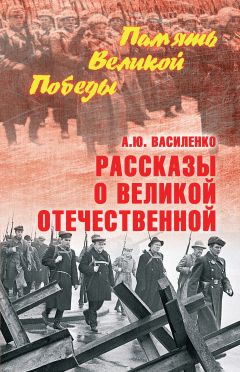
Автор книги: Алексей Василенко
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 32 страниц)
Был и такой случай
Николай Васильевич Егоров
– Было это в местечке одном, это, значит, возле Ростова, но по сталинградскому направлению. Тогда там была большая военная неразбериха – то мы их, то они нас… Короче говоря, на тот момент противник исхитрился, и мы оказались в окружении. А мы – это штаб бригады. И они наступают на нас, зажимают, ещё чуть-чуть – и прихлопнут. В общем, оказались мы примерно в таком положении, как Василий Иванович Чапаев со своим штабом. Помните фильм? Вот именно такой получился случай. Ну, речь шла, конечно, не только о штабе. Весь корпус наш в незавидном положении оказался и начал откатываться в соседние деревни.
Тут-то я спокойненько всё рассказываю, будто карту рассматриваю, а тогда мурашки по коже и давай бог ноги, потому что противник был виден невооружённым, как говорится, глазом, и обстрел сильнейший, и, собственно говоря, обороняться-то нечем: при штабе народу-то немного, с несколькими автоматами и винтовками против танков не попрёшь…
Побросали всё имущество штаба в машины, напоследок мне велели проверить – всё ли забрали. И пока я пошёл, пока посмотрел… Короче, их и след простыл. Оставили меня, забыли. Вообще-то я парень шустрый был, речь о нескольких минутах шла, но не дотерпели наши и этих несколько минут… А чего? На любой вопрос был бы один ответ: а что ты там замешкался? Сам виноват.
А грохот-то нарастает. Ой, ребята, думаю, берите ноги в руки. Уходить надо. А как уходить, когда они уже к деревне вплотную подошли? Я метнулся на другой край. А там были овражки такие. И как раз в нужном направлении вели. Вот я по ним и дал дёру. Уже далеко за деревней высунулся – оглядеться. Смотрю – дорога. На дороге наша машина легковая, других машин нет. Шофёр знакомый. Подбежал я к нему:
– Ты чего тут стоишь? Деревню уже заняли!
Смотрю – он плачет.
– Что с тобой?
– Радиатор пробило осколком. А в машине – вся штабная документация. Что делать? Сжечь, что ли?
Ну, думаю, ничего себе – сжечь! Целую машину карт, сводок и всё в этом роде так просто не сожжёшь. Час будет гореть, и то многое в целости останется, тут ворошить надо. Чтоб горело. А как это делать, когда деревня-то рядом, дым сразу внимание привлечёт… Нет, думаю, надо удирать с машиной.
Ближайшие несколько минут на дороге можно было видеть двух сумасшедших, которые бегали вокруг машины и непрерывно жевали. А это мы искали глину и жевали хлеб пайковый, чтобы дырку в радиаторе залепить. Ну, залепили. Потом по всем окрестным лужам с кружками носились, воду собирали и заливали радиатор. Ну, и, конечно, всё это с оглядкой на деревню. Но там почему-то не спешили двигаться дальше. И мы завелись-таки и поехали. Поехали в направлении той самой деревни, куда отошли наши командиры, наш штаб.
Едем. Вдоль дороги убитые лежат. Смотрю: двое убитых приподнялись, машут руками. Лица знакомые. Оказались из роты обеспечения и взвода автоматчиков. Оба ранения получили, идти не могут.
Что желать? Оставлять их нельзя. В машине – гора, места нет. Стал перекладывать это всё, вижу – что-то лишнее.
– Это что за вещи? – спрашиваю водителя.
– А это имущество начальника штаба…
Ну, тут я что делаю: выбрасываю из машины хозяйство начальника штаба, сажаю раненых, сам – на подножку стал, на крыло опёрся и – вперёд!
Подъезжаем в потёмках уже, точнее – в сумерках. По машине наши стрелять начали, я ору: «Свои!»
Хорошо, тут политрук штаба, замначальника по политчасти, так официально называется, Дмитров была его фамилия, слава богу, разглядел, наконец:
– Да это же наша машина! А кто там… Егоров, ты, что ли?
– Я! Я! – кричу вовсю.
Короче, подъехали мы, я всё рассказал. Начальник штаба, фамилию его сейчас забыл, за все вещи свои на меня косо смотрел, но обошлось. Понял он, что по-другому было нельзя. А самое главное – документы сохранились все до единого.
Уже много времени прошло, я домой вернулся, нашёл меня орден Красной Звезды за тот случай. За спасение людей, документов и машины.
Вот и всё.
Вообще-то ещё вот о чём хочу рассказать. Где бы я ни был, никогда не забывал, что я человек не военный, а человек мирный, с мирной профессии ушёл и в мирную профессию вернулся обратно. И даже на фронте не забывал никогда своих увлечений. До войны я занимался рисованием, живописью, любил стихи, сам писал их немножко. И вот на фронте рисовал я всех своих товарищей. На чём попало, в любой обстановке…
Николай Васильевич достал эти рисунки, вернее, те немногие рисунки, которые у него сохранились в передрягах войны. Карандаш, иногда акварель. Сидит солдат, задумался. И котелок в руках, и поесть бы ему сейчас, но взгляд уходит куда-то далеко-далеко. В прошлое? К родным? Ещё картинка: акварель. Сумрачный лес, тёмное пятно в центре. Сразу и не поймёшь, что это, только потом угадываешь землянку, дзот. А вот сидят солдаты у костра. Смеются. У одного на прутик насажен гриб, он его пытается жарить на огне. Рисунок назван «После разведки». А на этом рисунке – совсем другое время, другие люди – обнимаются, встретившись, ветераны. Ордена, улыбки, седины, слёзы…
– Я ребятам часто и стихи читал. Слушали, не шелохнувшись. А вот это стихотворение недавно написано. Понимаю, что далеко до совершенства, зато – то, что думаю, чувствую…
Война. Всего четыре года.
Четыре года, кажется, – пустяк,
Смениться не успеет мода,
По норме – на пять лет пиджак.
Но почему, скажите, братцы,
Прошли года, а всё равно
Мне трудно в этом разобраться:
Вчера всё было иль давно?
Да, не забыть четыре эти
Из всех прожитых нами лет,
Что вынесли меня из смерти,
А много миллионов – нет.
Да, кто такое позабудет,
Кому четыре те – пустяк,
Пусть он послушает, как будет
Звенеть медалями пиджак,
Как, возмущённые беспечьем,
Медали вдруг заговорят
О нас, отмеченных увечьем,
О тех, кто в бронзе вечно спят…
Медали – это не утеха,
Медали – это жизнь для тех,
Кто под огнём не шёл из цеха
И кто в боях горел за всех.
Седыми стали ветераны,
Прошли немалые года,
И меньше уж болят их раны,
Но не забудут никогда
Они четыре грозных года,
Сменивших на шинель пиджак…
Такая на войне уж мода.
Четыре года – не пустяк!
Друг – баян
Евгений Яковлевич Русанов
Заочно Евгения Яковлевича знали очень многие люди, имевшие хоть какое-то отношение к музыке – пусть даже в качестве просто слушателей. Они видели его на расстоянии, на сцене – в качестве дирижёра, хормейстера, слушали его музыку и сами пели песни, им написанные… Многие гордились знакомством с ним, так сказать, личным: это многочисленные ученики Русанова, это участники доброго десятка созданных и руководимых им музыкальных коллективов. Я в число этих людей не входил, но несколько лет назад я переступил грань от заочной стадии знакомства к очной. Произошло это тогда, когда я узнал, что Русанов был участником Великой Отечественной войны. Был на Калининском и Южном фронтах, участвовал в Курско-Орловской битве.
Встретиться мы договорились в определённый час в филармонии, но педантичный Евгений Яковлевич предпочёл прийти раньше и, когда я появился, сидел у фортепьяно и потихоньку перебирал клавиши. Звучала знаменитая «Тёмная ночь» из фильма «Два бойца». Он доиграл. Помолчали…
– Прекрасная мелодия… Евгений Яковлевич, достаточно широко известна поддержка артистическими силами страны фронтовиков. Поддержка в госпиталях, в ближнем от фронтов тылу и даже прямо в окопах передовой линии. Вели съёмки фронтовые кинооператоры, приезжали журналисты, регулярно приезжали артистические фронтовые бригады. Порой перед бойцами выступали довольно большие творческие коллективы. Но всё это тогда, когда командование могло хоть в какой-то мере обезопасить артистов, особенно всесоюзно известных. А вот непосредственно в окопах на переднем крае, в блиндажах, было ли место для песни?
– А я напомню вам другую песню из того же кинофильма «Два бойца» – «Шаланды, полные кефали»… Помните, когда герой Марка Бернеса пел эту песню? В блиндаже, после тяжёлого боя, когда солдаты приходили в себя, когда раненые лежат тут же… Это всё – правда. Песня – это, пожалуй, одна из самых главных черт фронтового быта. Пели все – умеют или не умеют, изобретали какие-то немыслимые инструменты из консервных банок и дощечек, а если был инструмент настоящий, – так это же пир души!
Я тогда никакого музыкального образования не имел, но умел играть на балалайке с детства – старший брат научил. Это ещё задолго до войны было. Потом постепенно осваивал другие инструменты.
На фортепьяно учился после сеансов в кинотеатре. Тогда, в эпоху немого кино, сеансы шли под музыку, играл тапёр, и он разрешал мне, малышу ещё, подходить к пианино, трогать клавиши, а потом – и подбирать мелодии…
Короче, привязан я был к музыке страшно. И был у меня друг – баян. Пели под него часто и много. Особенно любили песню «Моя любимая» и потом эту – «Тёмная ночь». Я всё время ходил по землянкам с баяном, играл, и всё время мы там пели вместе. Особенно я любил бывать у разведчиков. Это народ был особенный. При всей их ловкости и силе, бесшабашности и отчаянной смелости, смешливости и проказливости были они, как ни странно, людьми добрыми и немного сентиментальными. Пели всегда с душой, любили это дело.
Однажды шёл я как раз к ним и начался миномётный обстрел. Осколки вокруг порхали, как бабочки на лугу, только смертельно опасные бабочки… Один из этих осколков, явно предназначавшийся мне, принял на себя мой друг – баян. Когда всё затихло, осмотрел я его, меха пробиты, почти потерял он голос. Дошёл до разведчиков, рассказал им, а у самого-то настроение испортилось, приуныл я что-то. Не состоялся на этот раз у нас песенный вечер. Да и разведчики озабочены были, всё переглядывались да шушукались. Мне и ни к чему, а как-то через несколько дней просто так, по дружбе, зашёл я к ним снова. И вот тут мне был сюрприз, царский подарок: вручили они мне новый баян! Оказывается, накануне они в очередной раз ходили в немецкий тыл и где-то, то ли в брошенном доме, то ли немца какого придавили, но разжились этим баяном и принесли.
– Так через линию фронта и тащили?
– Да. Представляете, какой дорогой это был подарок?
– Вы за свою творческую жизнь создали много музыкальных коллективов и руководили ими. А фронтовые песни были в их репертуаре?
– Конечно. Но коронный номер был «Моя любимая»…
Я попросил Евгения Яковлевича сыграть эту песню, которую с детства знаю и люблю.
И мы её спели вместе. От всей души!
Я уходил тогда в поход,
В далёкие края.
Платком взмахнула у ворот
Моя любимая…
Чапаевцы
Ваган Ваграмович Аганджанян
Встреча с этим человеком была очень давно, ещё в 1974 году. Тогда мне, как и многим людям, хотя бы раз в жизни вдруг нестерпимо захотелось побывать там, где прошло их самое малое детство. У меня оно было в грузинском городе Ахалцихе, городе русской военной славы. Вот там-то и тогда я познакомился с Ваганом Ваграмовичем, бывшим командиром партизанского отряда «Чапаев», одного из самых известных в Белоруссии. Тогда он только что закончил работу над книгой воспоминаний. Это потом она будет издана в Минске, это потом ей будет сопутствовать успех, это потом она, с дарственной надписью автора, займет почётное место в моей библиотеке. А тогда рукопись ещё лежала на столе и, казалось, дымилась и пахла порохом…
– Я в Белоруссии ещё в тридцать девятом году оказался. Был я тогда студентом, пришло время – и призвали меня в армию, послали на западную границу. И вот началась война. В первые дни многие подразделения рассеялись и пробирались на восток, к своим. Это если боевая единица солидная, хорошо вооружённая, тогда могли идти с боями, а большинство… Мелкими группами просачивались, старались догнать. Мы тогда не знали, что фронт от нас уходит всё дальше и дальше. Мы с другом Фёдором Чебекиным всё прошли: и в лесах блуждали, и одиночные нападения совершали, и голод испытали страшный – не приведи узнать кому-то… Только то ели, что лес давал. Боялись костёр разжечь, боялись обнаружить себя… Потом встретились ещё с одной такой микрогруппой. Решили жить активнее. В одном селе разгромили полицейский гарнизон. А потом влились в отряд, собравшийся вокруг заброшенных в тыл десантников…
Должностей много у меня было в партизанах. Только у всех у нас одна главная должность была – народного мстителя.
Партизанщина… Сейчас это слово… ну. отрицательное, что ли. А я так воспринимаю: партизанщина – это не отсутствие дисциплины, она у нас была, и ещё какая! Только если враги вокруг тебя, со всех сторон, если оружие тебе нужно добыть самому, если бой – не бой, а сеанс одновременной игры на нескольких досках, если ты на ходу выдумываешь никогда и никем не виданные тактику и стратегию и при этом побеждаешь сытого, оснащённого противника, который и числом тебя превосходит в несколько раз, – вот это настоящая партизанщина!
Я вот пару случаев расскажу, чтобы понятнее было.
Первый случай – пример, как надо уметь соображать быстро. 26 сентября 1942 года это было. Группой мы пошли на диверсию на железную дорогу. Восемь человек нас было, я – командир. Ну, подошли к дороге в полночь. Один подрывник, Резепов его фамилия была, взялся минировать. А на полотно всегда по двое выходили – один минирует, второй маскирует и по сторонам посматривает. Ну. пошли мы вдвоём. Резепов заминировал, я засыпал, все следы убрал, всё нормально. Шнур привязали, чтобы чеку выдернуть, когда надо. Стали спускаться. И тут обнаруживается, что Резепов забыл снять предохранительное такое устройство на мине – его для того делают, чтобы чека случайно не выскочила. Ух, я обозлился на него! Ведь мы можем всю ночь прождать, а когда эшелон пройдёт, – всё впустую кончится! «Забыл»!
Пошёл обратно я один. Осторожно раскапываю пальцами, дохожу до ударного механизма. Так и есть – предохранитель на месте. Пока я его снял, пока снова стал маскировать, один из наших ребят, из охранения, кричит: «Товарищ командир, на дороге поезд показался»! Ну, я, конечно, скатился вниз. Сам чертыхаюсь: иногда ждёшь-ждёшь – и нет его, а сейчас как назло – катит. Конечно, можно было подождать следующего, но следующий то ли будет, то ли нет, это ведь не дачный поезд по расписанию. А утром уже вся работа пропадёт, охрана заметит.
Решил взрывать. И тут вижу, что шнур мой запутался, концы перекрутились, не пойму теперь, – за какой конец тянуть надо. А эшелон всё ближе и ближе. Я кричу: «Всем отойти в лес, буду взрывать!» А сам этот шпагат никак распутать не могу, то есть отмотал всего восемь – десять метров, а дальше – никак. Ну, на таком близком расстоянии при взрыве почти верная смерть – осколки от рельсов, вагоны валятся. А делать нечего. Только бормочу про себя: «А то они подумают, что струсил. А то они подумают…» В землю будто вдавился, жду. Паровоз со мной поравнялся, ну, думаю, пора. Там берёзка росла молоденькая. Я прыгнул за неё, головой в корни ткнулся и рванул шпагат.
Всего меня засыпало, обломки рядом падали, но обошлось. А почему я про умение быстро соображать говорил? Всё это я долго рассказывал, а на деле-то всего минута прошла, не больше…
Потом уже ребята спрашивали: «Командир, чего спешил? Может, другой эшелон прошёл бы!» – «Ну да, – отвечаю, – а вы тогда меня пилили бы за то, что промокли!». А в ту ночь действительно дождик шёл – такой мелкий, нудный, бесконечный осенний дождик…
А за несколько дней до этого был у нас трудный бой. Вот уж, классический пример «партизанщины»!
Начало – самое неожиданное: мы из разведки возвращаемся, группа наша – шесть человек, а тут навстречу парнишка бежит, Грайнин его была фамилия, из партизан. Кричит, чтоб в село мы не входили, там каратели. Расспросил обстановку. Грайнин сказал, что две партизанские бригады – наша и соседняя «Звезда» – выступили против оккупантов. «Тогда, – думаю, – уже давно карателей разгромили, можно спокойно идти». Направились мы в деревню. А на окраине нас окликают тоже разведчики, но из «Звезды». Оказывается, не каратели в деревне, а сапёры, около двадцати человек, прибыли наводить мост, который мы сожгли накануне. «Ну что, – говорю, – выкурим их из Рикотки?» Это деревня так называлась. Решили действовать.
Нас тринадцать человек было, так что против двадцати – не проблема. Обошли деревню группами с двух сторон, а немцы в бой вступают, но отходят по дороге к следующей деревне. Тут бы сообразить, что она ближе к райцентру, что может подкрепление подойти, да в азарте боя об этом как-то не подумалось, ворвались мы во вторую деревню, и вот тут-то и увязли в позиционной перестрелке. А время идёт, наши бригады на опушке леса расположились, но почему-то не выходят. Мы злимся, – почему они на помощь не идут, а они, оказывается, угадали, что из райцентра сейчас нагрянут новые силы, и выжидали.
Тем временем фашисты прибыли, до двух рот. Одна рота на лес пошла, там их наши с опушки огнём встретили, даже «орудийный огонь» был – это наша партизанская пушка била. Она была у нас – ну сплошное техническое творчество: прицельных приспособлений нет, стоит на колёсах от плуга. Пушкарь у нас был Воробьёв, поэтому так и говорили: «из пушки по воробьям». Он глаз прищуривал и наводил приблизительно. Конечно, мимо садил много, но важно было психологическое действие: у партизан есть артиллерия! Но это всё было от нас в стороне, это был отдельный бой, а мы продолжали оставаться в деревне и все остальные фашисты, значит, пошли на деревню Доброе, на нас.
Девять часов мы держались. Дома деревянные, горят… Хотя нас было мало, но бой мы вели с таким азартом! Особенно помогали разные громкие, чтобы немцы слышали, команды. То «взвод, вперёд!», то «рота, развернись!»… И ругались, и кричали, столько шума было, что противники имели представление, будто против них воюет большое партизанское подразделение. И действовали против нас соответственно: целый взвод отправили вдоль речки в обход. А там нас прикрывал всего один пулемётчик! Ну, поработал он здорово – не менее половины оставили они на поле и откатились назад.
В общем, мы стали отходить только тогда, когда патронов почти не осталось. На околице уже я с пулемётом прикрыл отход, и мы скрылись. Ну тут вот что нужно отметить. Нас же было всего тринадцать человек, а их во много раз больше. Мы вели бой более девяти часов и даже наступали, а враг нёс потери. У нас же убитых не было!
И ещё – любопытная деталь. Через некоторое время к нам в руки попала газета «Новый путь», которую оккупанты издавали на русском языке. И вот как там описывался этот бой: «22 сентября 1942 года большая группа бандитов с целью ограбления населения напала на Доброе. Солдаты доблестной германской армии выступили на защиту мирных граждан. Уничтожено пятьсот бандитов, сто взяты в плен и только десятерым удалось скрыться в лесу».
Вот так. И вот про такие бои говорят порой «партизанщина»!
Перелом
Увидеть Сталинград во сне
Даниил Егорович Кривцунов
– …Мы истребителями танков были. Полк резерва Главного командования. Ну, и сами понимаете: где припекало, туда нас и совали. Причём, бывало даже так, что мы в одном месте ещё задачу до конца не выполнили, а уж приказ – в другое место перебрасывают. Начальство – оно как рассуждало: здесь потрепали немцев, они не скоро очухаются, можно «дырку» пехотой с ПТРами заткнуть, а истребителей – на опасное направление. Вот и получилось, что в Сталинграде мы везде побывали – и под Карповкой, и в Верхней Ольшанке, и возле авиагородка, двадцать дней возле главной высоты – Мамаева кургана, на элеватор довелось прорываться – там батальон НКВД зажат был, и ни патронов, ни еды, ни воды не оставалось уже, когда мы всё это им подбросили…
…Вы знаете, я понимаю вашу цель. В общем-то вы правы, потому что, скажем, Сталинградская битва уже показана-перепоказана в книгах, фильмах. Там плавная такая панорама событий: идёт бой где-то, мы следим за героями в тот момент, когда это важно для писателя или для режиссёра, а когда это не так уж важно с их точки зрения, переносимся в штаб или с разведчиками в тыл врага идём. А вы хотите, чтобы я, как в памяти сохранилось – без монтажа. Это вот как камеры на дорогах или в магазинах устанавливают – всё попадает в кадр без исключения. Память, она так же работает. Ей ведь не прикажешь сохранить только то или это… Я иногда, скажем, для себя пытаюсь вспомнить какое-нибудь событие, даже если это не так давно было, не во время войны, – так иногда несущественная, вроде, чепуха в голову лезет, а главное остаётся где-то на втором плане.
– Это вы не в мой ли огород камешек бросаете, Даниил Егорович? Ведь опасность такая есть, и очень реальная, что за мелочами бытовыми, за буднями фронтовыми может отойти на второй, как вы говорите, план главное: подвиг народа, мужество советских людей.
– Да нет, я просто о свойствах памяти. И потом, знаете, это ещё как посмотреть. Иной пустяк, казалось бы, говорит иногда больше, чем красивые слова о важном.
– Так вот и я – про то же!
– Я вам сейчас на своём примере попробую объяснить.
Мы ненавидели фашистов. До войны ещё. А когда они на нас попёрли – ненависть весь народ переполняла. Но, понимаете, всё это очень абстрактно. Каждый начинал ненавидеть сам, лично, как человек, а не как частица страны, только после того, как видел своими глазами то, что вносило личное отношение. Науку ненависти каждый сам постигает.
…Мы из Харьковского котла уходили. Это трудно сейчас и представить, что значит – выйти из окружения боевой единицей: со знаменем, с дисциплиной, с техникой и вооружением. Потери, конечно, были, но мы оставались частью регулярной Красной Армии. Я не буду всё подробно передавать, потому что не об этом рассказ. Когда уходили мы, путь преградила река. Кое-как нашли паромную переправу и перебрались на тот берег. И вот тут, когда сориентировались, оказалось, что по нашему намеченному пути есть ещё одна река. Посылают меня разведать что и как. Довольно быстро выяснилось, что впереди – немцы, что если прорываться через «официальные» переправы, то потери будут большие, так как немцы, не будь дураки, все эти места уже плотно прикрыли. Что делать? Впору чертей молить, ей-богу. И тут старичок объявился такой… Ну, как вам его описать? Вылитый Никола-угодник! Божий такой одуванчик… Я – к нему: дед, а, дед, вы же не всегда крюка давали, чтобы по мосту на тот берег перейти? Должен ещё какой-то путь быть! – Он пожевал эдак губами и шамкает:
– Ешть, шынок. Броду нету, а вот гать наштелили давно уже.
Ах, золотой ты мой старик Николушка! Показал он мне место, где гать сделана. Сверху ничего не видно, будто река течёт, а под водой настил прощупывается, неглубоко. Ну, думаю, пройдём здесь. Нужно только подходы разведать. Спрашиваю старика:
– А немцы там близко есть?
– А как жа! Вешелятся и пешни поют вон тама!
Смотрю: в ночи костёр горит, метров триста от гати. Думаю, что надо посмотреть, что за немцы и сколько их там. Пошёл. Потом пополз, когда ближе подобрался. Вот так ползком я и вышел на их огонь… И здесь картина передо мною открылась… Мерзостная. Нет, никого там не убивали, никого не мучили… Просто отдыхали и веселились. Гусей они наловили, ощипали, изжарили над костром. Один на губной гармошке играл. А остальные – нет, не пьяные были вроде, – остальные в круг стали, руки на плечи положили друг другу и идут вокруг костра. Не танцуют, а просто идут. Идут они, идут… Вдруг гармошка замолкает, все останавливаются и кто-то один с натугой, громко ветры пускает…
Меня чуть не стошнило там, в кустах, а эти посмеялись и опять пошли по кругу. Это такое у них развлечение было.
Наверняка сегодня найдётся человек, который, услышав это, пожмёт плечами: ну и что, за это ребячество их ненавидеть? Но для меня это было… После этого я их уже лично ненавидеть стал. Хотите верьте, хотите – нет. Потом я всякого навидался, самого страшного, а вот тот случай забыть не могу. Будто к большой пакости прикоснулся. Нелюди они, нечисть…
…А что до Сталинграда… То я вам скажу, что там день за год можно считать было.
Столько всего, что не поверишь, как оно в двадцать четыре часа вмещалось…
1 сентября 1942 года под Ерзовкой прибыли мы на место, там высотка была такая безымянная. В общем, кратчайший путь к Волге через эти места был, и прикрывать нужно было их собственным телом. Начали копать. На войне, я вам скажу, копать иногда важнее, чем стрелять. Ах, сколько же мы копали! До кровавых мозолей… пушки зарыли мы на высотке, а трактора девать некуда. Для них тоже положено выкопать укрытие, а сил-то уже нет. Тут мне подсказывают:
– Лейтенант, впереди, перед высотой, капониры отрыты, давай загоним трактора туда!
Это против всех правил было, конечно, нельзя было этого делать, но я пошёл, посмотрел. Капониры население отрыло во время оборонительных работ. Аккуратно, добротно. Кто мог знать, что они не на месте окажутся! В общем, загнали мы туда трактора. Ещё только закончили, а гроза уже пришла – командир явился. У нас Лизюков Пётр Ильич был. Герой Советского Союза. Их три брата было, все трое – герои. И так он командир строгий был, а тут такой разнос устроил, не дай и не приведи… И про головотяпов там было, и про трибунал, и про самовольство, и про то, что ежли что случится хоть с одним трактором, то он своей собственной рукой… Что именно он сделает этой рукой – каждый фронтовик знает, слышал в острых ситуациях…
Когда он отошёл, я спросил:
– Чего это он сегодня… какой-то?..
– Брата Александра, – говорят, – у него убили под Воронежем. Генерал брат был у него. А сегодня как раз узнал…
Уехал командир, а у меня уже сил нет никаких. Залез я в такой окопчик маленький, буквой Г он сделан был, и заснул…
…Я через много лет приехал на то место. Нашёл тот окопчик. Оплыл он, края обкатанные. А куст такой же растёт, как тогда. Не тот, нет. Тот у меня на глазах срезало. Стою и плачу, как ребёнок, удержу нет никакого…
…Заснул я, и вот не помню – сон видел или нет. По художественной литературе должен бы я сон увидеть из мирной жизни, но врать не буду – не помню. Правда, как мне показалось, только заснул, а уже в плечо толкают:
– Товарищ лейтенант! Пехота идёт!
«А-а, пехота, это хорошо, – соображаю. – Они нас прикроют, хоть не такими голенькими будем».
А сам говорю, глаз не открываю:
– Ладно, пусть идёт себе, располагается. А я посплю пока.
– Да товарищ лейтенант же! Не наша пехота!! Немецкая!!!
Как – немецкая?! Я вскочил, как ошпаренный. Гляжу на степь – черно, немцы идут. И уже гул слышен – самолёты…
Четырнадцать бомбардировщиков начали утюжить нашу и соседнюю высотку, где зенитчицы были. Метров триста пятьдесят до них, а слышно было, как девчонки визжали, когда самолёт сбили. Кстати, ещё один самолёт в тот же день наш пулемётчик сбил. Дегтярёв его фамилия была, а пулемёт тоже «дегтярёв». И вот когда Ю-87 на нас бомбы сбросил и выходил из пике, Дегтярёв из своего «дегтяря» выпустил почти весь диск в брюхо «юнкерсу». Потом парня наградили орденом Красного Знамени.
А пехота – она же не просто пехота. Она при поддержке танков. С воздуха нас молотят, танки бьют… Перезарядили мы картечью, страшная картина – дадим залп, и в степи словно дорога пролегла…
Пять атак мы отбили, двадцать танков мы сожгли. После какой-то атаки, кажется, четвёртой, звонит первый, командир то есть.
– Держись, Кривцунов! За боем наблюдают Казаков и Рокоссовский.
После пятой атаки немцы поняли, что здесь им не пройти. Стали мы считать потери. Надо сказать, что не очень много погибло у нас. А вот зенитчицы почти все… Одна только осталась в живых, но руку ей оторвало. Машей её звали…
Не успели мы там отбиться – приказ: через весь город отправиться на южную окраину, на этот раз там танки пробивают нашу оборону. И вот там, в районе Верхней Ольшанки… или Ельшанки, не помню уже, мы даже развернуть батарею не успели, как попали в окружение. Только не думайте, что окружение было такое, как обычно представляют. Мы вляпались в самую гущу, буквально метрах в двадцати пяти от нас были немцы. Но весь город горел, развалины кругом, дым, – короче, успели попятиться, стать в укрытие. Позиция хорошая оказалась, вот мы и дали им прикурить! Везло же, честное слово! Они огнём пытались нас выковырнуть, да не очень получалось. А потом то ли по наводке с земли, то ли по собственной инициативе стали на нас самолёты пикировать. Вот тогда-то и был тот случай с Дегтярёвым и его «дегтярёвым». Это он как бы точку поставил этому удачному дню. Ну, не все, конечно, дни были такие… А ведь всего их было двести!
Кстати, в тот же день через некоторое время был и такой случай. Мы с командиром вместе километров за сорок мчались на «виллисе». «Виллисы» тогда редкостью были, их всего-то несколько штук получили, и один Лизюкову достался. А дело было в том, что поступили сведения, будто гудериановская колонна движется в том направлении. Выехали мы в голую степь и видим вдруг рассейское чудо: посреди степи – до горизонта никого, небо чистое – сидит прямо на обочине дороги… морячок! Капитально так сидит: бушлат постелил, ножом из консервной банки тушёнку выковыривает и из фляги запивает. Он даже бровью не повёл, когда мы остановились. Спрашиваем, есть ли кто впереди. Он задумчиво так посмотрел на нас:
– Обретается там какая-то сухопутная публика.
Лизюков махнул рукой:
– Ну, тогда вперёд, на публику!
Проехали мы совсем недолго и вдруг видим – навстречу машина. Когда между нами оставалось метров тридцать, мы только поняли – немцы. Остановились и они, и мы.
У нас только пистолеты, а у тех – автоматы. Замерли мы, резких движений нельзя делать. К этому моменту мы уже сообразили, что столкнулись с гудериановской танковой разведкой, которая, как и мы, прощупывала, – что впереди.
Лизюков не шевельнулся, одними губами приказал:
– Пётр, задний.
И Петя наш дал задний ход да так резво, что когда немцы спохватились и стали стрелять по скатам, мы были уже метрах в пятидесяти. Немцам бы повыше стрелять – и нам бы не уйти. Но они хотели взять нас живыми и всё целили по шинам, а расстояние меняется, попасть трудно. Короче говоря, развернулись и драпанули мы от них на американской технике, а те за нами вдогонку. Вдруг видим, они резко затормозили, и назад. В чём дело? Оглянулись, а там наши какие-то приближаются…
Вот сколько может произойти в течение одного дня. Да, забыл. В тот день мы и с гудериановской хитростью столкнулись. Шла на нас лавина танков, но когда мы открыли огонь, то заметили, что некоторые танки очень странно горят. Оказывается, фанерные они были, это своеобразная психическая атака.
…Рассказывать всё просто невозможно, но ещё один случай всё-таки вспомнился.
Под Карповкой это было. Послали меня в разведку. Обстановка сложная была и нужно было выяснить, кто же в Карповке, наши или немцы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































