Текст книги "Рассказы о Великой Отечественной"
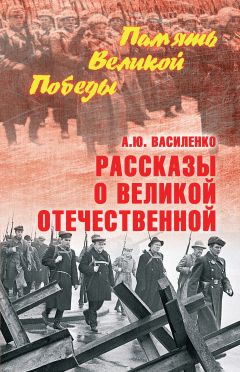
Автор книги: Алексей Василенко
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 32 страниц)
Прыжок в никуда
Александр Максимович Сизов
– Александр Максимович, вы во время войны служили в авиации дальнего действия. Об истребителях и штурмовиках писалось и рассказывалось много, чего никак не скажешь о тяжёлых бомбардировщиках. Хорошо, пожалуй, известен только один эпизод, когда наши сверхдальние бомбардировщики в первые же дни войны впервые бомбили Берлин. Это было символом неизбежного возмездия и хотя большого военного значения не имело, политическое, моральное значение имело огромное… Кем вы были в авиации дальнего действия?
– Ну видите ли, я двадцатого года рождения, поэтому служить и летать начал ещё до войны, с 1938 года. Так что пусть вас не удивляет, что я выполнял обязанности к началу войны уже командира корабля, бомбардировщика. Кстати, авиация – это вообще дело молодое. В сорок лет уже маршалами авиации становились…
– Работали по дальним целям?
– Да, по дальним. Ну, это надо понимать так, что мы летали так далеко, насколько хватало ресурса самолёта. До половины запасов горючего, даже чуть больше, потому что обратно без бомбового запаса летишь. В общем, столько, сколько позволяет данный тип корабля.
– И какой был запас у вас?
– 600–700 километров.
– Понятно, что вы не занимались поисками цели, их доносила вам разведка, и вы выходили уже точно сориентированными.
– Совершенно верно, задание нам давали на основании разведданных – поразить цель такую-то там-то и там-то.
– Судя по вашим наградам, вы их поражали совсем неплохо.
– Все эти награды получены в начале войны, когда ордена и медали, как известно, давались не так часто. Так что поражали мы действительно неплохо.
– Ну, такие награды задаром никогда не даются, а раз командование отмечало, значит… Александр Максимович, вы ведь не случайно подчеркнули, что награды получены в первой половине войны. Я знаю, что у вас была довольно сложная ситуация на войне и в жизни…
– Пожалуй, ситуацией назвать то, что у меня было, нельзя. Я бы другое слово подобрал для этого – потрясение.
– Расскажите, пожалуйста, об этом.
– Тяжело вспоминать… Я с начала войны совершил 130 боевых вылетов. Дальних. Бомбардировочных. Это немало.
Бомбить приходилось на всех фронтах – в Западном особом военном округе, на Центральном, Ленинградском, Сталинградском, Северо-Кавказском… Короче, везде, где прикажут. Конечно, за время моих боевых действий не обходилось всё гладко. Четыре раза я горел…
А в тот раз мы летели в дальнем тылу у немцев. Сбили. Взрыв, огонь, осколки… Спасся чудом, потому что прыгал с небольшой высоты, не успел погасить скольжение парашюта и – земля, здравствуйте, пожалуйста! Удар был сильнейший, с тех пор я и хромаю, две мышцы были так растянуты или порваны, что всю жизнь теперь не заживает. Но тогда-то, сгоряча, одна мысль была главной: жив!
Потом осмотрелся. Ноги – это я как-то не очень обратил внимание сначала. В первую очередь надо было раны перевязать. Их у меня две было. Одна – достаточно опасная – вена была повреждена, запросто мог кровью истечь. Если бы потерял сознание, то уж не очнулся бы, это точно. Кое-как стянул комбинезон, сорвал левый рукав своей нижней рубашки и перетянул руку натуго, чтобы кровотечение остановить. А другая рука тоже повреждена, осколок торчит. Не очень, правда, большой. Надо вытаскивать. А чем? Только зубами. Сумел я его зубами захватить, потащил, думал только об одном: не потерять бы сознание. Вытащил. Выплюнул. Перетянул и эту руку. Потом подумал, что от удара мозги у меня вполне могли сдвинуться. Стал себя проверять. Сегодня 25 июня 1943 года. Так. Находимся мы, тьфу, какие «мы»! Я нахожусь предположительно в немецком расположении далеко за линией фронта, где-то между Курском и Орлом. Это место только потом назовут Курской дугой, но откуда мне было знать об этом. Для нас она так и не стала дугой… Да нет, вроде голова в порядке, соображает. Осмотрелся. Приземлился я в каком-то кустарнике, невдалеке чернел лес. Видно всё было хорошо, и в этом не было ничего хорошего. Летняя короткая ясная ночь, половина двенадцатого, запад ещё совсем голубой, ночь небо не успела закрыть ещё… Возникло чувство опасности. Дальше уж на автоматизме пошло: смотал парашют, спрятал его в зарослях, в кустах, как учили, и – ходу оттуда…
– Александр Максимович, вы уж извините, что перебиваю вас. Но вы ни разу не упомянули никого из членов вашей команды. Ведь экипаж тяжёлого бомбардировщика – это несколько человек.
– Шесть членов экипажа.
– Вот. А что же с остальными?
Сизов долго молчит. Видно, говорить ему трудно. Но и уходить от ответа на прямой вопрос, видимо, не в его привычках…
– Тут ведь видите, какое дело… На то, что произошло, можно смотреть по-разному. Я воспринимаю это так, другой – по-другому. Но я-то могу рассказывать только со своей точки зрения, а это не совсем объективно. Хотя, когда я пытаюсь поставить себя на их место, я твёрдо знаю, что так не поступил бы. Короче, бросили они меня.
– Как? Без приказа?! Тогда вы – плохой командир.
– В том-то и дело, что я ничего не могу утверждать. Я помню, что происходило всё так. А ведь я мог на какие-то секунды потерять сознание, не ответить на какой-то вопрос, меня могли посчитать убитым… Так что за много лет у меня, пожалуй, впервые язык повернулся осудить кого-то. Тем более что обстоятельства разбросали нас куда дальше, чем на несколько тех километров, когда я летел один…
– Так что же всё-таки происходило?
– Ну, я говорил. Взрыв, огонь… Я, как командир корабля, вёл самолёт, он, к счастью, развалился не сразу. Я скользил, пытаясь сбить пламя – горела правая сторона, не иначе разбили бензобак. Огненный хвост тянулся назад по мере вытекания бензина. Всё было с правой стороны. Я скользил в левую сторону, прошла, кажется, целая вечность. Пламя сбросить не удалось, оно будто прилипло к самолёту. Чувствую, дело пахнет керосином, то есть бензином, сейчас ведь самолёт вспыхнет, тогда не спасёмся. И я дал команду: «Прыгай!» Или, может быть, я в горячке её ещё раз дал и не погиб? В общем, когда я повернулся, смотрю: штурмана уже нет. А ведь возле меня был… Был. Я остался один в кабине. У меня совесть чиста: я держал самолёт столько времени, что у всех была возможность покинуть самолёт.
– До конца выполняли долг командира корабля? Так же, как на флоте, – капитан уходит последним.
– Да, это так и положено. То есть, когда я спохватился, они все уже были в хвосте, уже прыгали, потому что самолёт вдруг начал «кобрировать», задирать нос из-за перегрузки в хвосте, стал давить на штурвал. И вот тут мелькнула мысль о том, что и самому надо озаботиться собственным спасением, надо подсуетиться, иначе поздно будет. Единственно, что меня всё время сдерживало, это сознание того, что одно неверное движение может стоить мне жизни и всё надо делать быстро, но чётко, точно. Короче говоря, не растерялся, потому и спасся.
Триммером снял нагрузку, включил плафон в фюзеляже, потому что хотя и светлая ночь, но там-то всё равно темно, ничего не увидишь… Успел сообразить. Выровнял самолёт на планирование, а они, эти самолёты, довольно устойчивые были, и вот, когда самолёт планировал…
– Выпрыгнули.
– Эх, как легко! Если бы так, то не стоило бы рассказывать. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Чтобы прыгнуть, нужно пробежать в конец фюзеляжа, к хвосту, я уже говорил. А на мне была только подвесная система, без парашюта. Дело в том, что на этих ЛИ-2 невозможно было сидеть с парашютом, тем более – управлять самолётом. И вот – ремни на мне, а парашют должен висеть справа. Выскочил в фюзеляж и сразу увидел, что парашюта на месте нет. Вот тут сердце дрогнуло – неужели кто-то два схватил? Потом пригляделся и увидел, что последний парашют валяется на полу возле башни стрелка. Причём, вы учтите, что дело идёт на доли секунды! Я схватил парашют, на один карабин, на правый, без промаха одним движением защёлкнул, насадил. Стал пытаться второй нацепить – промазал, так как самолёт уже был неуправляемый, и меня качало, как моряка после длительного плавания. Повторять эту операцию я даже не пытался. Я только добежал до грузового люка, это с левой стороны фюзеляжа, но вдруг потерял равновесие. Выбросил руки вперёд и упал на нагрудный парашют и держался за борт корабля. Я понимаю, что всё это происходило мгновенно, но мне казалось, что прошла вечность. Меня будто придавила к корпусу какая-то тяжесть… Сколько ни пытался продвинуться дальше, ничего не получилось, силы уходили, как воздух из пробитого мяча. В сознании только пронеслось: «Всё, кончено!» Потом я читал где-то, что человек в минуты смертельной, безысходной опасности видит свою жизнь какими-то моментами, кадрами, как в калейдоскопе. Могу подтвердить на собственном опыте – святая правда. Всё это «кино» мелькнуло перед глазами одним махом…
Я только потом понял, почему меня придавило к полу. Так как самолёт был лишён управления, он делал эволюции сам, самостоятельно. Когда я перебежал назад, самолёт стал кверху нос задирать, и меня прижало. Но потом самолёт стал терять скорость. И сразу опустился нос, и я стал отставать от пола. И вот тут-то у меня вся энергия, откуда что взялось, всё воспряло! Я рванулся вперёд, а люк-то на верхних подвесках, и руки заняты. Я головой приоткрыл люк и стал в него протискиваться, потому что ветер-то давил на люк, пролезаешь силком, расширяя щель, держать люк некому. А снаружи – огонь, его затягивает в эту щель и бьёт прямо в лицо. Опалило меня всего – волосы, щёку, потом она волдырями пошла, правая сторона обгорела изрядно. Но всё же через этот огонь фактически я продавил себя и выпал. Держусь за кольцо, а в голове будто арифмометр щёлкает: откроешь рано – парашют загорится или зацепишься; поздно откроешь, – ты не знаешь, сколько осталось до земли, он просто может не успеть открыться.
Страх я сумел придавить и выжидал, ничего не видя, пока меня холодным воздухом не обдаст. И только когда это почувствовал, дёрнул за кольцо. Смотрю – вниз упал купол, и сразу он вздёрнул. Кстати, на один карабин, помните, я говорил? Уж как он этот двойной силы рывок выдержал, я не знаю. Знаю только, что повис я кривовато, но потом дотянулся до второй лямки парашюта, выровнялся и пошёл вниз… Это уж моё счастье такое, что карабин не лопнул…
Я уже говорил, что на земле пригодилась выучка. Я ведь выскочил из самолёта, как с пожара… Впрочем, почему «как с пожара»? Пожар и был. Ничего у меня не было с собой – гол как сокол. Пилотка – и та осталась в кабине на штурманском столике, сгорела вместе с самолётом… Так вот, прежде всего определился по сторонам света, дело это несложное, ориентироваться каждый лётчик умеет. Кстати, слово «ориентировка» происходит от слова «ориент», – восток, то есть ориентирование – это умение держать курс на восток. А вот мне как раз и нужно было на восток, туда, где наши, туда, где фронт. Просто нужно было скорее двигаться к своим.
Описать невозможно, чего натерпелся я в те дни. Нарывался даже на минное поле. Причём табличку «Ахтунг! Минен!» – «Внимание! Мины!» заметил уже тогда, когда стоял на этом минном поле… Выбора не было, пришлось по минам идти… Не ел практически ничего, хорошо хоть через пару дней дождь пошёл – чистой воды напился.
– И всё-таки не повезло…
– Да, нарвался я на них. Сначала меня из-за моей худобы и бороды за партизана приняли, а это означало только одно – сразу в расход, но потом углядели остатки формы, поняли, что это не тот случай.
Прошёл пять лагерей. До освобождения. Один год и девять месяцев. И вот эти шестьсот сорок дней каждый день я ждал смерти. Шестьсот сорок раз! Всё слилось в один чёрный поток… До сих пор мне снится рожа одного охранника, Брунс была его фамилия. Во сне, как когда-то, он наклоняется ко мне близко-близко, в зрачки вглядывается, чтобы заметить – не дрогнет ли в глубине страх, улыбается хитренько и говорит:
– Хаймат? Никс хаймат! – Родина? Никакой родины!
И мотает толстым пальцем перед лицом…
– Родина, несмотря ни на что, всё же была, хоть и встретила тоже неласково?
– Да. Допросы, проверки. Только в пятидесятых годах меня во всех правах восстановили. И за все мои муки выдали двухмесячное пособие…
Но… Как писал Есенин?
Я избежал паденья с кручи,
Теперь в советской стороне
Я самый яростный попутчик…
После этого разговора всплыл в памяти когда-то услышанный рассказ, который застрял в голове и долго требовал как-то записать его, сохранить. И много лет спустя написались стихи. Вот они. «Баллада о буханке хлеба».
Я вам расскажу о буханке хлеба
Из доброй степной украинской пшеницы.
Я вам расскажу о буханке хлеба,
Которая в двери вагона влетала
И падала на пол, залитый мочой.
За дверью – клочок голубого неба.
А неба вот уж четвёртые сутки
Не видели люди в пещере вагонной.
Но люди на небо уже не смотрели,
А только смотрели на эту буханку,
Лежавшую сиро на мокром полу…
Я вам расскажу о буханке хлеба,
Которую бережно поднимали
И ниткой, выдранной из гимнастёрки,
Пилили на сорок равных частей,
На сорок частей, идеально равных.
Буханка же, что назавтра влетела,
Была распилена на тридцать пять.
Я вам расскажу о буханке хлеба,
Влетевшей в двери в день предпоследний.
Её разделили на двадцать две части.
И были эти части побольше —
Ведь пленных осталось почти половина,
А остальные там же лежали,
И есть им было совсем не нужно.
Я вам расскажу о буханке хлеба,
Которую очень весёлый унтер
Не бросил в двери в последний день,
Заметив, что мёртвых уже слишком много…
Он долго смеялся, весёлый унтер,
Потом приказал очистить вагон.
А после, когда мертвецов закопали,
Заметил, что так поступать нечестно,
Что только эти советские свиньи
Способны обманывать честных солдат.
И он тесаком разделил буханку,
Забросил в вагон одну половину,
Другую неспешно крошил на кусочки,
Стоял, улыбаясь возне воробьиной,
И думал о том, что с пустым эшелоном
Сегодня он снова поедет под Харькофф
Из этой паршивой страны макаронной…
Я вам рассказал только то, что слышал
Из уст человека, который когда-то
Был ранен в бою, был пленён без сознанья,
Три раза бежал, но его ловили,
Четвёртый побег оказался удачным —
Сражался в гарибальдийской бригаде,
А после Победы вернулся домой.
Об умении смотреть по сторонам
Иван Алексеевич Коркотин
Путь этого человека проходил по самым горячим точкам войны. Был настоящим героем на знаменитом Лютежском плацдарме при форсировании Днепра и взятии Киева, за что удостоился высшей награды Родины – ордена Ленина… Но Иван Алексеевич упорно не хотел говорить о себе в этих битвах. Объяснял это тем, что там было очень много героев, так что нового чего-то он добавить просто не сможет. Так и остался при своём мнении. Но всё же из довольно беспорядочной записи нашего разговора я выбрал два вот таких эпизода.
– Я в Киеве учился в артиллерийском училище, курсантом был, когда война началась, а в ноябре уже защищал Москву в составе 340-й стрелковой дивизии. Бои тогда были очень тяжелые под Москвой, возле Алексино. А позже мы в контрнаступление перешли и освободили Алексино и Калугу. Вот там-то я и стал поначалу командиром артвзвода. А потом, в 1942 году, пошли мы на Оскол, в направлении на Белгород, Харьков. На Курской дуге уже командовал дивизионом… Но я сейчас не об этом хочу рассказать, а о том, как важно было на войне вовремя смотреть по сторонам, всё замечать, все возможности использовать. Первый раз почётное звание «хитрый Коркотин» я заслужил под Старым Осколом. Вот как это было.
До того как мы подошли к городу, долгие бои были, а боекомплект что-то не пополнялся, так что мы со своими пушечками почти голые были. То есть НЗ, конечно, оставался, а больше ничего. Чем стрелять будем, неизвестно. И вот вошли мы в какую-то деревушку. А ночь была… ну не видно абсолютно ничего. Чуть не руками дорогу ощупываешь. Подошли к какому-то дому, кричим, есть ли кто-нибудь. Старик выходит. Ну, обрадовался, конечно. Заговорили мы, и во время разговора ходим по двору туда-сюда. Только вдруг я подумал: а что это мы ходим, а под ногами стёкла хрустят?
– Отец, – говорю, – у вас же здесь вроде бы боёв не было, а? Чего ж тогда стёкла все повыбиты?
И вот тут старик выкладывает информацию:
– Так ведь тут, в лесу, наши склады были. Снаряды какие-то. При отступлении вывезти не успели, так пришлось взорвать. Вот стёкла и повылетали все, в дребезгу мелкую рассыпались. А где сейчас стёкла найдёшь, чтобы вставить? Забили, чем попадя. Да и двор убирать-то неохота…
– Слушай, а там после взрыва ничего целого не осталось?
– Сейчас узнаем.
Позвал он парнишку лет 15–16, я так и не понял – то ли сын поздний, то ли внук ранний. Короче говоря, он проводником нам стал. Отправились мы в лес. Как мы там плутали да лазили, – рассказывать долго. Только нашли мы там целый склад невзорвавшихся 76-миллиметровых снарядов! То есть если бы мы ящики с золотом нашли, то, наверное, так не обрадовались бы. В общем, наутро мы открыли огонь по Старому Осколу. А командование-то знает, что у нас только НЗ остался! Ну и, конечно, сразу: кто разрешил тратить, откуда снаряды? А я говорю: могу всем желающим подкинуть сколько угодно, стреляй себе, сколько влезет. Вот тогда-то и услышал: вот, мол, хитрый Коркотин, всех обскакал!
А вот вы про Лютежский плацдарм спрашивали. А ведь там тоже нас находчивость выручила. Тут так получилось. Вначале у нас одна пушка на правый берег Днепра переправилась. Я вперёд выдвинулся, корректировал огонь, пока переправа остальных шла. И тут вскоре мы захватили пушки немецкие и снарядов к ним очень много. А что, говорю, не попробовать ли нам пострелять, а? Ну, мы быстренько развернули их, хитрости особой никакой нет, начали стрелять. Только ведут себя снаряды непонятно. Одни взрываются над фашистскими окопами, а другие, как болванки, в землю зарываются. Что такое? Я говорю командиру батареи: следи, есть какая-нибудь разница между снарядами и какой как себя ведёт после выстрела. Несколько выстрелов сделали, и он докладывает: так, мол, и так, которые взрываются, у тех на головках маленький такой чёрный крест!
Ну, теперь всё ясно. После этого всё пошло легко. Так и командовали:
– Чёрным крестом заряжай!
А я наблюдаю за результатами и сам не замечаю, как говорю:
– А ну, подсыпь-ка ещё чёрного креста!
Потом на нас вышла свежая дивизия немецкая, мы пушки на прямую наводку поставили и дрались. Тогда меня и ранило тяжело. Вот именно за тот бой я и получил орден Ленина. Но это уже другой разговор…
Из батальона – 16 живых…
Василий Егорович Винокурцев
– Вот вы сейчас на награды смотрите и пытаетесь определить, сколько и какого масштаба подвигов я совершил?
– Н-ну, примерно так. Но не только. Я ещё и приблизительно путь человека на войне определяю. Медаль, скажем, «За оборону Ленинграда» не давали тем, кто воевал в других местах.
– Это-то так, правильно. Но всё же цена у наград бывала разная. Трудность того, что ты сделал, для тебя самого – это одно, а значение того же самого действия для командования – дело совсем другое, это разные вещи. Поэтому личная оценка – не самая объективная, а со стороны – так вообще определить невозможно… Да чего это я теоретизирую! Вот о себе расскажу. В плен я одного немца взял. Ну, как это было? Машина там была с боеприпасами. Я уж не знаю, почему она там оказалась: то ли поломка, то ли заблудился фриц, то ли проспал, то ли отстал просто потому, что тяжело загружен был. Не знаю даже конкретно, что он вёз. Сказали потом – боеприпасы, и всё. Но мне-то ни к чему – что там. Я просто выскочил между домами, гляжу – машина немецкая, и водитель лезет под машину прятаться. Тут уж охотничий инстинкт сработал, я его схватил и вытащил за шкирку. А потом наградили меня орденом Славы. Я так полагаю, что это важный пленный оказался, в смысле – какие-то ценные сведения дал… Вот так вот.
А вот такая же награда – за Киев. Взяли мы его шестого ноября.
– Вот вы так вроде бы мимоходом сейчас сказали: «6 ноября взяли Киев». Но «взяли» – это ведь просто слово. А до этого страшнейшее сражение было, форсирование Днепра, ведь это одно из самых тяжёлых «взятий» было. Вот расскажите, как это происходило? Ведь вы были, как мне сказали, десантником на броне.
– Да. Танковый десант.
– А ведь кругом не бабочки. Не мушки летали! Просто сидеть на броне, когда по танкам ведётся огонь из всех имеющихся у противника огневых средств, это уже верный шанс погибнуть, а если ещё пули и осколки, если после этого ещё в бой, это же страшное дело!
– Страшное. Не приведи Господь кому другому испытать. Мы с танками подошли к Днепру. Ночью подошли, и сразу же нас распределили по берегу – через каждые 500 метров – по батальону. И тут же запустили дымовую завесу по берегу да по воде, в нескольких местах, где мы должны были переправиться. Надо сказать, что всё это довольно быстро происходило, расчёт был на внезапность, хотя – это я уж не знаю, кто делал, – плавсредства уже были заготовлены заранее. И всё это мы быстро разобрали – лодки, доски, плоты, бочки… Грузились – куда попадёшь, раздумывать было некогда. Тут же команда – и пошли.
– Днепр широкий был в этом месте?
– Очень широкий. Мы переправлялись выше Киева, а там противоположный берег был очень крутой, мы сверху были как на ладони видны, и уж прошивали нас из всех видов оружия. Задача – выбить немцев с берега. А берег укреплённый, сильно укреплённый. И вот высадились мы и вступили в бой. Это я сейчас в голове по полочкам всё разложил, а тогда всё было какими-то урывками, какая уж цельная картина боя, когда переведёшь дыхание и бежишь. Упадёшь, вскочишь, на тебя набегает, ты в него, он падает, ты бежишь, ещё один на тебя, прикладом в зубы, очередь, упал, осмотрелся…
Весь берег там был изрезан балочками, оврагами. И везде траншеи, доты, дзоты… Вот мы их оттуда и вышибали. От всего батальона нас осталось в живых шестнадцать человек… Шестнадцать! Представь только! Из батальона… Из нескольких сотен ребят…
– (После долгой паузы.) Войну вы закончили в Берлине? Где именно?
– В самом Берлине мне не пришлось воевать. Мы стояли на станции, не доезжая до Берлина километров сорок, и были готовы к участию в штурме, но, видимо, опоздали немного, потому что уже в тот же день, когда мы туда прибыли, нам объявили, что Берлин капитулировал.
Потом уже, после капитуляции, наш эшелон затащили в Берлин, и стояли мы на Шпрее-реке. Американцы стояли на правом берегу, мы стояли на левом.
– Расписались на Рейхстаге?
– Ходили, расписывались.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































