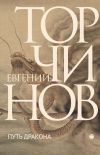Текст книги "Люди черного дракона"
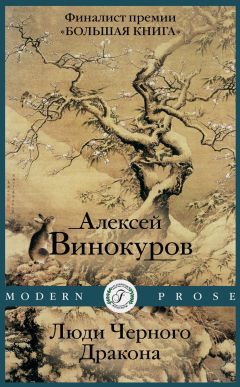
Автор книги: Алексей Винокуров
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
Любовь
Все бываловские жители, не исключая даже китайцев и уж в первую очередь, конечно, амазонок не исключая, с младых ногтей знали, а которые не знали, те догадывались: все на свете происходит от любви и особенно – от ее отсутствия.
Конечно, бывает иногда, что от любви ничего не происходит, но это случается крайне редко. Что-нибудь да происходит всегда – браки, дети, разводы, ссоры, разочарования, убийства и самоубийства… И все это – только мельчайшая часть от того, на что способна любовь, и потому не дай нам Бог увидеть ее во всей ее грозной и гневной красе.
К любовной теории китайцы наши подверстывали дополнительную философию, говоря, что кроме любви твердь земная держится и колышется еще и деньгами. Но даже и тут любовь превосходила деньги, потому что любовь к деньгам страшнее самих денег.
Вопреки китайским воззрениям любовь существовала задолго до того, как под солнцем появились первые общества взаимного кредита, банки и долговые обязательства. Любовь появилась до того даже, как сами деньги вошли в оборот, как бы они там ни выглядели – полузабытыми черепами, ракушками или желто-полосатыми куньими шкурами. Любовь, надо полагать, возникла в тот момент, когда в мире возникла женщина, как бы ни сопротивлялись этой теории зверолюбы, мужеложцы и граждане, склонные к самоудовлетворению и онанизму.
Любви оказались покорны все, даже китайцы, о которых русские сплетничали, что якобы у них нет души, а если есть, то одна на всех, как в муравейнике. Дикое мнение это возникло от китайской деловитой жестокости к животным и общей бесчувственности по отношению к людям. Однако эта концепция все время подвергалась испытанию на прочность. Средний китаец при полном равнодушии к бедам других себя самого жалел необыкновенно и при всяком удобном случае норовил пустить слезу о неудавшейся жизни и несправедливостях, которые с ним творят жестокие люди и судьба-цзаоюй. Но крокодиловые слезы в таком случае проливались исключительно мужчинами – женщины, жизнь которых была еще хуже, не плакали, но лишь стискивали зубы так, что челюсти сводило твердым желваком, каменно стывшим на лице. Ничего другого от них не принималось, потому что кому какое дело до страданий женского сословия, которое если и не приравнено совершенно к зверям-дунву, то ушло от них совсем недалеко, а может быть, и вообще движется в противоположную от человеческой сторону.
Тем не менее и китайцы, как уже говорилось, становились жертвами любви, причем в совершенно неожиданных случаях.
Известно, что китайцы, в целом покорные судьбе, на судьбу, тем не менее, рассчитывают мало, особенно же в важных вопросах, таких, например, как вопросы любви. Обычно они не ждут милости от небес, а сами потихоньку подпихивают несговорчивую фортуну в нужном направлении.
Вот и наши, бываловские, едва заселившись в селе, задумались о любви и наряду с редькой, чумизой и пшеницей начали растить конкубинок, хрупких девочек с черными глазами и перебинтованными ногами – золотыми лотосами в пять цуней. Все они – тихие, томные, надменные, живые, проказливые, – все как одна, подвергались особенному воспитанию и собой диете. Их выкармливали нежнейшим доуфу, и речными креветками, и рыбой на пару, и орехами – и все так, чтобы они росли тонкими, но белыми и мягкими на ощупь, словно шелковичные червячки, чтобы подлинный инь переливался во всем теле их, как переливается солнечный свет в жемчужине, выхваченной из морских недр странствующим драконом. Конкубинкам следовало быть послушными, но игривыми, маленькими, но не слишком – чтобы мужчинам было куда поместить в них свою пышущую огнем страсть, чтобы кукольные личики их вздрагивали от боли, перемешанной с желанием, чтобы мужчина чувствовал себя огромным и сильным господином, но чтобы госпожой все-таки оставалась женщина.
Выращенными девочками пользовались сами китайцы – из тех, кто был не совсем голодранцем. Кроме того, их отправляли на тот берег Черного дракона, в цветочные лодки, а еще втихомолку предлагали на содержание людям состоятельным, в том числе и нашим. Однако, едва об этом разнюхали в русской части села, поднялся превеликий шум – в первую очередь среди бабьего крыла.
– Детей, детей насильничают! – вопила неизвестно чья жена тетка Рыбиха, в обычное время не отличавшаяся особенной разборчивостью, а тут вдруг ни с чего воспылавшая страстью к порядку.
– Хорошего от них не будет, только порча, – ворчала бабка Волосатиха, кося в пустоту черным мертвым глазом.
Другие бабы тоже высказывались – и все сердито, отрицательно. Мужики не показывали в этом вопросе явной определенности, больше помалкивали. Воображение их мужское будили по ночам тонкие маленькие конкубинки, со стройными ножками, слабыми ручками, нежной китайской ласкою… Жены чувствовали это, а потому ярились с двойной силой.
Из мужской аудитории против конкубинок свирепствовал один только отец Михаил, но ему и по должности было положено – как-никак, лицо духовное, священноначальное. Дед же Андрон, как и положено старосте, держал нейтралитет, хмыкал в бороду, туда же прятал глаза. Но когда ор бабий достиг другого берега Черного дракона и оттуда на нас стали посматривать местные, Андрон нахмурился, встал перед толпой и спросил напрямую:
– Что предлагаете, люди добрые, перебить, значит, их всех?
Бабы умолкли, потрясенные частично тем, что их назвали добрыми людьми, а также отчасти прямой жесто костью предлагаемых мер. Сомнение отразилось на их лицах, но выручила всех тетка Рыбиха, рядом с которой самый свирепый медведь-шатун казался тише и добрее лесного зайца.
– А хоть и перебить! – крикнула она. – Перебить – и чтобы никакого греха!
Но взять многоопытного старосту на арапа было чрезвычайно трудно. Он, как хороший шахматист, рассчитывал свою партию на несколько ходов вперед.
– Что ж, попробуем, – сказал он.
В тот же день из китайской части за небольшие деньги была выписана одна конкубинка, как было записано в протоколе общего собрания, для любовных нужд. Вся русская часть снова собралась на площади. Через пять минут, сопровождаемая похабно хихикающим дедом Гурием, появилась и китайская конкубинка Маша. Маша была совсем маленькая, даже малорослой бабке Волосатихе едва доходила до подбородка, на вид же ей казалось не больше двенадцати лет, хотя на самом деле было уже все четырнадцать.
Машу плотно облегало длинное красное платье-ципао, с разрезом от пола до подмышки, откуда смотрела на бываловских мужчин ослепительно белая кожа, не прикрытая никаким нижним бельем. Некоторые и правда ослепли на миг, моргали ресницами, отворачивались от солнца. Другие пялились неотрывно, жадно, хмурились, косились на баб, не решались протянуть руку…
Маша глаз своих косеньких, китайских, черных, не поднимала, дрожала вся, как котенок новорожденный среди возвышавшихся над ней русских гигантов. Так она стояла минуту, другую, третью, глядела только вниз и потому не видела разъяренных физиономий русских баб. А те неожиданно изменились в лице, глядели теперь уже не страшно и озлобленно, а умильно, с жалостью и сочувствием…
– Котеночек какой, – вздохнула жена Тольки Ефремова, – трепещет, боится. Не бойся маленькая, никто тут тебя не тронет.
Другие бабы тоже загомонили, кто леденца петушиного протянул Маше, кто по голове погладил, кто-то обнял, словно желая защитить не только от самих себя, но и от всех на свете мужчин. Не так ей стало страшно, подняла она глазенки свои, смотрит вокруг робко, благодарно.
– Ну, – говорит дед Андрон, – кто тут хотел конкубинок перебить?
Оглянулись все, а тетки Рыбихи и след простыл – сбежала от греха подальше, а то как бы и самой по шеям не надавали сердобольные любители женского пола.
И хотя некоторые особенно милосердные мужики предлагали Машу оставить у нас в селе и даже отвести ей отдельную избу, чтобы все желающие могли к ней ходить постоянно и проявлять сострадание, женщины просто накормили Машу и отвели обратно к китайцам.
Те поначалу брать ее назад не хотели, думали, что и деньги возвратить потребуют. Но когда сказали, что денег никаких не надобно, обрадовались, закивали, просили приходить еще, обещали хоть все русское село китайскими девушками снабжать.
Казалось бы, все успокоилось, пошло своим чередом, и так примерно и должно было идти и дальше. Конкубинки росли и множились, и страсти любовные не переводились в китайской части села.
Но году в двадцатом седьмом всю эту малину пресекли жесточайшим образом: власть окрепла, частично отошла от постоянных войн и заинтересовалась мирным строительством. В село разнюхать ситуацию приехал уполномоченный Алексеев. Не знаю, чего уж там он вынюхивал с самого начала, но инкубатор конкубинок произвел на него неизгладимое впечатление.
– Спасать надо девонек, спасать, – озабоченно сказал уполномоченный, и мягкая его, белая и пышная, как подушка, физиономия отразила необыкновенную задумчивость.
Впрочем, думал он недолго. Лично ощупал и отобрал наиболее юных, в том числе и Машу, и увез их в центр, в дом детского призрения, трудовую коммуну товарища Макаренко – туда, где, как старые пьяницы, бултыхались под ветром флаги на башнях и звенели неприятным фальцетом педагогические поэмы. Что с конкубинками там сделали лихие советские беспризорники, об этом даже догадываться не стоит, и сильное перо самого Антона Макаренко этого, боюсь, тоже не изобразит. Одна только остается надежда, что не довезли конвоиры их до коммуны, изнасиловали, убили и закопали в чистом поле, так, без гробов, крестов и панихиды, в одних ночных рубашках – и тем отпустили душу на покаяние.
Любовь же на этом не остановила свое победоносное шествие. С любовью вышла и другая история.
Младшая дочка тихого Менахема, бедная Бейла, полюбила китайца Сашу. Саша, конечно, было его русское прозвище, по-китайски же Сашу звали Сы Ша, Смертельная Пустыня. Уж не знаю, о чем думали родители его, когда давали такое имя. Впрочем, как водится у китайцев, это не официальное его было название, а домашнее, дружеское, каким его звали родственники и приятели, так что как раз, наверное, что было на самом деле, тем и назвали. Но не в имени, конечно, в тот миг было закавыка, что нам за дело до имени, как говорил еще Шекспир, а евреи наши, не являясь Шекспирами никакими, и подавно об имени не волновались. Главная трудность этой любви состояла в том, что Саша был китаец, и вот как раз это-то и было совсем из рук вон.
Именно это, а не что другое вызвало необыкновенные среди евреев переживания и сокрушение.
Сокрушался отец, тихий Менахем, сокрушалась мать ее, толстая Голда, сокрушались все родственники и знакомые, даже и те, кто никогда на Черном драконе не был и Бейлу в глаза не видел, но до кого слухи дошли раньше прочих. Все печалились, и говорили «ой-вэй!», и искали выхода из ситуации, и не находили его, и грустили от этого с двойной силой, и даже плакали немножко, говоря: «Бедная Бейла, неужели она правда выйдет за этого китайского гоя?»
И что, казалось бы, бедной Бейле влюбиться в своего же еврея, благо достаточно их к тому времени подросло на тучных берегах Амура, – еврея смуглого, чернокудрявого, с веселым цыганским взглядом, с повадкой конокрада? Тем более, среди ее окружения был уже один такой, Натан его звали, похаживал вокруг нее, глазел-пялился в упругие белые телеса острым глазом – глубже, чем девичьей скромности дозволено, – задирал, бросал шуточки, на сеновал приглашал, шлепал Бейлу по всему, до чего рука дотянется, – шлепал крепче, чем девичьему благоразумию показано. И даже до того у них дошло, что дважды по смуглой веселой морде уже от нее получил кудрявый Натан, и уже стали поговаривать о будущей свадьбе, как вдруг появился китаец Саша.
Ах, Натан, Натан, большая ждала тебя судьба, большая и роскошная: или вором в приморской банде, или прокурором в столичном городе, – к этому все шло, а всего-то и надо было Бейле согласиться и стать с ним под хупу, и тогда он все для нее сделал бы и стал бы великим человеком, прокурором или еще кем – неважно, но жила бы она за ним, как за каменной стеной, и горя бы не знала, вечного еврейского горя.
Но не для того родятся еврейские девушки, чтобы идти путем простым и твердым, смутным и определенным, как патриархи велели когда-то. Нет, сердце у этих девушек пылает, горит оно жарким пламенем, как в русской песне поется. Только какая же песня сравнится с настоящим девичьим сердцем – там и огонь, и солнце, и небеса, и океанские глубины, а под ногами вечной пропастью зияет на самом донышке смерть, не так далекая, и черная, страшная и манящая…
Нет, не нравился Бейле Натан, хоть косы ей режьте, и не нравились ей воры и прокуроры, и самому уполномоченному Алексееву, случись вдруг, не задумалась бы она дать от ворот поворот. Но если не евреи и не уполномоченные, так почему бы тогда не влюбиться в любого русского ваню, которых тоже полно было на селе – и молодых было, и старых, и среднего звена? А что русский, шептали родичи, так это не беда: попадется разумный человек, то и обрезать можно, а если неразумный, все равно спорить не нужно – как-никак господствующий класс, народ-победитель, случись чего (а в России всегда случается), станет русский зять всей семье защитой и опорой.
И, наконец, если уж совсем было бедной Бейле невмоготу от евреев и русских, на худой конец и в лес можно было пойти, найти дикого лесного деда тысячи лет, родить от него дитятю с зеленой бородой, который, выросши, стал бы заменой старосте Андрону и выбился бы в большие начальники, как это среди них, лешаков, здесь принято.
Но ни первого, ни второго, ни третьего случая не узнала Бейла, не попробовала ни терпкой еврейской любви с вечной примесью горечи и меда, ни колотушек русских, ласковых, ни даже деревянной пудовой мощи лесных жителей. Влюбилась Бейла в китайца Сашу, швырнуло ее горячее девичье сердце в смертельную пустыню, как некогда, ведомого Моисеем, швырнуло туда же весь ее народ.
Отчего бы, казалось, любить ей китайца Сашу, что в нем было такого, чего не было в других претендентах? А вот, видно, было в нем что-то, чего не было в остальных. Слаб был Саша, мягок, женоподобен, как и любой почти китаец, не росли у него ни борода, ни волосы на тонкой груди, ни скакать на лихом коне он не умел, ни прыгнуть в Амур за зубастой щукой, взять ее голыми руками, бросить в разведенный костер и сожрать затем полусырой, сверкая белозубой улыбкой.
Ничего в нем этого не было, а что же было в нем тогда? Деликатность была в нем, да такая, какой не найдешь и в самом запуганном еврее, загадочный взгляд черных, раскосых глаз, словно быстрым ножом намеченных среди желтого сияющего лица. Волосенки тоже черные, прямые, будто еще при выходе из утробы матери раз навсегда приглаженные, да так и оставшиеся до скончания века, не требующие ни гребня, ни плевка в ладонь молодецкого с последующим усмирением вихров, только раз в год лишь бы садовыми ножницами обошли вокруг черепа, обкорнали слегка, – и потом еще год можно гулять без всякого ограничения, без любой ответственности, морочить голову беззащитным девушкам, чтобы сердца у них екали и сжимались при одном только взгляде. Руки были тонкие, нежные, с длинными ногтями, потому что отец у него был с деньгами, и сын знать не хотел полевой работы, и вообще никакой работы не знал, кроме как есть и веселиться в свое удовольствие. Весь он был нежный, маленький, так что будущая теща его, толстая Голда, могла взять китайца Сашу, посадить на ладонь и поднять к небесам, чтобы оттуда, с высоты, увидел он всю Амурскую землю и всю трудную жизнь евреев, как их угнетают хитрые китайцы и уводят от них лучших девушек.
Какие слова говорил он ей, какие песни пел – тихие, нежные, мелодичные китайские песни, – теперь уж этого никто не узнает. А только полюбила Бейла Сашу, полюбила с такой силой, с какой способна полюбить совсем еще юная девушка, ни на что другое, кроме любви, не пригодная. Зачем же это случилось, спросите вы, и по какой, скажите, причине? Затем, что ветру, и орлу, и сердцу девы нет закона, как говорил в оны времена поэт Пушкин, которого евреи тоже хотели бы числить по своему ведомству за бакенбарды его пейсатые, острый ум и непокорную насмешливость, даже государю-императору поперек. Ан нет, шалишь, руки коротки, и Пушкин – наш, чистокровный русский человек, которого мы никому не отдадим, а тем паче евреям и китайцам, которые, может, и не знают о нем ничего, но все равно не дадим…
Словом, возвращаясь на круги своя, скажем только, что это была первая еврейско-китайская свадьба в нашем селе. Сколько слез было пролито родственниками Бейлы – этого не берусь я вам передать бедным своим языком, но уж поверьте мне на слово – мокро было от слез этих по всей еврейской деревне, и затопили они все колодцы, и год еще вода из них пилась соленая и горькая.
Конечно, не так просто сдались евреи на милость китайского победителя, держались поначалу, как старинная крепость Моссад. Много было перепробовано разных хитрых способов, среди которых, например, предлагалось Саше перейти в невестину веру, в иудаизм, чтобы уж свадьба прошла как положено, со стоянием под хупой, рыбой-фиш и всеми положенными еврейскими причиндалами. Лелеяли надежду, что предприятие выгорит, зная, как легко относятся китайцы к переходу из одной веры в другую и даже совмещают в одном человеке несколько религий. Все уже было обговорено и даже моэля из города пригласили, но Саша от перехода в иудаизм неожиданно отказался, когда узнал, что для этого придется урезать причинный уд, и без того не особенно длинный.
Но, хотели того или нет, делу надо было куда-то двигаться, а иначе Бейла просто впала бы в грех беззаконного сожительства, да еще и с китайцем. А потому сам тихий Менахем сломил свою гордость и пришел для разговора в Сашин дом. Войдя, стащил с головы шляпу, огляделся с тоской и какой-то безумной надеждой, но ни менор, ни мезуз и ничего еврейского не увидел в фанзе, только лишь богомерзкое изображение Цзао-вана со склеенным сладостями ртом – чтобы не побежал на небеса ябедничать на хозяев.
Ох, не порадовало Менахема китайское жилье, да и сами посудите, кого оно могло порадовать? Несмотря на зажиточность хозяев, топилась фанза по-черному, и дым шел вовсю из решетчатых, оклеенных бумагой окон, хотя вроде и была тут труба, выведенная наружу. Но именно из нее дым почему-то ни в какую идти не желал, валил прямо из-под печной заслонки, распространялся по дому, погружал все в смутный мрак. Почему так происходило, Менахем не знал и знать не мог, а если кто и мог об этом знать, то уж никак не бедный еврей, разве что один только китайский бог.
При ближайшем рассмотрении обнаруживалось, однако, что в доме не одна труба, а целых две, оттого что и печек в китайской избушке тоже было две, и обе маленькие, по обеим сторонам от входа. Но это только ухудшало дело: дым из печек этих рвался, все равно что из драконьих голов. От дыма было в фанзе черно и серо, и разглядеть жизнь китайскую и окрестности в настоящих деталях было трудно.
Пришлось идти вслепую; осторожно нащупывая ногой деревянный пол, пробрался Менахем к столу и сел за него, ожидая появления хозяев. Понемногу глаза его привыкли к темноте, он увидел, что в фанзе нет даже и потолка, а крыша дома поставлена прямо на стены, словно горшок накрыли крышкой. Верхние балки от дыма и смрада смотрелись черными и блестящими, в остальных же местах копоть кое-где висела слоями, а где-то уже смахнулась на пол и образовала собой ковер, при быстрой по нему ходьбе рассыпающийся в прах. Вдоль стен стояли китайские каны из пропеченной глины – для отдыха и сидения на них в любое время года, особенно же зимой, когда изнутри каны подогреваются излюбленным китайским углем. Постели в ожидании гостя были собраны, но лежали тут же, на канах, в свернутом виде.
Еще Менахем увидел стоящий посреди фанзы на треноге медный котел для еды, с боками, отполированными старостью и частым употреблением. В котле тлели неизменные угли, а над ним висел железный чайник, полный закипающей воды.
В дальнем углу был также виден длинный кухонный стол со скамейками, на скорую китайскую руку стесанный из березы, а потому кривой и пахучий. Рядом стоял еще один стол – поменьше, правильной квадратной формы, на котором лежали разнообразные ножи и тесаки для убиения животных и превращения их в еду. На стене над столиком висели ложки с тремя обязательными пупырышками под ними, чтобы на стол не класть их, а ставить, сита, коробочки с палочками-куайцзы, корытца для промывки чумизы и небольшие глиняные чашки для любых надобностей.
Чуть подальше шла перегородка, за которой сейчас помещался сам хозяин фанзы, отец Саши. В это место Менахема пока не пригласили, но он тому был только рад, потому что знал: там расположена кумирня с разноцветными – свирепыми и умильными – рожами богов, которым молились наши китайцы.
Менахем сидел минуту, другую, третью – никто не выходил. Менахем ждал покорно, слегка только вздыхал: «Ой-вэй, какие времена наступили – еврейский тесть должен ждать китайского свекра… И где? На своей собственной амурской земле».
Минуты шли за минутами, никто не появлялся, только коза на дворе взвыла вдруг нечеловеческим голосом – то ли к смерти, то ли к дождю, непонятно. Потом выть перестала, забрехала что-то чистой китайской скороговоркой. Менахем поежился и, чтобы ободрить себя, сказал негромко:
– Хотел бы я посмотреть, как бы они встречали русского родственника…
Словно услышав эти обидные слова, из-за деревянной ширмы вышел отец Саши, Сы Жу, или просто Сережа. Сережа типичный был китаец, но только позажиточнее прочих, хотя наши, бываловские китайцы были так устроена, что по ним иной раз было сложно определить, кто из них богатый, а кто такой. Богатые наши китайцы часто и имевшееся богатство прятали, а бедные выпячивали, чего и не было.
Но тут ради особого случая вид у Сережи был внушительный. Сам он был пузат, словно горшок со щами, лоснился, на плечах его покоился красный халат, доверительно обнимавший его тугое тело.
Мы не знаем, о чем там полдня беседовали тихий Менахем и Сережа и сколько было выпито китайского чаю и русской водки, но только свадьба все-таки состоялась, или, правильнее сказать, бракосочетание, потому что главным тут было получение штампа в печать, а все остальное явилось довольно спорным к нему приложением и диковинным компромиссом между свадьбой китайской и еврейской. Но об этом, пожалуй, в другой раз. А сейчас важно, что Ромео наш и Джульетта наконец-то зажили вместе.
Перейдя из родного дома в мужнину фанзу, очень скоро Бейла узнала разницу между китайской любовью и китайским браком. Муж почти сразу потерял к ней интерес, ни песен больше ни пел, ни стихов не читал, едва отвечал, когда она к нему обращалась, даже ласки супружеские приходилось из него вымаливать. А вот родственники мужа обсели ее со всех сторон. Свекр Сережа улыбался ей маслено и говорил непристойности. Свекровь требовала, чтобы Бейла носила ее на спине, когда ей неможется.
– Куда же вас носить? – спрашивала Бейла. – Лежите себе на постели, отдыхайте!
Но свекровь в ответ начинала браниться по-китайски, кричать на Бейлу и больно щипать ее за руки и за грудь.
– Я сама знаю, где мне лежать, – вопила она на таком плохом идише, что это уже почти был русский язык. – Твое дело не разговаривать, а исполнять мои повеления!
И Бейла брала свекровь на закорки, выносила ее на улицу и ходила с ней по двору широкими шагами, потому что китайская медицина считала такую ходьбу полезной для здоровья.
Теперь Бейла одна убирала весь дом, всех обстирывала, вскапывала огород, кормила свиней, которые жрали как звери и, стоило зазеваться, норовили вцепиться в икру, и выполняла все возможные работы. Но, несмотря на это, жизнь ее становилась с каждым днем все хуже и хуже. Ей помыкали все, она находилась на положении не служанки даже – рабыни.
Однажды Бейла не выдержала и напрямик спросила свекровь, за что ее так ненавидят.
– Вот забеременеешь, родишь сына – тогда и поговорим, – отвечала ей свекровь.
– Но ведь это не от меня только одной зависит, – пыталась защищаться Бейла.
Но ее не слушали и даже не считали нужным снисходить до беседы с ней.
Правда, изо всей большой семьи Саши нашелся все-таки один человек, который хорошо относился к Бейле и даже любил ее. Это была младшая дочка Саши, Сы Юй. Она жалела бедную Бейлу, и даже доставляла ей тайком редкие китайские вкусности вроде ханьчжоуского вонючего доуфу, от которого у Бейлы перехватывало дыхание и выступали слезы на глазах. Однако она боялась его выплюнуть, чтобы не обидеть Сы Юй. Впрочем, Сы Юй сама была еще подростком и не могла никак защитить невестку, потому что находилась в семейной иерархии ниже всех, кроме, конечно, самой Бейлы.
И лишь однажды отношение к Бейле изменилось. В тот день она отравилась, живот у нее вспух и болел, она лежала на кане и стонала. И вдруг все захлопотали возле нее – и свекр, и свекровь, и даже муж подошел и участливо спросил, как она себя чувствует.
Но едва стало ясно, что животные боли – желудочного происхождения, и к беременности отношения не имеют, все остыли и охладели к Бейле еще больше, чем раньше.
Год шел за годом, а ребенка все не было – ни мужского пола, ни любого другого. Муж, когда-то такой нежный, любимый и любящий, вовсе перестал видеть Бейлу, не скрываясь, ходил к другим женщинам. Об этом знала вся китайская деревня, все смотрели на нее теперь с презрением, тем самым страшным китайским презрением, от которого ты занимаешь место ниже последней свиньи и гадины и от которого впору умереть.
Свекр же и свекровь если и обращали внимание на невестку, то только затем, чтобы подвергнуть ее новым унижениям. Невестка, не принесшая в дом ребенка мужского пола, до конца дней своих должна была пресмыкаться, жить в грязи и позоре, пока милосердная веревка или речной омут не прервут ее мучений.
Но такова уж была Бейла, что ни веревке, ни омуту, ни ружейной пуле не готова была отдать она свою жизнь – только лишь возлюбленному. Возлюбленный забыл о ней, но она терпела – во имя ли прошлой любви или во имя настоящей, ибо любовь никогда не бывает прошлой, даже если она проходит.
Другая какая девушка давным-давно бы сбежала обратно к родителям – но Бейла не могла. Она ведь вышла замуж против их воли, и если бы они любили ее чуть поменьше и силой укротили дочку, никогда бы не видать ей этого горя – горя супружеской любви. Теперь Бейла стыдилась жаловаться родителям. Встречаясь с ними изредка, надевала единственное праздничное платье – голубое в белый горошек, с белыми кружевами, – перемогала себя, превращала гримасу боли на лице в горькую улыбку, а ту – в улыбку светлую, говорила, что счастлива и любима, что муж ее на руках носит. Конечно, родительское сердце не обманешь, и саднило сердце у Менахема и Голды, и хотелось им обнять дочку, закричать во весь голос от горя, позвать ее назад, унести в отчий дом на руках, но стыдно было перед соседями: выходит, дочка их оказалась никому не нужна. Да и сама Бейла не воротилась бы назад – хотя бы из одной только гордости.
И оттого только, из гордости, да еще из-за родителей не опустилась Бейла, не сгорбилась, не состарилась от горя и печалей, ходила, подняв гордо голову, улыбаясь, мылась каждый день в кадушке, вызывая презрительные насмешки китайцев, которые вот уж чего не могли понять, так это любви русских и евреев к мытью, от которого никакой нет пользы, кроме вреда для организма. Из русского мытья китайцы признавали одну только баню, но ведь это и не мытье вовсе, а процедура, полезная для здоровья, прочищающая все меридианы, чтобы энергия ци вольно ходила-текла по каналам цзин-ло, чтобы все органы функционировали нормально.
Вот такой-то, улыбающейся и с гордо поднятой головой, увидел однажды Бейлу старый китаец Ма Фань, он же Миша. Бейла ему сразу понравилась – статью, молодостью, терпением. Вот только глаза у нее были грустные, ну, да кто же смотрит женщине в глаза, есть в ней части тела поважнее – грудь, например. А грудь у Бейлы была такая, что ни одной китаянке и присниться не могла – большая, белая, пышная, гордыми холмами вздымалась над животом.
Разглядев эту грудь как следует, старый Ма Фань пожелал стать ее хозяином. У него уже было две жены, однако для человека почтенного этого было маловато, да и финансы позволяли иметь больше. Ма Фань решил взять себе наложницу.
Сказано – сделано. Как-то вечером в воскресенье, когда вся почтенная семья Сы отдыхала, сидя за столиком на улице, а Бейла начищала полы в фанзе, которые, впрочем, из-за дыма быстро становились положенного серого цвета, Ма Фань важной походкой вошел во двор. Слуга за спиной его нес в красном пакете небольшие подарки хозяевам: рассыпные сигареты, сладости нянь-гао и пахучее вино эрготоу.
Подарки, как и положено, тут же спрятали в доме, а Ма Фаня приняли с традиционным китайским гостеприимством.
Поговорили, как водится среди вежливых людей, о погоде, о видах на урожай, Ма Фань похвалил свиней семейства за жирный и упитанный вид, Сы Жу сделал ответный комплимент внешности почтенного гостя.
Затем подчеркнуто небрежным тоном Ма Фань заговорил о том, что хотел бы взять себе в дом служанку, нет ли у них кого на примете? Хозяева, тут же смекнувшие, на что гость намекает, сделали, однако, вид, что вовсе не понимают, о чем он говорит. По извечной китайской привычке ходили вокруг да около час или два, наконец Ма Фань спросил напрямую, не хотят ли они продать ему свою невестку, Бейлу. Конечно, много дать он за нее не может, она ведь не китаянка, но, так и быть, готов избавить семейство Сы от лишнего рта.
Сы Жу на это отвечал в хитром китайском духе, что, дескать, они бы не против, однако Бейла – еврейская девушка и родичи ее могут быть недовольны, если они продадут ее в простые служанки.
– Ну, а в наложницы? – спросил Ма Фань.
В наложницы, конечно, другое дело, отвечал ему Сы Жу, но ведь наложница – это не работница и за нее надо платить совсем другие деньги.
– Так ведь вам от нее никакой пользы, – возразил Ма Фань. – Ведь она порожняя, и детей у нее не будет.
– Тогда вам она зачем? – спросил, в свою очередь, Сы Жу.
– Для развлечений, – отвечал Ма Фань, – наследники у меня уже есть.
Тут матушка Сы, все это время молчавшая, мудро заметила, что развлечение – это такая вещь, за которую надо платить дороже всего. Ма Фань не возражал, и начался торг.
Все время, пока отец его торговался, Сы Ша глядел в сторону, как будто дело его вовсе не касалось. Но едва отец и покупатель сошлись в окончательной цифре, Сы Ша внезапно возвысил голос.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.