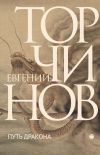Текст книги "Люди черного дракона"
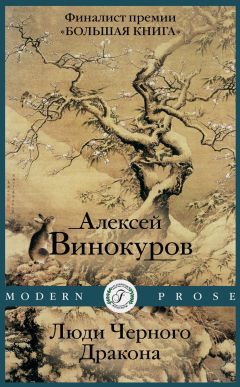
Автор книги: Алексей Винокуров
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
Но Хого беспокоился. Он боялся, что тело Дениса найдут и начнут расследование. Заперев девчонку, он взял громил Гугуна и Жужуна и пошел с ними под огромную ель, в густой тени которой они спрятали мертвеца и лишь слегка присыпали его песком. Мальчишка лежал в ночи среди корявых корней и почти уже слился цветом лица с речным песком. Одни только открытые голубые глаза его дерзко темнели под хмурой луной, словно, как и прежде, говоря: «Она – моя!»
Хого, приезжавший на этот берег со своей ярмаркой много лет, знал наши обычаи не хуже местных. Он слышал, конечно, о Мертвом доме, в который никто не осмеливается входить, потому что всякого, вошедшего туда, ждет смерть. Всякого, кроме ходи Василия, разумеется.
Хого не верил в эти сказки, потому что был хозяином ярмарки, на которой творились чудеса куда более удивительные. Но старый маньчжур понимал, что в дом Смерти просто так никто не пойдет, а значит, не было лучшего места, чтобы скрыть преступление. Даже если бы туда и заглянул кто-нибудь, всегда можно было спихнуть вину на самого мальчишку, который залез в Дом по собственной глупости.
Гугун и Жужун взяли маленькое стынущее тело за руки и за ноги, отволокли его к дому и швырнули в двери, зияющие, как могильный зев, швырнули, всполошив Бабушку Древесную лягушку, которая повалилась с приступочки, заметалась туда и сюда и заголосила на весь лес беззвучным лягушачьим криком.
На шум из ночного леса вышла огромная мохнатая тень, лица которой было не распознать – только сокрушительный запах дерьма и малины, рявкнула и косолапо двинулась на убийц. Те попятились, от страха потеряв голос, но тут из-за спины их грациозно вылетела еще одна тень, с длинным хвостом, рыкнула и двумя кровавыми ударами перервала горло сначала Гугуну, а потом и Жужуну. Те молча повалились в траву, обливаясь темной пульсирующей жижей…
Услышав в чаще рев и чавканье, Хого обмочился со страху и бежал прочь так быстро, как только позволяли его коротенькие ножки и круглое брюхо.
Прибежав домой, Хого первым делом отправился к Рыбке, которая в кандалах сидела в самом дальнем и тесном шатре, так что даже голову не выпрямить, а приходилось держать то на одном плече, то на другом. Страшно было Хого, так страшно, что хотел он сначала избить девчонку до полусмерти, исхлестать верблюжьими ремнями до поросячьего визгу. Если б не глупость ее и не злонравие, то ничего бы не случилось – и мальчишка был бы жив, и оба охранника. Но все-таки от битья старый маньчжур удержался, не захотел товар портить – жадность его заела. Только, шипя, как змея, предупредил, чтобы девчонка держала язык за зубами, иначе урежет он ей этот блудливый язычок, пусть бы даже и в огорчение клиентам.
А наутро случилось страшное. Выйдя из шатра на ярмарку, Хого увидел Дениса. Тот шел прямо сквозь людей, никого не видя, и был бледный как смерть, такой белый, что даже и снег, выпадавший зимой на берега Амура, показался бы сейчас темнее ночи.
Жутко перепугался Хого, даже живот у него опал, а вечно скрюченные когтистые птичьи пальчики ослабли и разогнулись. Вдруг, словно вживую, восстали перед ним все привидения, оборотни и хладные призраки-гуй, проклятые в книгах старого Ляо Чжая, восстали и объединились в одного мертвого русского мальчишку, вернувшегося обратно от Желтых источников – или от каких там источников возвращаются иностранные черти. Зачем вернулся усопший труп, на этот счет вопросов не было, зачем же иначе, как не отомстить за безвременную смерть, зачем еще приходят гуйцзы?
Много разного повидал и изведал старый маньчжур за свою долгую жизнь: смерть последней императрицы и падение Поднебесной, пытки и убийства китайцев-христиан, разрезание человека на тысячу ремней, смертный приговор от боксеров-ихэтуаней; был он даже в плену у иностранцев, но страшнее идущего этого мальчишки без единой кровинки в лице не видел Хого ничего.
Сначала враз, с легкостью необыкновенной, опорожнился у него мочевой пузырь, потом – с вонью и треском – кишечник, а когда лишился он жизненной силы, ноги у него подломились, как вовсе без костей, и он рухнул на землю поганым мешком возле расписного своего шатра.
Но счастье все-таки улыбнулось Хого. Он упал так, что по-прежнему видел идущего к нему призрака, и, прежде чем зажмурить от ужаса глаза, углядел, как какой-то русский охотник, неосторожно повернувшись, задел и сбил с ног мальчишку. Тот полежал секунду на земле, потом поднялся, сердито отряхнул со штанов пыль и двинулся дальше.
Дух хозяина ярмарки возликовал. Мальчишка не был призраком, он был живым, иначе где бы это видано, что простой человек, да к тому же иностранец-лаовай, мог сбить черта с ног?
К тому моменту, как Денис дошел-таки до шатра Хого, тот уже успел переодеться и обдумать ситуацию. Его было счастье, что мальчишка не умер, не утонул в водах реки и Дом не забрал его к себе. Как так вышло, его не касалось, требовалось теперь только вести себя правильно.
Но что значит правильно, он понять не успел. На пороге его шатра стояла маленькая темная тень. Тень эта подняла голову и сказала без предисловий:
– Отведи меня к ней…
– Хорошо, хорошо, – закивал Хого, – я понимаю, маленький мужчина хочет женщину.
И он повел Дениса в шатер любви. Там он завел его в дальний темный угол, где лежала самая опытная из жен Хого, по имени Хризантема. Ее услугами редко пользовались, большую часть времени она дремала здесь под опиумными парами, Хого держал ее для особых случаев. Увидев хозяина и клиента, она зашевелилась и восстала – медленно и пугающе, как всплывает из потаенных глубин огромный черный кит.
Денис молча смотрел на нее, открыв рот. Хризантема ужасала всеми прелестями женской зрелости – толстые, кривые, в перетяжках и целлюлите ноги, груди, отвисшие едва не до пупа, базедовый подбородок, одутловатое лицо с бессмысленным взглядом, устремленным в опиумную пустоту, чудовищное мохнатое лоно, способное принять в себя предмет любой величины и даже человека целиком.
– Мой господин, – сказала она хриплым мужским басом, – приди ко мне, и я открою тебе все тайны нефритовых покоев.
И она протянула к мальчику опухшую жирную руку. Денис отступил. Тогда она сделала шаг вперед и протянула уже и вторую. Руки, покачиваясь в воздухе, грозили сомкнуться на его шее удушливым смертельным кольцом.
Он закричал и бросился вон.
Хризантема поглядела на хозяина, тот трясся в приступе беззвучного смеха. Хризантема тоже оскалилась, гнилые коричневые зубы ее выступили изо рта – неровно, вразнобой, как перемазанные землей партизаны, опасливо озираясь по сторонам, выходят из леса.
Ночью Хого не спалось. Он ворочался, стонал, грешил то на избыток имбиря в баранине, то на слишком жаркое солнце, пропекшее его хитрую голову насквозь, до серого вещества. Иногда ему удавалось впасть в короткое забытье, но и тут его мучили кошмары: огромный медведь грыз живых еще Гугуна и Жужуна, Рыбка с огненным голубым взором рвала на себе цепи, мальчишка-утопленник, бледный и облепленный ракушками, с мертвым лицом, поднимался из вод Черного дракона.
Потом ему приснилось, что Денис вернулся к нему и приставил охотничий карабин к его голове. От ужаса маньчжур проснулся, но видение не исчезло. Денис, белея лицом в темноте, стоял возле постели, а карабин его уткнулся в висок Хого. Поняв, что все происходит на самом деле, Хого завыл тихонько, но Денис дал ему болезненного пинка под ребра.
– Веди меня к ней, – сказал он.
Старый жулик, который больше всего на свете боялся, что палец мальчишки как-нибудь случайно соскользнет, дрожа мелкой дрожью, поднялся с влажного от ночного пота ложа и, как был, босиком и с голым задом, потрусил вон из палатки. Денис шел за нем, несокрушимый, как терракотовый воин Цинь Шихуана.
Хого сам трясущимися руками снял цепи с Рыбки и, непрерывно кланяясь, задом отступил во тьму. Денис улыбнулся девочке и взял ее за руку. Синие глаза ее в глухой безлунной темноте казались звездами, упавшими на землю.
– Почему ты такой бледный? – спросила она его.
Но Денис не понял ее гуаньхуа, только улыбнулся загадочно и повел ее за собой. Ночная тень упала на двух влюбленных детей, ночная тень скрыла их от жадных глаз старого маньчжура, который, согнувшись в три погибели, глядел на них из-за ближайшего шатра…
Они построили маленький шалаш на берегу Черного дракона, на дальнем выносе, возле Бабушки лягушки и Мертвого дома – именно там, потому что туда по привычке опасались ходить жители всех четырех деревень, от евреев до амазонок. Здесь их никто не трогал, целыми днями они играли и плавали, и собирали малину и дикий мед, ловили рыбу и маленьких лесных ежей, ловили, а потом выпускали обратно, глядя, как сверкает на поверхности воды благодарное серебро и шебуршит трава в том месте, из которого только что сбежал колючий малыш. И зайцы выходили к ним из чащи и ели у них с руки, птицы не боялись садиться вокруг них и выводить свои рулады, и были эти песни такими сильными и красивыми, что никто уже и не поминал еврейский оркестр под управлением Магазинера, пусть даже и получивший двойной ангажемент.
А по ночам они ложились вместе обнаженными, и у них не было тайн друг от друга, как не было тайн между собой у Адама и Евы. И Бабушка древесная лягушка ходила дозором вокруг их шалаша, и ни единый тигр, медведь или волк не смел высунуть тогда носа из леса и потревожить их покой.
Но спустя несколько дней возле шатра появился человек. Он был такой высокий, что походил на молодую ель, и Денис сразу понял, кто это, едва только длинная тень упала на шалаш. Денис вышел из шалаша вместе с Рыбкой и твердо посмотрел в глаза отцу. Но отец смотрел не на него, он смотрел на девочку.
– Вот ты, значит, какая, – с непонятным выражением протянул Григорий Петелин и только потом перевел глаза на сына: – Надо поговорить!
– Говори здесь, – сказал Денис, – у меня от нее тайн нет.
– У тебя нету – у меня есть, – отвечал Григорий. – Отойдем, говорю…
Поколебавшись немного, Денис все-таки решился. Они отошли под старую ель, ту самую, под которой Денис несколько дней назад лежал белым и бездыханным, как речной песок. Рыбка не слышала, о чем они там говорили, но, когда Денис вернулся к ней, лицо его было не белым, а черным и по нему текли слезы.
– Прости, – сказал Денис, не глядя на нее, – прости…
И упал лицом на землю. Она, ничего не понимая, села рядом с ним и гладила его по голой загорелой спине. Он не сопротивлялся, но и не отвечал и не открывал глаз, потому что, и открытые, они видели только одно – черноту и отчаяние.
Когда в обед за Рыбкой пришли люди Хого, Денис не противился и даже головы не поднял. Она поначалу билась, звала его на помощь, не веря, что все кончено, но потом как-то сразу затихла и пошла с ними, даже связывать не пришлось. Назад, туда, где лежал маленький мужчина с голубыми глазами, она ни разу не обернулась.
Назавтра ярмарка сворачивалась и уезжала. Собирали свои чудодейственные зелья врачи, сворачивали гадательные карты и веера даосы, усэны упрятали, наконец, в штаны свое второе «я», которым можно было сокрушить Поднебесную. Тибетцы запихали своих чертей в ящики, а бессмертного ламу – в прозрачный гроб, откуда он глядел сквозь закрытые веки с выражением безумной печали. Понемногу сворачивался и главный аттракцион – шатер любви.
И тут появился Денис. Твердым шагом прошел он мимо подзорных труб, двуструйных огнеметов и бронзовых тазов, где кипела холодная вода. Не заинтересовали его погребальные одеяния из нефрита и золотой нити, зубные щетки из дикого вепря, разрывные ядра и мертвые вороны на волшебном огне. Безразличен он остался к опиумным трубкам, минам из бычьего пузыря и колоколам, но остановился только возле торговца воздушными змеями.
– Воздушный змей может поднять человека? – спросил он у торговца, крепкого шаньдунца из Вэйфана.
– Кэи, – отвечал ему шаньдунец, – доу кэи…
Тогда мальчишка вытащил из кармана все деньги, которые у него были, и отдал их торговцу, чтобы купить самого большого змея.
– Ча бу до, – сказал шаньдунец, – яо до идъер.
– У меня больше нет, – сказал Денис, – это все.
Тогда шаньдунец согласился продать ему змея за имеющиеся деньги, но при условии, что Денис поможет ему собрать и уложить оставшийся товар. Остаток дня Денис работал на торговца, а тот объяснял ему, что первые змеи делались из дерева, что змей – это приношение духу ветра и правильно сделанный змей – не марионетка в руках человека, а чудо, проникнутое этим самым духом ветра, и что иные змеи есть не просто змеи, а драконы, взмывшие к небесам. Говорил он также про устройство змея, про пять конструкций и две формы, про то, как змей взлетает, парит и управляется, и напоследок – как правильно ловить ветер и как беречься лески, чтобы внезапным рывком не повредило пальцы.
Когда настал вечер и все было сложено, Денис забрал своего змея и ушел прочь. У собранного шатра любви лежала на животе Рыбка и молча глядела ему вслед… Он не обернулся на нее, а она не окликнула.
Вечером, на закате, Денис вышел на берег Черного дракона, разложил и собрал змея. Змей был чудовищно длинным и оттого необыкновенно летучим, был он красным и изображал собой Тяньлуна, небесного дракона, приспособленного возить на себе богов и духов. Внешность его состояла из элементов восьми животных: голова была, как у верблюда, рога оленя, глаза демона, шея змеи, чешуя карпа, когти орла, лапы тигра и уши коровы. Дракон был бородат и, скалясь, тихо шевелился на земле, прижатый ногою, рвался и не мог взлететь…
В тот же самый миг от нашего берега к берегу китайскому отплыла последняя джонка, огромная и расписная, на ней Хого вез обратно в Китай все свои шатры, многочисленных жен, сыновей и дочерей. Среди них, маленькая и печальная, стояла и смотрела в воду Рыбка.
Внезапно все вокруг загомонили, закричали и стали показывать в небо. Кричали все и так громко, что слов было не разобрать. Рыбка не подняла головы к небу, не посмотрела, что там, просто сделала шаг по дощатой палубе и скользнула в черные воды Амура. Тихо скользнула она, как маленькая рыбка, почти без звука, без плеска, без прощального взгляда, – скользнула и ушла с поверхности в толщу вод, где плыли мимо нее равнодушными тенями, малыми и большими, осетр, кета и горбуша, таймень, хариус, корюшка-зубатка, черный и белый амур, гольян, усатый голавль, красноперый жерех, носатый пескарь, язь, конь-губарь, лещ, сазан, желтощек, амурская щука и рыба-лапша, вьюн, сом, косатка – и огромною тенью, грозным левиафаном вздымалась в тяжелых глубинах калуга… Миновав их, Рыбка спустилась еще ниже, туда, куда не достигал уже свет живого солнца, где горело иное светило – мертвое, недвижимое, вечное. Там подхватили ее веселые сестры ее, холодные ундины, подхватили, стали укачивать среди быстрых струй, негромко петь ей последнюю песню… Там, не дождавшись ответа от любимого, закрыла она навечно синие девичьи глаза свои, не знавшие счастья, но знавшие, пусть и недолго, настоящую любовь…
Никто на джонке не заметил исчезновения Рыбки, все смотрели вверх, в пламенеющие небеса, где под брюхом красного дракона парил на веревках в немыслимой выси русский мальчишка Денис Петелин. Никто его не узнал, конечно, даже Хого, один только шаньдунец, торговавший воздушными змеями, кивнул сам себе и проговорил негромко:
– Доу кэи… Все можно.
Он прикрыл ладонь от солнца и долго еще следил за полетом дракона, пока наконец не поглотила его немыслимая даль небес, а вместе с ним – и мальчика…
Люди не так часто улетали из наших мест на воздушных змеях, тем более – дети. Поэтому, когда староста Андрон вызвал к себе Григория Петелина, вид у него был суровый, почти страшный, какой, вероятно, был только у предков его, леших, когда выходили они на ночную охоту за людьми и от тяжкого шага их содрогалась земля.
– Говори! – только и сказал староста, не поднимая взгляда от земли, чтобы не испепелить незадачливого родителя.
Но Григорию было уже все равно, он смотрел не на деда Андрона и даже не параллельно земной поверхности, а куда-то выше, за звезды, а может, еще дальше. Глаза его, синие зоркие глаза охотника, полны были такой нестерпимой печалью, что даже и железный староста был потрясен.
Григорий рассказал ему, что одиннадцать лет назад, когда ярмарка в первый раз приехала на наш берег, он, движимый любопытством, отправился в любовный шатер, отыскал там молодую гибкую женщину и провел с ней ночь любви. Через девять месяцев у нее родилась девочка с голубыми глазами, которую назвали Сяо Юй, Маленькая Рыбка. Ничего этого Григорий не знал, но об этом позапрошлой ночью рассказал ему старый маньчжур Хого.
– Рыбка и твой сын – брат и сестра, – сказал он, – нельзя им быть вместе…
Когда об этом узнал Денис и понял, что им не быть с Рыбкой вместе, он не смог этого вынести и улетел на небо.
Григорий закончил, и они долго молчали. Так долго, что казалось, кончилось время и пространство изошло в пустоту. Потом дед Андрон поднял глаза и в первый раз посмотрел на Григория. В глазах его не было теперь ничего ужасного, обычные человеческие глаза, только, может, чуть более грустные, чем полагалось бы.
– Что ж, – вздохнул дед Андрон, – надеюсь, хоть у девчонки все будет хорошо.
При этих словах Григорий заплакал и вышел вон, а речные ундины на дне Амура встрепенулись и метнулись прочь от пустого места…
Староста
В поселке нашем, испокон веку стоявшем, а точнее, разлегшемся на русском берегу Черного дракона, все знали друг друга, как облупленных: русские – китайцев, китайцы – евреев, евреи – русских, и все вместе, хоть и с некоторой опаской, знали амазонок. Но знания, как говаривал еще царь Соломон, умножают печаль, но никак не делают человека счастливым. Кроме знания нужно бы еще и понимание, а вот как раз его-то и не хватало жителям Бывалого. Там же, где нет понимания, обязательно начинаются обиды, войны и прочие нестроения. Конечно, серьезных войн, таких, как с амазонками, было у нас раз-два – и обчелся, но охлаждения случались регулярно. Самое обидное, что недоразумения происходили вовсе не со зла, а, наоборот, из чистого желания угодить. Случалось, однако, это постоянно, и градус взаимных обид рос выше и дальше…
Как оно всегда и бывает, недоразумения начались с дела совсем ничтожного и даже смехотворного.
Теплым летним утром шел по русской деревне временный китайский староста, он же да-е Гао Синь. День был выходной, а потому на старосте красовался нарядный шелковый ифу – желтый с красными застежками. Когда-то желтая одежда бы под запретом, потому что цвет этот был цветом сына Неба и носить его мог только император Пу И. Но времена изменились. Во-первых, императора давно скинули, и он доживал свой век под унизительным японским покровительством в Тяньцзине; во-вторых, тут вам не Китай, а советское государство, где имели в виду не только Пу И, но и всех вообще императоров и фараонов, начиная с египетского Нармера и кончая Октавианом Августом. А китайцы так уж устроены, что если нет законного императора, то каждый считает императором себя, только помалкивает об этом до поры до времени. Так вот и Гао Синь – ничего о себе даже не говорил, зато носил желтый ифу и, значит, недвусмысленно намекал всем остальным, кто тут главный император.
Итак, временный староста прогуливался себе тихомирно, глазел по сторонам с любопытством и ковырял в ухе длинным слоистым ногтем, по которому было ясно как божий день, что человек он уважаемый, обеспеченный, и тяжелым физическим трудом не обремененный, потому что ногти на руках пусть стригут грязные работяги, но уж никак не почтенный староста да-е, всей-то заботы которого – вовремя пересчитывать приходящие к нему деньги, ибо зачем же и становиться старостой, если не для денег, а значит, почета и уважения?
Шел, выходит, Гао Синь по деревне, никого не трогал, как вдруг навстречу ему возьми и вынырни будто из-под земли тетка Рыбиха с пустыми, как пропасть, железными ведрами. Некоторые потом на ведра эти и клепали: дескать, если бы ведра полными были, ничего бы не случилось, а пустые всегда к беде – исключение только для ведер поганых. А я так думаю, что Гао Синь мог бы и сам догадаться, что не стоит заводить разговоров с русской женщиной, особенно если она с пустыми ведрами через всю деревню чешет. Но староста не знал наших примет, он, видите ли, решил сделать приятное тетке Рыбихе.
Тут еще надо одну вещь поиметь в виду, прежде чем идти дальше: китайцы так толком и не выучились русских людей различать, им все наши на одно лицо чудились, как бы из одного полена деланные буратины. Но, конечно, баб от мужиков отличали все равно, потому что мы не в Шотландии и мужики у нас всенепременно носили штаны, а бабы – юбки и платья. Так вот, мужиков и баб китайцы различали, но дальше этого так и не пошли: с ходу видят, что баба, а что именно за баба и к чему она – не разбирают. Может, это бабка Волосатиха, может, тетка Рыбиха, может, жена Тольки Ефремова или любая другая тетка – по выбору, у нас их еще много оставалось, несмотря на памятный женский исход в поселок амазонок. Конечно, правило это распространялось только на малознакомых женщин. Если китаец вступал с кем в отношения, особенно денежные, тех он запоминал намертво, поленом не вышибешь. Ну, а остальные так только, поверху, главное – понимать, мужик перед тобой или женщина, детали не важны.
Вот, значит, увидел Гао Синь перед собой тетку Рыбиху, не распознал ее по доброй китайской привычке, но приятное сделать все-таки решил. Вынул палец из уха, заулыбался во всю ширь и говорит:
– Сколько лет, бабка? Небось уж девяносто?
– Опупел ты, китайская голова, – возмущенно отвечала ему Рыбиха. – Сорок пять всего!
– Ну? – удивился Гао Синь. – А выглядишь на все сто…
То есть сам-то Гао Синь ничего плохого сказать не хотел, желал только польстить в меру небольших своих сил. Все, кто китайские книги читал, знают, что старение – это не просто равномерное движение к протягиванию ног, а эстетическая категория, мудрость там, благословение богов и все в таком роде. Хочешь понравиться женщине в годах, накинь ей лет двадцать, тридцать, а то и все пятьдесят, – вот она и будет тобою довольна.
Но тетка Рыбиха ничего этого не знала и не читала. В силу необразованности она оскорбилась до печенок, взяла пустые ведра и ведрами этими начала так дубасить китайского старосту, что звон от одной только его головы еще долго разносился на всю округу.
На отчаянные крики сбежалась половина русского села и еще половина китайского. С огромным трудом отбили у озверевшей бабы Гао Синя, повели его домой. Он шел с окровавленной вспухшей мордой, бормотал растерянно:
– Ничего не делал, только спросил…
Ну, кое-как дело замяли, тетке Рыбихе китайцы в знак извинения отослали нефритовые заколки и три фарфоровых чайника с цветами и петухами кисти неизвестного художника. Но Рыбиха все равно на старосту косилась недобро, тем более что и чайники оказались негодящими – маленькими, а стоило их поставить на огонь, так они все полопались.
Другая случилась история с престарелым дедом Гурием, неимоверно страдавшим от запора и прочих тяжелых хворей, которому лет было то ли сто, то ли двести, сам он не помнил точно, а другие и подавно не знали. В свободное от болезней время Гурий сочинял частушки, или, как он сам говорил, народное творчество, иногда – с матерным финалом. Страсть эту с ним мало кто разделял, охотники наши были люди серьезные и обстоятельные, похабных частушек петь не хотели и к деду относились с подозрением.
Впрочем, Гурий не унывал и частушки свои распевал сам, обычно это случалось в банный день. Подобравшись к бане, где намыливались бабы, он вылезал из кустов, как черт из дупла, прокашливался, и а капелла, то есть без гармошки, заводил:
Не ходи, коза, по мосту,
не стучи копытами,
не беритесь, девки, за…
руками немытыми!
Когда смеющиеся бабы, вынырнув из бани без ничего, в одних только розовых тряских телесах, отгоняли его прочь шайками и вениками, дед Гурий трусцой перемещался метров на пятьдесят, но похабных песнопений не оставлял.
Я не знаю почему,
по какому случаю,
на коленках нет волос,
а повыше кучею! —
голосил он драматически, словно возвещая о грядущем конце света.
Понятно, что из-за таких проделок глядели на Гурия, как на старичка смешного, но к серьезному делу негодного.
Сам же дед в веселую минуту аттестовывал себя так:
– У народа, у языкотворца, выжил горький забулдыга-подмастерье.
При хорошем настроении дурь его достигала пределов ойкумены: он был убежден, что его знают даже на том берегу Амура, знают – и прислушиваются к нему!
Гурий, как уже говорилось, в лечебных целях часто кушал водку и самогон, вследствие чего допивался до чертей, среди которых был один особенно большой и наглый, так что Гурий поклонялся ему, как зеленому змию, тому самому, что выгнал Адама и Еву из рая. Однажды дед допился до таких чертей, что стал этими самыми чертями водку закусывать – ему вдруг стыдно сделалось, что он кушает, не закусывая.
Кроме неформального статуса старого пердуна у деда Гурия имелся и официальный чин: он принадлежал к Большому совету, который разрешал в поселке самые важные вопросы и в который, помимо него, входили отец Михаил и староста Андрон. Это было очень удобно, потому что, когда приходилось решать сомнительное дело, всегда вперед дубовой заслонкой выставляли деда Гурия. Если дело решалось к выгоде русской общины, то и славно; если же нет, можно было не выполнять общих решений, ссылаясь на умственную немощь парламентера.
Когда русская деревня задолжала еврейской столько денег, что цифру вслух даже произносить было неудобно, как обычно, прикрылись дедом Гурием. Он, заявила заимодавцам русская община, все разрешит в наилучшем виде.
И впрямь, когда ввечеру следующего дня еврейская делегация, состоявшая из Иегуды бен Исраэля, тихого Менахема и банковского деятеля Арончика чинно постучалась в покосившуюся избушку Гурия, изнутри раздался дребезжащий приветливый голос:
– Заходите, жидки, не заперто!
Евреи вошли в дверь, озираясь по сторонам испуганно – как бы по старости дом не обвалился прямо на них. Дед Гурий сидел за длинным неструганым столом и щерился беззубой улыбкой, отчасти напоминая тем Бабушку Древесную лягушку. Гости, помявшись и не дождавшись приглашения, молча сели по другую сторону стола и воззрились на Гурия.
Тот жестом уличного фокусника достал из-под стола трехлитровую длинную бутыль, в которой взмывал и пенился самогон. Разлив мыльную жидкость по оловянным кружкам, дед крякнул и сказал, озирая делегацию веселым глазом:
– Ну, жидки, выпьем?
Жидки покорно выпили, после чего почувствовали себя от самогона не совсем хорошо. Однако дело ждать не могло, поэтому, пересилив себя, взялись все-таки за переговоры.
– Мы пришли, пан Гурий, по известному вам вопросу… – начал было Иегуда.
– Еще выпьем? – перебил его дед Гурий, разливая по новой.
Отказаться было неудобно, так что выпили еще. В глазах у делегации все поплыло и перевернулось вверх ногами.
– Чувствительно просим панство в обозначенные сроки вернуть… – опять заговорил Иегуда, едва справившись с икотой, неизвестно откуда возникшей в его старой еврейской груди.
– Ну что, жидки, по третьей накатим? – не слушая его, спросил дед Гурий.
Поняв, что разговора не состоится, жидки молча встали и ушли, не прощаясь…
Конечно, то был нетипичный случай – случай, когда простотой и искренностью удалось преодолеть дьявольскую изворотливость. Обычно же хитростью евреи превосходили даже китайцев, не говоря про русского человека, который так честен и прям, что даже если и обманет кого по простоте душевной, то непременно себе в ущерб.
Впрочем, ошибки совершали и осторожные евреи. Прослышав из неизвестных источников, что китайцы употребляют крыс, еврейская молодежь во главе с Арончиком изловила одну, побольше и покосматее, и принесла ходе Василию – посмотреть, как он будет есть ее живьем. Делегация вопросительно стояла на ступенях ходиного дома, жертвенная же крыса, вблизи несколько похожая на черта, злобно пищала, поднятая за хвост цепкими руками Арончика, и гнулась во все стороны, желая цапнуть обидчика за палец. Некоторое время ходя Василий смотрел на крысу с непроницаемым лицом, потом перевел взгляд на евреев и теперь глядел уже на них – с тем же примерно выражением.
– Ну что, – спросили его нетерпеливо, – будете кушать?
– Это не та крыса, – отвечал ходя, – ешьте сами.
Обиженные отказом, евреи бросили крысу в Амур, где она, с поднятыми над водой усами, булькая и задыхаясь, поплыла на ту сторону, а сами молча разошлись по домам.
Другая драматическая история вышла, когда уполномоченный еврей из района заплутал в лесу. Еврею этому, хоть и уполномоченному, пришлось солоно – беглые уголовники встретили его в чаще, избили и обобрали до нитки, до голых подштанников. Полдня, подчиняясь ветхозаветным инстинктам, брел он невесть куда, пока, на свою беду, не выбрел к Амуру, точнехонько к китайской части села. Обрадованный донельзя, он вошел в дом к временному китайскому старосте и попросил о помощи.
Гао Синь долго рассматривал его сквозь мудрый прищур в глазах, потом улыбнулся одобрительно и сказал:
– Сейчас я людей соберу, а вы перед ними потанцуете немного…
– Как это – потанцую? – изумился еврей. Он был партийным и не позволял себе танцевать даже перед Богом, не говоря уже о посторонних китайцах. – С какой стати мне танцевать, зачем?
– Жизнь очень тяжелая, много работаем, – вздохнул староста. – Надо поразвлечься чуть-чуть, вар-вар будем делать, а то совсем нехорошо.
Уполномоченный еврей танцевать отказался наотрез, но последствия этого все равно были самые неприятные. Евреи обиделись на китайцев и даже на некоторое время прервали с ними всякие деловые отношения. Встречая же на улице ходю Василия, евреи вместо приветствия улюлюкали и кричали:
– Ходя, станцуй!
Ходя не танцевал, зато из домов, словно тараканы из щелей, выходили китайцы и смотрели на евреев неприятно, без всякого выражения на смуглых и желтых лицах.
Однако все это были мелкие огорчения, которые мгновенно забылись перед лицом по-настоящему большой беды.
Как-то темной ночью в четверг, когда все китайцы давным-давно улеглись спать, в фанзу к старосте Гао Синю кто-то постучался. Думая, что это кто-нибудь из соплеменников пришел просить деньги в долг или, наоборот, предаться любви с Айнюй, которую как раз привезли с того берега на любовную страду, староста, не спрашивая, отпер двери.
Уже отперев, он понял, что совершил роковую ошибку.
На пороге стояли двое чужих.
Одеты они были, как все охотники, но староста безошибочным китайским нюхом уловил, что это чужие. Лица у чужих были застывшие, как у людей, державших смерть в руках.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.