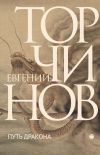Текст книги "Люди черного дракона"
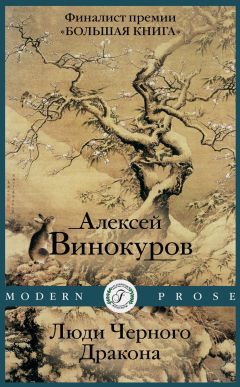
Автор книги: Алексей Винокуров
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
Помощник Накамуры, старый моряк Сань Годи, как мог, уговаривал команду потерпеть немного, но с каждым днем делать это становилось все труднее и труднее.
– Он нас променял на девку! – вопили обиженные пираты. – Чего еще было ждать от японца!
Пока дела шли хорошо, никто не вспоминал, что Накамура – японец, как только запахло жареным, это сразу стало очень важным.
Наконец Сань Годи решился и пошел прямо к капитану.
– Капитан, – сказал он с прямотой старого разбойника, – еще немного, и команда разнесет корабль, а нас утопит, как щенят.
Накамура посмотрел на него с тоской. Глаза у него были, как у побитой собаки – не утопленной пока, но близкой к тому.
– Что же мне делать, старина Сань? – спросил он. – Ведь я так люблю ее, что сердце у меня сжимается и готово разорваться в любую секунду.
– Так ты ничего не добьешься, – отвечал ему Сань Годи. – Надо похитить девушку.
– Она не любит меня свободной, почему ты думаешь, что пленницей она полюбит меня? – спросил Накамура.
– Потому что ничего другого ей не останется, – твердо сказал Сань Годи.
Накамура повесил голову и ничего не сказал. Но на следующий же день лодку старой Сяо Пан атаковали три пиратские джонки. Старуха, видя, что силы неравные, просто нырнула в прохладные воды Амура и вынырнула уже у берега. Маруся же посчитала бегство позором и вступила в бой с пиратами. Солоно пришлось речным бродягам, ни одна победа не доставалась им таким трудом. У трех пиратов были выбиты зубы, у двух – сломаны носы, один лишился глаза, а еще один навеки упокоился на дне Черного дракона. И все же Марусю схватили, замотали сеткой, словно редкую рыбу, и доставили к капитану.
Увидев Накамуру, Маруся сверкнула зелеными глазами – словно молния ударила.
– Ты! – закричала она. – Я убью тебя, японская морда! Я перегрызу тебе горло!
Храбрый китайский пират задрожал. Но он испугался не гнева Маруси, он страшился утратить навсегда ее любовь.
– Любимая, – сказал он робко, – это все для тебя. Ты будешь царицей Черного дракона, ты будешь властвовать над душами всех, кто плавает здесь и кто живет по обоим его берегам.
Секунду Маруся сверлила его зеленым лучом из глаз, потом вдруг захохотала.
– Царицей, говоришь? – спросила она. – Ладно, развяжи меня.
Он послушно исполнил приказание…
И с этого мгновения началась у пиратов совсем иная жизнь. Маруся по-прежнему не отвечала Накамуре на его чувства, однако развратила всю команду.
Капитан сделался жалким. По вечерам, совершенно пьяный, он выходил к мачте, обнимал ее и плакал, глядя на заходящее солнце – рыжее, сладострастно трепещущее в жарких струях речного воздуха. Но плакать было бесполезно: теперь его сторонились все пираты, даже верный Сань Годи. Накамура рыдал, словно ребенок, но поделать ничего не мог.
Черной ночью Маруся появлялась на корме совсем голая и серебристая, словно русалка, пела под луной тоскливые песни, на которые выходил из лесу блудливый мохнатый волк и подвывал ей, твердо стуча длинным хвостом по земле. Капитан, утирая слезы, тенью подкрадывался к Марусе сзади и набрасывал ей на плечи дорогие меха из песцов, шелковые халаты, нефритовые и золотые ожерелья, жемчужные бусы – все, что добывалось пиратским промыслом или могло быть куплено за любые деньги. Но она безразличным движением плеч сбрасывала все это в речные пучины, и вечно голодные амуры жадно глотали жемчуг, рвали шубы и платья в мелкую несъедобную пыль.
Однажды Накамура сам подошел к Сань Годи. Помощник был хмур и рассеян и едва удостоил капитана кивком.
– Я умираю, – горько сказал Накамура. – Что мне делать?
Сань Годи долго молчал, словно не слышал своего капитана. Но наконец жалость пересилила его гнев. Он повернул голову к Накамуре и произнес холодно:
– Ты знаешь русскую песню про Степана Разина?
Накамура посмотрел на него со страхом:
– Что ты предлагаешь мне? Я никогда на такое не решусь…
– Ну, так умри, – процедил сквозь зубы Сань Годи, – ни на что другое ты не годишься.
И, видно, так немилосердна была Маруся, что пожар любви, жарче которого нет в мире, даже когда горит тайга, даже извергается вулкан, – пожар любви в сердце старого пирата Накамуры угас, словно залитый огнем ее жестокости. Впервые за много дней он выпрямил спину и огляделся по сторонам. Взгляд его прояснился и единым махом охватил все вокруг.
Земля была прекрасна. На ней царствовал розовый рассвет, и белые росы высыпали по утрам на просмоленной ночным мраком листве, и нежным касанием освежал пылающие щеки речной ветерок, и прозрачно шевелились в глубинах жирные рыбы с черно-полосатыми спинами, торчали их усы, а на том берегу девки и бабы, слившись в едином песенном союзе, выводили протяжные песни, где было все: и рассвет, и закат, и жаркие ночи, и рыба в реке, и зверь промысловый в тайге, и не было только любви – мучительной, бессмысленной, гибельной.
И вот однажды утром, решившись окончательно, Накамура разбудил остальных пиратов. Ослабленные бездельем, развращенные неподчинением, вставали они с трудом, бранились, со стоном и легким припердом падали назад, на жесткие мореходные койки, раскидывали во все стороны руки и ноги, как не свои, всхрапывали, забывшись, потом вдруг, придя в себя, подскакивали, смотрели ошалевшим взглядом на соседей, которые, почесывая зудные от блох потаенные места, лезли из трюма наверх, на палубу.
Когда все пираты, неодобрительно позевывая и хлопая на голых плечах комаров, встали в неровный ряд на корме, Накамура вышел перед ними, во всей славе, с сияющим взором, так что пираты на миг забыли недели его слабости и бесчестья, когда, словно голый червь, пресмыкался он на обшарпанных досках вокруг жестокосердной Маруси. Сама же Маруся как ни в чем не бывало сидела на носу и глядела в черные воды Амура и кивала слегка, будто увидела там знакомых русалок.
– Братья, из-за женщины я забыл свои обязанности перед вами, – начал Накамура. – Я забыл об уважении, о долге и о ритуале-ли. Нет мне прощения!
Он низко поклонился команде. Пираты стояли молча, недвижимо, лишь изредка кое у кого вспыхивал на каменном лице серый желвак.
– Соловья баснями не кормят! – наконец тяжело проговорил старший помощник Сань Годи. – Кто виновен, тот искупает свою вину. Кто не может ее искупить, ищет справедливости у Желтых источников. Что предпочитает наш храбрый капитан?
Ни родин мускул не дрогнул на лице Накамуры, еще вчера столь слабого, что ребенок мог побить его совершенно безнаказанно.
– Я искуплю свою вину, – сказал он, и голос его был тверд.
Пираты радостно зашумели – их отчаянный главарь снова возрождался к жизни.
Не говоря больше ни слова, Накамура подошел к сидящей на корме Марусе, взял ее железной рукой за волосы, посмотрел в зеленые, словно колодцы, глаза.
– Прощай, – сказал он ей.
И опять ничего не изменилось в лице его, только голос дрогнул в последний миг.
– Прощай, – равнодушно отвечала Маруся.
Капитан склонился к девушке, могучие мышцы его напряглись, заиграли в утреннем свете. Раздался стон и тяжелый плеск падающего в воду тела. Пираты на миг замерли, а потом слабое «ох!» пробежало по их рядам.
Маруся брезгливо отряхнула ладони, оглядела пиратов.
– Плывем к морю, – повелительно сказала она. – Здесь больше нечего делать…
Лекарь
Вот некоторые говорят, что судьба не ошибается.
Эти, которые так думают, видно, ни разу не были в нашем селе Бывалое, что на берегу Черного дракона, и даже в его окрестности не заглядывали, куда ход никому не заказан, было бы желание.
Еще как ошибается судьба, еще как ошибается! И не только судьба, но и куда более высокие инстанции иной раз дают такого маху, что только руками разведешь, а сказать ничего нельзя – просто нечего сказать, да и все тут.
К примеру, живет человек, и вдруг ни с того ни с сего происходит с ним такое эдакое, чего нельзя было не только представить себе, но даже и в страшном сне вообразить. Впрочем, нет смысла придумывать тут небывалые истории, гораздо проще рассказать правду, как она есть…
…таким образом, звали его Рахмиэль, и родился он на самой окраине еврейской деревни, в маленьком бревенчатом домике, таком маленьком, что даже не из бревен он состоял, а из щелястой пегой доски, готовой при первом же нажиме хрустнуть и сломаться и обнажить все внутренности этого дома, бедные и убогие, как это случается в еврейских домах, живущих по закону, данному пять тысяч лет назад Моисеем и до сих пор почему-то не забытому.
Мать его была не рада сыну; и отец, о котором все уже прочти забыли, после того как погребли его тяжелые воды Черного дракона, разорвали слабые легкие, свели смертной судорогой челюсти, придавили ко дну так, что не подняться, – отец этот, приведись ему встать со своего холодного ложа, тоже вряд ли был бы рад наследнику. Потому что и наследовать ему было нечего, и само слово «наследник» звучало тут грубой издевкой, ведь и без него полно было ртов в семье, голодных детских ртов: Дора, Лея, Мирьям, Фрида, Хая, Акиба, Ефим и он, Рахмиэль, маленький последыш, выжидок, еще отцом зачатый, но рожденный уже без него, сиротой, хоть и не круглой, но горькой и беззащитной.
И вот, отец Рахмиэля лежал на дне реки, холодный, изогнутый, по самые глаза покрытый водорослями, потонувший то ли случайно, то ли сам по себе, не вынесши тягот нищей еврейской жизни, а потому не мог никак высказать свое недовольство, а у матери на это не было сил – все ушли на роды да на то, чтобы заплатить повитухе три яйца и меру пшеницы. Словом, ничего от младенца не ждали, даже имя Рахмиэль нашли ему не сразу, и некоторое время жил он вовсе без имени, как котенок, который, оторван от матери, орет и ползает по твердой земле, и всяк понимает, что не жилец он на этом свете, не жилец.
Однако, вопреки всем предсказаниям и косым взглядам, все-таки он выжил и даже получил имя – не хуже прочих.
И вот это-то имя (как и сам факт рождения среди евреев) было едва ли не самой тяжелой ошибкой Господа со времен Ноева потопа. Потому что родиться он должен был в самом центре китайского села и зваться Ли, Ван или, на худой конец, Чан. Так он в конце концов и назвался, когда подрос, и понял свое подлинное предназначение, и сменил тогда природную фамилию Зильберштейн на благоприобретенную Чан, и стал именоваться Рахмиэлем Чаном, что, конечно, возможно было в только в нашем селе и ни в каком другом.
Нет, не то чтобы в других местах имена висели на человеке вечно, как вериги судьбы. Китайцы, например, сплошь и рядом перелицовывали родные прозвища на иностранные – для удобства и чтобы сколотить деньжат, и не только у нас в деревне, но и по всему северу Китая. Китаец вообще к имени относится легко, имен у него этих – как гороху в супе, в том числе и иностранных, чтобы с заморскими чертями дружбу водить, потому что ни один черт китайского имени не запомнит, такие они сложные: Ван, Ли, Чан, Ма – и прочее, запомнить никак нельзя. Вот потому и называются они джонсонами и сэмами, хотя какой там из китайца Сэм, не говоря уже про Джонсона?
Но это правило только китайцев касается. И отродясь не было такого компота, чтобы русский, а тем более еврей вдруг стал напяливать на себя ифу, прищуриваться, кланяться на мелкий манер и тем паче именоваться преотвратными китайскими прозвищами.
Рахмиэль Чан был первым и единственным, который для китайского удобства позабыл про гордость еврея и попрал все законы и обычаи своего рода. И дело тут как раз было не в сумасшествии, на которое обычно списывают все, чего не могут понять, а в ошибке судьбы, о которой уже говорилось выше.
В юные годы рядовой сын Израиля, познавая какое-нибудь мирское ремесло, или гойскую науку, или, на худой конец, игру на скрипочке в клейзморим, одновременно с этим часами сидит за Танахом, постигая удивительную устную традицию слова Божьего. Наш же Рахмиэль, позабывши еврейские книги и всяческое ремесло, предался гордыне и с утра до ночи пропадал в китайской части села.
Малые желтые братья наши, вообразившие, что мальчонка ходит таскать огурцы с их китайского огорода и заниматься другим попутным разбоем, поначалу приняли его холодно: пялились во все глаза, и со смешками тыкали в него пальцами. Однако Рахмиэль, будущий Чан, проявил недюжинную выдержку и продолжал каждый день являться в китайское село, как на работу. Со слов старших евреев он знал, что китайцы чадолюбивы едва ли не более, чем сами евреи, и надеялся, что рано или поздно эта всеобъемлющая любовь к детям сделает-таки и его самого персоной грата. Однако Рахмиэль не знал одной простой тайны: китайцы любили своих детей, именно своих, а не всех и всяких. Еще они могли стерпеть пребывание посторонних китайских детей, чтобы не портить отношения и связи-гуаньси, но длинноносый сопляк из стана чертей-гуйцзы вряд ли кого мог растрогать.
Видя, что ни огурцам, ни помидорам никакого урона нет, а жиденок-ютайцзы продолжает как ни в чем не бывало ходить к ним каждое утро, китайцы потеряли к нему всякий интерес. А он все ходил и ходил. В конце концов к нему так привыкли, что уже почти не отделяли от остальных детей, несмотря на длинный нос, курчавые волосы и вылупленные на свет, словно вечно удивленные глаза.
Теперь китайцы даже подкармливали его иногда, поскольку Рахмиэль был вечно голодным и ребра его торчали, как стиральная доска. Но не еда влекла Рахмиэля сюда, а что именно – никто не мог догадаться. Причина его хождений в китайскую часть села была настолько необычной, что сам Рахмиэль до поры до времени боялся о ней проговориться.
Тайна эта была удивительной и постыдной для маленького еврея: ужасно ему нравилась китайская письменность-чжунвэнь. Загадочные иероглифы, иной раз ясные и прозрачные (вроде того же иероглифа «чжун», которым китайцы обозначают всякий центр, в том числе и свое собственное государство), а иной раз запутанные до неподъемности, совершенно зачаровывали его. В них была и строгость, и безудержный размах, стройность и прихотливость, пограничная с хаосом, а еще был в них особенный смысл, через которые счастливцу, их понявшему, открывались все тайны мироздания, а если и не все, то, как минимум, главные.
В этих удивительных знаках прозревал он всю тысячелетнюю историю не только китайского народа, но и, может быть, всего человечества. Символы эти, столь прекрасные и многохитростные, не могли быть изобретены никаким человеком, их наверняка дал китайцам Яхве-Элохим-Адонай. Тем более что и сами китайцы называли иероглифы не чем иным, как небесными письменами.
Вот так и вышло, что, появляясь в китайской деревне, Рахмиэль часами стоял возле какой-нибудь вывески и пялился на красную кудрявую филигрань, выписанную словно бы небрежно, но при этом с удивительной точностью, он бы сказал – каллиграфической, если бы знал это слово.
Конечно, рано или поздно этот болезненный и даже дикий для еврея интерес должны были заметить. И рано или поздно его заметили.
Как-то раз после обеда, когда китайцы, не бывшие на работах в поле и не рыскавшие по лесу в поисках промыслового зверя – шерстистого и мехового, – спали на своих канах младенческим сном всемирных захребетников, к Рахмиэлю подошел старый Чан Бижу, крепко взял его за руку сухонькой лапкой и повел за собой. Рахмиэль пошел за ним и, еще не зная почему, вдруг почувствовал, как сердце в груди у него забилось гулко и сильно, словно где-то вдали начался минометный обстрел.
Старый Чан Бижу оказался единственным из наших китайцев, не имевшим русского имени, и не потому, что не мог найти подходящего, а именно что не хотел. Он был подлинным знатоком китайской литературы-вэньсюэ, да и всей культуры-вэньхуа. Еще при императрице Цыси он сдал экзамен на чин гунши и, если бы не переворот, со временем наверняка удостоился бы звания чжуанъюаня, а то и вовсе цзиньши цзиди, но синьхайская революция прервала традицию государственных экзаменов и едва не прервала самую ученость в Поднебесной.
Чан Бижу был человеком глубоким, знающим не только книги, но и жизнь, что редко встречается даже среди сюцаев, не говоря уже о подобных ему цзюйжэнях, полностью погрузившихся в океан книжной премудрости. Как всякий хорошо образованный китаец, он писал стихи и рисовал картины гохуа, а любимым его жанром в живописи был жанр шаньшуй, «горы и воды», особенно почитаемый мудрецами в старом Китае.
И вот такой-то человек взял себе в ученики маленького Рахмиэля Зильберштейна, взял, не ставя предварительных условий, не оговаривая плату за обучение, не требуя даже непременных знаков почтения – подарков, на которые, как всем было известно, ни у матери Рахмиэля, ни подавно у него самого не было никаких средств.
С этого дня жизнь Рахмиэля превратилась в сказку, в нескончаемый праздник, который переходил изо дня в день, даже без перерывов на отдых, потому что путь учения не знает перерывов, а учащийся, вставший на этот путь, должен во всем уподобиться идеалу мудреца древности, и не такому даже, как Конфуций, а такому, о котором сам Конфуций говорил с восторгом и благоговением.
Днями напролет Рахмиэль теперь копировал изречения древних книжников и выдающихся поэтов, переводя на это уйму газетной бумаги, которую Чан Бижу брал у старого еврейского мистика Соломона, потому что все деньги свои и все свободное время Соломон тратил на покупку и толкование советских газет, и газет этих у него скопилось такое количество, что для хранения их он выстроил отдельный амбар, куда не пускал никого, даже мышей. Величайший пиетет испытывал Соломон к газетам – по ним он судил о небе и земле, о человеке и обществе, отрицал науки и предсказывал потрясения и катастрофы: некоторые сбывались лишь частично, зато другие только и ждали момента, чтобы свершиться во всем положенном им ужасе.
Так или иначе, два старых книжника – еврейский и китайский – легко нашли общий язык, и Чан Бижу уговорил Соломона давать ему газеты, пообещав, что от расписывания их небесными знаками тайная мистическая сила их не только не убудет, но даже и напротив – воспарит до неизмеримых высот.
Поначалу Рахмиэль знал только копировать иероглифы и более ничего, как обезьяна Сунь Укун повторяла во время учения у монаха Суботи таинственные мантры, не понимая их настоящего смысла. По первости выходило все вкривь и вкось, да и тяжело было перерисовывать столь сложные письмена, не ведая их порядка, смысла и составных частей. Но даже в этом бестолковом с обычной точки зрения деле Рахмиэль проявил такой талант и усердие, что Чан Бижу быстро смилостивился и стал наставлять его по-настоящему.
– Пора, – сказал он Рахмиэлю, – тебе постигать подлинное искусство.
И он показал мальчишке составные элементы любого иероглифа, с которых и начинается всякое учение: все эти откидные, наклонные, восходящие, с крюком и без крюка, трижды ломаные с вертикальными, точки вправо и точки влево, и много еще чего – того, что в просторечии зовется чертами или элементами, сянь да бянь. Он рассказал основные правила написания иероглифа: сверху вниз, слева направо, сначала горизонтальные, потом вертикальные и откидные, сначала внешний контур, потом внутренний – и все такое, что знают книжники, а обычным людям без надобности. Он непреклонно указал на главное правило современной каллиграфии – всякий иероглиф должен соотноситься с остальными, и рисуется так, как будто вписывается в невидимый квадрат, за пределы которого не должна выступать ни единая линия и никакая точка.
Когда Рахмиэль усвоил это все – а он усваивал быстро, быстрее даже, чем натуральные китайские дети, – Чан Бижу перешел к следующему этапу. Он показал ученику ключи, из которых состоит всякий иероглиф и будет состоять до скончания века, покуда вечность не разверзнется, словно бездонная пропасть, и не поглотит небо и землю. Рука, вершок, нога, отец, шаг, поле, верста, трава, бамбук, яшма, металл, зерно, раковина, черепица – эти ключи, и еще десятки других, выпуклых и вогнутых, высоких и распластанных, тощих и надутых, расплывшихся и нажилившихся, словно зверь на охоте, и, конечно, двенадцать циклических знаков, стоявших в основе любого знания о природе и о делах, в ней происходящих, все это Рахмиэль выучил в кратчайшие сроки, и все знал теперь, как свои пять пальцев, и даже гораздо лучше. И не было случая, чтобы он огорчил своего учителя-шифу небрежением, невниманием или ленью.
Чем дальше вникал Рахмиэль в хитрую науку каллиграфии, а равно в соблазнительное ее искусство, тем больше очаровывался он им. Да и как было не очароваться? Чего стоили одни только названия различных почерков, которых Чан Бижу знал не менее пятидесяти, а всего же общим счетом переваливали они за сотню, так что, вероятно, не было в Поднебесной человека, который бы знал их все, если, конечно, не считать Великого Юя, который, ныне покойник, лично передал людям небесные эти знаки, в просторечии именуемые ханьцзы – китайские иероглифы.
Итак, вот лишь некоторые из тех почерков, которыми владел Чан Бижу, и которым научил он Рахмиэля: почерк подвешенных игл – сюань-чжэнь-шу; почерк облаков – юнь-шу; почерк свисающих росинок – чуй-лу-шу; почерк головастиков – кэ-доу-шу; почерк черепах – гуй-шу; почерк цветов – хуа-шу; почерк драконов – лун-шу; почерк солнц – жи-шу; почерк объеденных червями листьев – чун-ши-е-шу – и многие, многие другие.
Поистине, когда смотрел Рахмиэль на оттиски с каменных стел великих мастеров прошлого, которые разворачивал перед ним его учитель, а уже тем более когда брался сам их воспроизводить, из-под кисти его выныривали и взмывали вверх гибкие драконы, путались в белых плывущих облаках, и поднимаясь выше и выше, достигали жарких, словно цветы, и неведомых астрономам солнц. И такой был у Рахмиэля вкус к великому и древнему искусству высечения иероглифов, что даже пожилой и все повидавший каллиграф не уставал изумляться выразительности и зрелости мальчишеской руки.
Старому Соломону, который временами заходил к Чан Бижу узнать о посмертной судьбе своих газет, Чан Бижу всякий раз говорил, что они попали в надежные руки и маленький Рахмиэль еще всех их прославит в Поднебесной – и своего учителя, и старого Соломона, и даже советские газеты, которые и думать не чаяли, что им выпадет честь нести на себе знаки величайшего из каллиграфов, которого знала земля со времен Ван Сичжи.
Да, именно такую судьбу прочил старый гунши своему ученику, маленькому Рахмиэлю, – стать величайшим каллиграфом, который прославится не только в Поднебесной, но и во всех частях света – и не меньше. Однако судьба распорядилась по-своему, как это обычно ей свойственно, когда все думают, что выйдет так или эдак, а выходит в конце концов не так и не сяк, а совершенно тридцать третьим образом.
Среди книг, которые давал копировать Рахмиэлю Чан Бижу, попался и старинный свод древнего медицинского трактата «Хуаньди нэйцзин». Согласно легенде, трактат это писал еще сам великий Желтый предок, он же – Желтый император, достигший бессмертия. Трактат совершенно заворожил Рахмиэля, даром что он половины слов в нем не мог разобрать, несмотря на объяснения Чан Бижу. Однако это не помешало ему понять наконец подлинное свое призвание. Призвание это состояло в том, чтобы стать врачом китайской медицины и спасать людей – если повезет, то всех, как будда Милэ, а нет, так хотя бы тех, с кем пересечет судьба.
Итак, первые сведения о китайской медицине, сперва мутные и туманные, Рахмиэль получил из «Хуанди нэйцзин» и краткого руководства по иглоукалыванию. Позже, специально по его просьбе, Чан Бижу стал выписывать с того берега Черного дракона книги по медицине и даосским практикам. Из них Рахмиэль узнал о таинственной энергии ци, пронизывающей и животворящей весь мир, о разделениях ее на ци прежденебесное и посленебесное, о вращении ци по большой и малой космической орбите, о каналах цзин-ло, о прижиганиях и укалываниях золотыми иглами, о гимнастике даоинь и диагностике пульсовой и визуальной, о методах массажа и лечебных свойствах растений и минералов.
Свод по иглоукалыванию и моксоприжиганию «Чжэнь цзю да чэн» и «Нань-цзин», «Канон трудностей», стали его настольными книгами. Он штудировал их так же яростно, как некогда изучал часами китайские иероглифы, хранившие в себе такие тайны, которая не снились даже многомудрым еврейским патриархам.
К этому же времени относятся его первые опыты в лечении живых людей. Старый Соломон подцепил где-то простуду, но, и выздоровев, продолжал надсадно кашлять, никак не мог успокоиться. Бабка Волосатиха дала ему отвар для облегчения, но недоверчивый Соломон не стал его пить, пролил как бы случайно, а за новой порцией не пошел. Узнав, что Соломон болен, Рахмиэль обрадовался необыкновенно.
– Это будет первый человек, которого я спасу своей необыкновенной врачебной наукой, – сказал он сам себе. – Тем более, я обязан ему газетами, на которых изучал высокое искусство каллиграфии.
Сказав так, Рахмиэль стал думать, чем бы помочь бедному Соломону. Конечно, для истребления кашля имелись способы простые и известные, но каков же был бы он после этого великий эскулап, если бы пользовался способами простыми и известными? Нет, тут следовало найти что-нибудь особенное, необыкновенное, соответствующее благодарности Рахмиэля. И это особенное было быстро найдено.
Наш юный доктор хорошо знал о целебных свойствах нефрита. Драгоценный белый нефрит, и черный нефрит, и красный нефрит, и голубой нефрит или даже желтый нефрит, или, попросту, юй, обладали мощнейшими лечебными свойствами, надо было только знать пропорцию и время, когда следовало употреблять лекарство. Нефрит перетирали в песок, добавляли в чай или другое питье, пили его, ели – и непременно выздоравливали. Если же и не выздоравливали, никакой особенной беды в этом не было – в запасе китайской медицины существовало еще множество безотказных методов. Как указывалось в книгах, особенно хорошо нефрит помогал от злых духов.
Правда, Соломон не был одержим духами, если только не иметь в виду дух учености, который, впрочем, особого вреда окружающим не приносил. Однако это было неважно, нефрит ему все равно годился.
Итак, Рахмиэль попросил знакомого китайца Пашу привести с того берега Амура нужный сорт нефрита и дал ему все деньги, которые скопил, пока Чан Бижу учил его каллиграфии. Паша, не обинуясь, набрал пригоршню гранитной крошки и отдал Рахмиэлю под видом нефрита. Рахмиэль засыпал гранитную крошку в чай, думая, что готовит лекарство. Чаем этим, втайне от Чан Бижу, он угостил старого Соломона. Тот немного удивился, почему в кружке лежат камни, но Рахмиэль соврал ему, что это такой чрезвычайно полезный ледяной сахар, который непременно нужно проглотить. Старый Соломон, несмотря на свою ученость, был человек бесхитростный. Он выпил чаю и пошел себе дальше. Рахмиэль же сидел в доме Чан Бижу и радовался, что вот, вернется сейчас Соломон домой и выздоровеет, как по мановению волшебной палочки.
Однако к вечеру Соломону сделалось нехорошо. Он слег. К утру у него открылось кровохарканье. Потом – непроходимость. Он ослаб и уже не мог подняться с постели, только лежал и стонал негромко, не понимая, за что Яхве подверг его такому испытанию.
С той поры, как голема Мойшке застрелили добрые люди, Соломон жил в своем доме совершенно один, образ жизни вел нелюдимый, и, верно, так бы и помер в страшных муках у себя дома, если бы движимый любопытством Рахмиэль не заявился все-таки к нему в гости.
Он перелез через забор и тайно, без стука, вошел прямо в дом. Соломон лежал на кровати и умирал. Не в силах даже позвать на помощь, он лежал молча, и слезы недоумения и обиды текли по старческим его, изъязвленным морщинами щекам.
Увидев почерневшего от внутренних ядов Соломона, Рахмиэль страшно перепугался. Первым его движением было бежать прочь и сделать вид, что к ужасной этой трагедии он отношения не имеет. Так он и сделал поначалу – забился дома под лавку и даже на занятия к Чан Бижу не пошел.
Он сидел под лавкой, кругом кричали голодные его братья и сестры, громко сетовала на жизнь усталая мать, а перед глазами Рахмиэля все стояло почерневшее лицо старого Соломона с выражением нестерпимой муки на нем. Просидев так минут десять, Рахмиэль не выдержал и помчался к бабке Волосатихе.
Старая Волосатиха поняла все с полуслова. Захватив настоев и масел, она двинулась к дому Соломона. Когда они наконец добрались, до места, Соломон не мог уже ни стонать, ни плакать, только открывал рот, как рыба, выброшенная на берег. Путем несложных манипуляций, в том числе и слегка обидных для мужского самолюбия Соломона, но целительных для его тела, старый каббалист был спасен. Неизвестно, что было тому причиной – суровое ли искусство бабки Волосатихи или веление капризной судьбы, но лечение первого пациента закончилось для Рахмиэля вполне благополучно.
– Еще бы час-другой – и все, спекся бы жидок, – объясняла потом бабка Волосатиха Иегуде бен Исраэлю, лично пришедшему к ней благодарить за спасение старого Соломона.
Еврейский патриарх кивал согласно и с уважением, неторопливо раскладывал перед Волосатихой отрезы материи и сладкие леденцы, которыми Яхве-Элохим-Адонай решил поощрить бабкино человеколюбие и ее ведовское искусство.
Тут было над чем задуматься. Рахмиэль никак не мог понять, почему проверенное лекарство чуть не убило пациента. Может, нефрит, лечебный для китайцев, на русских не действовал вовсе, а евреям, наоборот, и вовсе выходил боком, выходил смертью, как это бывает с некоторыми ядами?
В медицинских книгах Рахмиэль много видел остережений начинающему эскулапу, но ответа на свой вопрос так и не нашел, сколько ни рылся. Тогда он решил подробнее рассмотреть нефрит, которым довелось ему лечить ни в чем не повинного Соломона. И вот тут-то стало ясно, что дело не в его ошибке, а в чистом подлоге – нефрит оказался гранитной крошкой.
Возмущение Рахмиэля было столь велико, что он, несмотря на малый возраст, отправился ругаться с китайцем Пашей лично. Однако Паша, устыжаемый им во весь доступный его возрасту крик, смотрел на жиденка снисходительно и даже слегка посмеивался. Так Рахмиэль впервые встретил человека с начисто отсутствующей совестью – дело, впрочем, нередкое среди китайцев, которым совесть с успехом заменяет стыд. Но со стыдом вышло тоже неладно, ведь каждый китаец сам решает, что ему стыдно, а что нет. Конечно, стыду их учат с детства, но всяк понимает его по-своему. Обычно стыдным считается, когда тебе при людях кто-то что-то выговаривает – неважно, за дело или нет. Но и тут есть свои нюансы. Никто не станет стыдиться слов женщины, ребенка или человека вовсе чужого, в особенности же иноземца. А Рахмиэль как раз сочетал в себе два ничтожества – был одновременно ребенком и иноземцем, так что ни о каком стыде даже речи идти не могло, хорошо, что по шее не настучали. Может, и настучали бы, если бы Паша не боялся заступничества Чан Бижу, который так любил своего ученика, как будто это был не еврейчонок без роду и племени, а натуральный и чистокровный китайский сын.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.