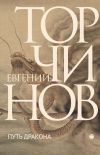Текст книги "Люди черного дракона"
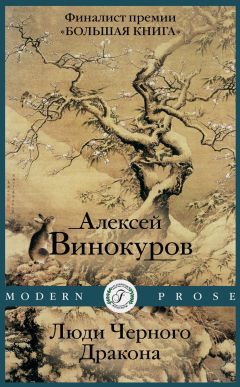
Автор книги: Алексей Винокуров
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
Итак Соломон увидел Вариолу, и та увидела его. Вариола повернулась к нему, лицо ее исказилось от гнева, и она нанесла удар своим хлыстом – неожиданно быстрый, почти молниеносный. Но Яхве-Элохим-Адонай, которому молился Соломон и который еще не оставил его своей силой, спас старого каббалиста – он успел отклониться и упасть внутрь дома. Чудовищная девка заглянула в окно, синие, как мертвое море, глаза ее горели жаждой мести, но в двери она не вошла, ее отпугнула мезуза, висевшая на косяке двери, – мезуза с молитвой Шма, данной Всевышним всему еврейскому народу на этот случай и на случаи, им подобные.
Вариола крикнула тоскливо и пронзительно, как гиена – и растворилась в воздухе, снова стала невидимкой.
Придя в себя, старый Соломон бросился к Иегуде бен Исраэлю. Но тот не поверил ему, да и как было поверить простому еврею, утверждавшему, что он видит то, чего не могли видеть даже пророки и патриархи.
Тогда Соломон побежал по деревне, крича:
– Люди, люди, закрывайте двери и окна, не выходите никуда! По улицам гуляет черная оспа!
Сначала над ним просто смеялись. Люди в Бывалом уже привыкли не бояться болезней и даже самой смерти, они привыкли, что на страже их жизни и здоровья стоит удивительный лекарь Рахмиэль. Даже если бы оспа вошла в деревню, как говорил старый Соломон, ей все равно не справиться с Рахмиэлем – так думали они, не подозревая о том, что Рахмиэль уже покинул деревню.
Но Соломон продолжал бегать и кричать. Тогда раздражительные евреи поймали его и немножко побили – для ума и чтоб не разводил напрасную панику. Но Соломон не сдался – даже и лежа избитый у себя на лавке, он продолжал кричать и взывать к людям.
Тут и бабка Волосатиха подоспела – ее стали вызывать к заболевшим. И хотя явных внешних признаков оспы еще не было, был только жар и озноб, сильные рвущие боли в пояснице и конечностях, жажда, головокружение и рвота, но старая ведунья быстро распознала убийцу. На второй день ошибиться было уже нельзя – на больных появилась сыпь: по бокам, груди и в паху.
В селе началась паника. Народ потребовал Рахмиэля, но Рахмиэль был уже далеко. Правда, больных оказалось пока на удивление мало – всего три человека и одна женщина. Все было возрадовались, но Соломон, которому теперь доверяли беспрекословно, объяснил, что оспа пришла не за ними, что эти жертвы – случайные. Он сам, своими глазами видел, как оспа двигалась прямиком к дому Рахмиэля.
– Что это значит? – спросили его все трое старост, ради такого случая собравшиеся вместе в доме у Андрона.
– Это месть, – отвечал им Соломон. – Это значит, что смерть простерла свою руку, чтобы достать семью Рахмиэля. Он восстал против вечного закона – и закон пришел его уничтожить.
– Значит, убив его жену и дитя, болезнь оставит нас в покое? – задумчиво поинтересовался Иегуда бен Исраэль.
– Нет, – отвечал Соломон. – Это значит, что, когда Рахмиэль вернется, он увидит своих близких мертвыми. И тогда он покинет наше село, потому что мы не сберегли их, хотя он все эти годы берег нас. А когда он нам покинет, нас уже никто не защитит.
– И что же ты предлагаешь? – спросил ходя Василий.
– Преградить ей дорогу! – сказал старый Соломон. – Не дать ей пройти к дому Рахмиэля.
– Но тогда она будет уничтожать людей, – возразил староста Андрон.
– Будет, – кивнул Соломон. – Но мы выиграем время. Хлыст ее бьет медленно, каждый человек перед ней – это препятствие. Если мы удержим ее, Рахмиэль успеет вернуться и спасет нас всех.
Старосты глубоко задумались.
– Это дело мы не можем решить сами, – сказал наконец Андрон. – Надо сообщить народу, пусть он и решает, как поступить…
Народ, собравшийся на площади по звонкому сигналу рынды, не решил ничего нового.
– Это его дело, жидовское, пусть сам с ним разбирается, – за всех ответила тетка Рыбиха.
Остальные молчали, прятали глаза. Молчали по своей старой привычке китайцы, молчали евреи, даже словоохотливые в других обстоятельствах русские молчали, хоть и весьма угрюмо.
– Ну, что же, жребий брошен, – подытожил староста Андрон, лишний раз блеснув образованностью. – Стало быть, живем как жили, а мертвые пусть хоронят своих мертвецов.
И, наверное, так бы все и разошлись по домам, не сказав худого, но и хорошего слова тоже не сказав, как вдруг вперед вышел ходя Василий. Взгляд его, обычно глубокий и спокойный, сиял сейчас непривычным огнем.
– Слушайте, люди села Бывалое, – громко проговорил он, – вы должны мне! Вы все мне должны, особенно же – русские и китайцы. Русские убили меня однажды – еще в те времена, когда я был простым и никому не нужным ходей, – бросили в пасть своему идолу, Мертвому дому…
Русские стояли, оцепенев от такой китайской наглости, но ни у кого не повернулся язык его остановить.
– То, что я выжил, это чудо, – продолжал между тем ходя. – Я простил вам это, но я не забыл. Что же касается китайцев, то если бы не я – их тут и вовсе не было бы. Единственные, кто мне тут ничего не должен, так это евреи. Но, может быть, они должны своему сородичу? Может быть, все мы, тут собравшиеся, хоть немного, но должны Рахмиэлю – человеку, который спасал нас, наших детей и наших стариков, спасал от болезней и от смерти? Спасал, подвергая себя смертельному риску, но не думая об этом. Он спасал нас и брал за это совсем небольшую плату, спасал и совсем бесплатно – если человеку нечем было платить. Он ничего не просил ни для себя, ни для своей семьи. И вот теперь настал тот единственный случай, когда ему нужна наша помощь – неужели мы пройдем мимо?
Толпа молчала, не говорила ничего. И так же молча, ничего не говоря, стала она рассасываться, растекаясь, словно лужа, ручейками по улицам и переулкам.
Спустя минуту на площади уже никого не было, один только ходя возвышался на помосте, словно памятник человеческой глупости, помноженной на наивность и прекраснодушие. Он перевел глаза на свою жену, которая стояла чуть поодаль, и сказал с горечью:
– Люди заслужили все, что с ними случилось. И все, что с ними еще случится… Поистине, род лукавый и прелюбодейный.
Он сошел с помоста и быстро пошел прочь. За ним поспешала Настена.
– Куда мы? – спрашивала она с тревогой, но он не отвечал.
Пробежав десяток-другой шагов, она снова поворачивала к нему напуганное лицо и повторяла:
– Куда мы?
И снова, и снова – и так без конца. Наконец ему это надоело, и он сказал:
– К Соломону!
И она оглянулась и увидела, что они точно стоят у двери старого Соломона. Ходя Василий громко постучал дверь. Оттуда раздался скрипучий, но непреклонный голос:
– Если это смерть, то уходи отсюда, тебе не одолеть силы Всевышнего!
– Это не смерть, – сказал Василий. – Это я, ходя.
Старый Соломон приоткрыл дверь и недоверчиво выглянул наружу одним глазом.
– А это кто с тобой? – спросил он, указывая на Настену.
– Это тоже не смерть, – терпеливо повторил ходя. – Это моя жена.
Старый Соломон некоторое время хмурил брови и размышлял. Но потом все же открыл дверь и пустил их внутрь.
Дом его совсем запустел с тех времен, когда он лепил из глины голема Мойшке. Казалось, что не человек в нем живет, а какой-нибудь заросший старостью и пыльным серым пером ангел, которому ни есть не нужно, ни пить, а только что читать советские газеты да возносить молитву: «Рабейну шел олам!»
– Что вам нужно, люди чужой веры, в доме старого Соломона? – спросил их старый талмудист.
– Мы хотим спасти семью Рахмиэля, – сказал ходя, при этом жена его посмотрела на него изумленно. – А ты можешь видеть оспу. Давай действовать вместе.
Лицо старого Соломона просияло, он преклонил колени и стал творить молитву, в которой много благодарил Всевышнего за неизреченную его мудрость и милость, от которой даже дикие китайцы просветляются и идут дорогой истины. Настена и ходя терпеливо, как и положено диким, ждали, пока Соломон помолится.
Закончив молитву, Соломон подхватился, и все вместе они вышли из дома. Не прошло и пяти минут, как они втроем подошли к дому Рахмиэля. Там уже стоял дед Андрон и степенно переговаривался с Иегудой бен Исраэлем.
– Хитры вы, жидки, с подходцами вашими, – говорил Андрон, щурясь в моховую свою, с лесной прозеленью бороду, – однако и вам при всей вашей хитрости не справиться с нашим патриотизмом.
– Никак не справиться, – смиренно соглашался еврейский патриарх. – Особенно если патриотизм с дубинами и ножами против бедных евреев, которые никому ничего плохого не сделали…
Тут они увидели ходю с Настеной и старого Соломона.
– Ходя обратно умнее всех оказался, – заметил дед Андрон. – Соломон нам тут очень как понадобится – он же один эпидемию эту видит.
Увидев боевой заслон из двух стариков, ходя Василий просиял.
– Вот разница между толпой и человеком, – сказал он Настене. – От толпы не жди ничего хорошего. Отдельный же человек всегда способен устыдиться.
Откуда-то сбоку вынырнул старый Чан Бижу. Он запыхался, а в руках нес целую стопку свитков, исписанных красной каллиграфией.
– Опаздываешь, отец, – заметил ему дед Андрон. – Ученик твой, а ты приходишь позже прочих.
– Рисовал магические свитки для борьбы с болезнью, – не теряя собственного достоинства, отвечал Чан Бижу.
– Отпугнет? – засомневался Иегуда бен Исраэль.
– Отпугнуть, может, и не отпугнет, но задержит точно, – отвечал Чан Бижу и решительно направился со своими свитками прямо к дому Рахмиэля, откуда испуганно выглядывала ничего не понимающая Лань Хуа с ребенком на руках.
Дед Андрон поглядел на Соломона, который, не обращая ни на что внимания, творил сосредоточенную молитву.
– Эль мелех нээман, – начал Соломон, ибо не было рядом с ним девяти взрослых евреев. – Шма, Исраэль, Адонай Элоэйну Адонай Эхад!
Он говорил, прикрыв глаза правой рукой и держа кисти цицита левой рукой напротив сердца. Голос его то взмывал вверх, то опускался до полного шепота.
– Барух шем квод малхуто лэ-олам ва-эд…
На том конце улицы раздался злобный визг. Все повернули головы, но никого не увидели в дымном жарком облаке, медленно плывущем над землей. Один только Соломон разглядел, как огромная девка, вся в красном, с лицом, испещренным пустулами, медленно продвигалась сквозь плотный, тугой, переливающийся миражами воздух села. В руке ее змеился длинный жадный хлыст.
– Она идет… – севшим голосом сказал Соломон и указал пальцем туда, где шествовала болезнь. – Вариола…
Такова ли была сила его молитвы или просто наваждение, но и остальным тоже почудилось, как будто в переливающемся солнечном свете увидели они некое движение – чудовищное, страшное…
– Спаси Христос! – дрогнул дед Андрон, кладя на лешачью свою бороду животворящий крест.
Закричала и повалилась набок свинья, случайно выскочившая из калитки и попавшая под хлыст оспы. Там, где он коснулся ее кожи, расцвела длинная нить красной сыпи. Свинья билась и визжала, пятачок ее розово хлюпал, а оспа шла дальше – проталкивалась сквозь тяжелый плотный воздух.
– Нет, – сказала Настена. – Мы не удержим ее – мы, простые смертные… Она убьет нас всех и пойдет дальше…
Дед Андрон оглянулся назад, словно выискивая пути отступления. Глазам его представилась невиданная картина. Из переулков к дому Рахмиэля вытекали людские ручейки. С каждой минутой они становились все шире и заполоняли пространство вокруг дома. Это шли бываловцы – все, сколько их ни было в нашем селе. Шли суровые русские охотники, бородатые и кудлатые, вооруженные топорами и ружьями, шли их жены и дочери, с ухватами и граблями в руках. Шли желтолицые китайцы со своими верными тяпками, шли их орочские жены и дети. Шли евреи, покрытые талесами, и евреи в светской одежде. Шли даже грозные амазонки в полном боевом облачении – медвежьих шкурах, сапогах и с голыми ниже колена ногами, с луками, ножами и карабинами. Это могучее войско надвигалось теперь на оспу. Люди пока не видели болезнь, но оттого, может быть, ярость их была еще сильнее.
– Ну, что же, повоюем, – проговорил дед Андрон, подтягивая портки поудобнее…
И бываловцы, повинуясь указующему персту старого Соломона, бросились в атаку.
Это был неравный бой. Людей было много, а Вариола – одна. В нее палили из ружей, били топорами, тыкали тяпками, рубили косами. Банковский деятель Арончик швырял в нее фальшивыми купюрами. Бабка Волосатиха лила в морду жгучими отварами. Амазонка Елена рубила секачом наотмашь. Китаец Федя верезжал так, что стушевались все бываловские свиньи. Но все равно бой был неравный. Люди со всем своим вооружением не могли достать оспу, а она хлестала своим бичом безостановочно.
Упал, иссеченный хлыстом, сапожник Эфраимсон, кровь сухою краской выступила из его пор. Его место занял было тихий Менахем, но тут же и отлетел в сторону, отброшенный мощной рукою жены своей, толстой Голды, вокруг которой непобедимым отрядом стояли все их семеро детей. Но и они были повержены в короткое время. Хлыст Вариолы поднялся над Менахемом. Менахем, лежа на земле, сквозь бессильные слезы в глазах увидел вдруг светлый силуэт, спустившийся с небес, – силуэт, похожий на дочку его, покойную Бейлу. Силуэт этот атаковал красную девку с кнутом, развернул к себе, швырнул прочь. Но оспа подняла свой хлыст – и видение растворилось в воздухе без следа.
Видя, что от храбрости их никакого толку нет, что один за другим бойцы выходят из строя, бываловцы дрогнули и попятились, оставляя на поле боя поверженных, слабо стонущих, горящих в жару, дышащих хрипло, погибающих под безжалостным хлыстом. Напрасно пытался остановить и вдохновить их Соломон, указывая всевидящим перстом своим на Вариолу. Все попятились, двинулись назад, спотыкаясь и теряя оружие.
Старый Соломон увидел, как девка-оспа остановила на нем синий мертвый взгляд, улыбнулась издевательски и пошла прямо к дому Рахмиэля.
– Что ж, – сказал он сам себе, – я один остался. Спасти никого, конечно, все равно не успею, но хотя бы…
Что именно «хотя бы», он не знал. И все равно вышел прямо перед болезнью, встал у нее на дороге. Свистнул смертоносный хлыст, ожег Соломону щеку, запылал на ней рубец огненной сыпи, забилось испуганно его старое сердце, захрипели легкие, тщетно пытаясь вобрать живительного воздуха. Ноги его подкосились, и он упал на колени. Но страшным усилием воли удержался, не опрокинулся дальше. Он поднял голову. Над ним, поигрывая кнутом, стояла красная великанша.
– Шма, Исраэль… – хрипло старый Соломон, сквозь выступившие на глазах слезы чудовищная фигура, стоявшая перед ним, расплывалась в воздухе, казалась призраком. – Слушай, Израиль: Господь Бог наш, Господь один! Любите Господа вашего, любите всякую тварь, им созданную под небесами, и человека любите, и зверя, и растение… Любите любую жизнь, храните ее, защищайте – да будет она благословенна! Прощайте друг другу мелкие прегрешения и не делайте больших… Ибо все мы дети, все дети перед лицом Его, и никого не карает Он, но лишь люди сами себе погибель и уничтожение! Имейте в сердце вашем любовь, а если нет ее в сердце, пусть она будет в голове и останавливайте бьющую руку и не призывайте кары на головы грешников, но сами будьте праведны.
Болезнь, стоявшая над ним, остервенело хлестала его своей плетью, но он не чувствовал ударов, сердце его согревалось словами творимой им молитвы и надеждой на счастье для каждого, на жизнь для всех, чтобы никто не поражен был мукой и страданием, чтобы люди были людьми и помнили об этом – и сейчас, и всегда, и во веки веков…
Она
Жизнь в селе нашем, известном как Бывалое, на берегу Черного Дракона, под сенью сосен и пихт шла себе и шла. По утрам выковыливала на ступеньки Большого дома Бабушка Древесная лягушка, глядела в розовую зарю, улыбалась во всю щель, почесывалась, кряхтела, размышляла, вдруг, испуганная упавшей с листа на скользкую кожу холодной росинкой, в один миг прыгала на метр в сторону, квокала недовольно, потом снова, не торопясь, поглядывая по сторонам, сделав для порядку лицо суровое, непроницаемое, лезла на ступеньку, подставляла дряблое старческое тело нежарким солнечным лучам. Солнце с трудом пробивалось сквозь кедровые да еловые ветки, клен да ясень дрожали листьями, тлела робким огнем рябина, и, как невеста, стояла береза белая. Заливались в кустах лещины малые, даже сквозь листву пестрые птахи, каких в других местах и не слышали никогда, и ясно различались среди них только две – кукушка да овсянка.
Овсянку можно было пропустить мимо ушей, а вот на кукушку непременно надо было сказать: «Кукушка-кукушка, сколько мне жить осталось?» И кукушка куковала самозабвенно, и выходило то много, то мало, то совсем ничего. И так оно и случалось на самом деле, и тогда рано или поздно у кукушки перестали спрашивать про годы жизни, чтобы не будить зряшного лиха.
– Потому что каждому хочется, чтобы он сам жил долго, а остальные чтобы померли поскорее, – так объяснял это вечный почти староста дед Андрон, сам из лесовиков, с зеленою своею бородой, от древности росшей теперь уже не вдоль лица, а почти поперек.
Вот так месяцы шли над селом, проплывали годы, пролетали стремительно десятилетия. Все тут менялось, как и везде в мире, и все оставалось по-прежнему – тоже как и везде.
Но вот в один прекрасный – или уж как хотите – день родился я, и установленный веками порядок сбился на сторону, а потом и вовсе пошел косяком. Впрочем, виной тому, конечно, был не я, а Ди Чунь, тем более что и родилась она на год меня старше, да к тому же в деревне амазонок…
Так вот, говорю, звали ее Ди Чунь, Ди – это как «император», а Чунь – как «весна». Это всё было китайское имя, хотя родилась она в деревне амазонок, а не в китайской, как можно было заподозрить. Но то ли духи предков у нее были китайцы, то ли воспитывала ее такая бабушка – так или иначе, назвали ее Императорской Весной.
Ну, назвать, ясное дело, можно как угодно. Бывает, человека Афродитой назовут, а без слез не взглянешь – какая там Афродита, разве что фавну какому-нибудь, неразборчивому, похотливому на утеху… Но наша Ди Чунь в имя свое, как в зеркало смотрелась – не отличить. Так похожа она была на весну, что другой такой весны я в жизни своей не встречал. Черные волосы, блестящие, стриженные в каре, глаза тоже черные, глубокие, нефритовые, чуть раскосые, чуть насмешливые, рот все тянется в смешке, как у Бабушки-лягушки. Да и сама она была как лягушонок – худенькая, ногастая, все косточки на просвет. Может, потому Бабушка-лягушка и завела о ней разговор, а может, просто из зависти. Была в ней какая-то тайна, о которой я ничего не знал тогда, но почувствовал ее всем телом своим, всем сердцем, едва увидев.
А увидел я ее утром, на лесной тропинке. Солнце заливало лес, он сделался прозрачным, изумрудным, на листьях больно сияли капли росы…
Первым делом я глаза ее рассмотрел, и только потом уже – ноги. Ноги эти появлялись из под простого белого платьица – хотя уже тогда ей можно было надевать платье невесты и не ошибиться – и были не по-китайски длинные, стройные. Именно что стройные, а не худые или там костлявые, как у всех в ее возрасте. Они шли снизу, от тонких лодыжек, изгибались чистой линией по икрам, спотыкались чуть на коленках, потом набирали силу и взмывали еще выше, так, что дух захватывало, и тут пресекались платьем – простым, белым, почти прозрачным на солнце, но не так прозрачным, чтобы все было видно, а так, чтобы только угадывать.
Мне тогда было восемь, а ей – девять. И это был у нас первый раз. Она взглянула на меня сияющими до мороза синими глазами, смерила всего с головы до пять, хмыкнула и взяла за руку. Рука была теплая, маленькая, жар из нее исходил, как от печки, но я замер, словно оледенел.
– Что встал – идем! – сказала она мне.
И я пошел, не спрашивая, куда, да и не все равно ли было – в лесную чащу, на горы, в болото, в омут?
А она в тот раз повела меня не в омут и не в чащу, а на берег Амура, сказала, купаться, а вышло – приворожить. Берег у нас тут длинный, извилистый, где обрывом, а где полого идет – словом, притулиться всегда можно. Но она на открытые места не пошла, повела меня к пляжу Рыбки – там деревья подходили к реке вплотную, так что из леса можно было войти прямо в воду. А почему пляж так назывался, никто точно не знал: то ли в честь девочки из китайского цирка, которая потеряла здесь свою любовь, а следом за ней и жизнь, то ли просто форма у пляжа была такая – гибким полумесяцем, словно рыбка выпрыгнула из воды на берег, да так и осталась там, рассыпалась в песок…
Перед тем войти в воду, она одним легким движением сбросила с себя платье, словно ветром его сорвало, и я задохнулся, потому что под платьем у нее ничего не было. Она секунду стояла так, и нагота ее была ослепительной и обжигала глаза, и руки, и все тело, и, обожженный, больше всего на свете хотел я прикоснуться к ней, прикоснуться особым образом, как касаются друг друга взрослые, и войти в нее, но я не знал этого еще и не умел, и потому только стоял, недвижный и немой, а она повернулась ко мне, сверкнула глазами, захохотала и вошла в воду почти по колено.
И тут я снова увидел все, и оцепенение спало с меня, я стряхнул его последние остатки, как береза по осени стряхивает желтые свои красные листья. И когда я увидел себя в следующий раз, я уже бежал по берегу, срывая с себя штаны, рубашку, скидывая ботинки.
Амур расступился подо мной, как прохладная пропасть…
Когда я настиг ее наконец, вода поднялась ей до плеч, и она хотела уже плыть, устремила руки вдоль воды, оттолкнулась ногами, вытянулась в ласточку. Но я успел толкнуться вслед за ней, обхватил жадно, всем телом к ней прильнул, так сжал, что в глазах потемнело – в глазах, в ушах, во всех местах… Темнота эта изошла из меня, стала пустотой и разверзлась под нами, и мы пошли на дно, сплетясь, как виноградные лозы, как два угря, как веревка оплетается вокруг шеи приговоренного. Но дна все не было, и снова не было, и опять – и мы зависли над бездной, а волны Амура качали нас, как двух бабочек прохладно качает в небесах налетевший ветер.
Я держал ее в своих объятиях, голую и беззащитную, держал так сильно, что материя упразднилась, и всякое тело перестало быть, и вселенная вся растворилась в сияющих волах Амура – каким он был, когда был еще Мировым океаном. Теперь мы стали единое не тело даже, а единая радость и восторг, опьянение и ужас. Но это длилось только мгновение – как выстрел из пистолета, а потом она вдруг вывернулась, сильно отвела мои руки и толкнула в грудь. И рванулась прочь – вверх, к свету.
И тогда я почувствовал, что меня убили. Весь огонь, который горел во мне, жег сердце, лавою кипел в крови и поднимал над бездною вод, вдруг с шипением погас, словно в меня плеснули грязной водой из картофельного котелка. Я теперь был мертв, и вечность морозила мне кончики пальцев, но не могла добраться до сердца, ибо оно остановилось, и солнце не грело меня, и даже воздух не мог войти в легкие…
Но человек не может быть мертвым слишком долго, Тем более не может быть слишком долго мертвым ребенок, ибо смерть – его родина, которую он покинул совсем недавно, и возвратиться назад ему так легко. Возвратиться и остаться в пустом воздухе чистилища, среди темных пещер его и полыхающих жасминных кустов…
Приблудная рыба, проплывая, ударила меня хвостом по глазам и возвратила к жизни. Я забултыхался, забил руками и ногами и всплыл на поверхность. А Ди Чунь уже лежала на берегу опять в белом своем, словно ветром наброшенном платье, лежала и смотрела куда-то в небеса, а глаза ее, черные и блестящие, как нефрит, отразили вдруг всю синь небес и на миг тоже сделались голубыми, как у девочки Рыбки, в честь которой когда-то назвали эту косу.
Я тихо подошел и тихо лег рядом, не смея тревожить ее покой.
– Ты утопить меня хотел, – вдруг сказала она, и голос ее был тихим, хрипловатым.
Я открыл было рот, чтобы воспротивиться, сказать, объяснить, но она прикрыла мне губы ладошкой, и теперь ладошка эта была не жаркой, но прохладной и чуть влажной от черных вод Амура. Она оперлась на локоть и склонилась надо мной, лицо ее было совсем рядом, глаза глядели звездами, а дыхание было близким, и казалось, она вдохнет меня сейчас всего целиком. И она сделал вдох, и я зажмурился от сладкого страха в груди и ощутил на губах холодное, легкое прикосновение – это Ди Чунь поцеловала меня прямо в губы.
Я лежал, не смея открыть глаз. Больше всего на свете я хотел сейчас, чтобы она снова прикоснулась ко мне этим прохладным, щекочущим, достигающим, как укол, прямо сердца прикосновением. Но она медлила.
Я открыл глаза. Она глядела на меня с каким-то странным выражением и, казалось, чего-то ждала. Но я не знал, чего она ждет, и молчал и не двигался. И тогда она засмеялась, и отпрянула, и упала на спину – прямо на теплый и прохладный речной песок. И так мы лежали рядом, не шевелясь, а время шло над нами, летело, как облака в высоком и синем небе.
А пока мы так лежали, в русской деревне шло гулянье – женили праправнука деда Андрона, по имени Сергей Вай. Фамилия ему такая досталась от деда, ходи Василия, которого, как известно, на родине звали Вай Сыли, ну, а имя пришло по русской линии – от самого старосты Андрона через внучку его, Настену.
На свадьбе кроме русских ясное дело, колобродили и китайцы – сам ходя, старый уже, согбенный, Мафусаиловых лет, и разные многие его родственники и китайские знакомцы, пришедшие, во вторую очередь, выразить свое уважение, а в третью – закусить на дармовщинку. Вообще-то Сергей Вай был не настоящим ходиным внуком, у них с Настеной детей, как известно, не было никаких, и уже в солидном возрасте они усыновили мальчонку из русской деревни, рано оставшегося без родителей: мать умерла при родах, а отца прищемила до смерти упавшая в лесу сосна. Когда вытаскивали его из-под дерева, был он весь приплющенный, с вышедшим духом, словно пойманный китайским методом через удавление бревнами соболь. Вся русская деревня, ужаснувшись, в тот раз оплакивала его, но годы были плохие, голодные, и взять к себе в дом еще один рот не решились даже дальние родственники. Об этом узнал ходя Василий, и, недолго посовещавшись с Настеной, они усыновили мальчонку. Имя дали ему двойное, русско-китайское: ДимаХу, что значит Дима-Тигр.
Такое редкое имя-минцзы дано было, исходя из тяжелых обстоятельств его жизни и суровой, по всей видимости, судьбы, которая еще в детстве оставила его полным и окончательным сиротой. Так ходя Василий при помощи китайской магии имен надеялся отпугнуть судьбу и, возможно, изменить жизнь мальчика.
Однако судьбу-цзаоюй отпугнуть или обмануть довольно сложно, и даже у самого ходи Василия это не очень-то получалось. Вот и с Димой-Ху так же вышло. От отца он унаследовал тяжелое пристрастие к водке и рано умер, напившись – по русской традиции – несъедобного метилового спирта. Но еще до того успел он обрюхатить знакомую девушку из русского села, и таким образом хоть и вопреки привычному законному порядку, но образовался-таки у ходи Василия внук, а у деда Андрона – праправнук, которого нынче и женили они при всем русско-китайском кагале. Разумеется, не только тут были русские и китайцы, но и почетные гости из еврейской деревни, и даже три уважаемые старушки приплелись от амазонок: Елена, Анфимья и Ирина – старые, как черти, дряхлые, еле ноги волочащие, но все еще с грозными взглядами и несокрушимым духом, все еще готовые выйти на медведя с одним остро заточенным, словно молния, ножом.
И вот теперь, пройдя все необходимые стадии, от выкупа невесты до венчания, гости и молодожены сидели за накрытыми столами и дули китайскую водку эрготоу. Только, конечно, была это не обычная эрготоу, которая за пять юаней канистра, а местная, наша, деревенская. Так она и называлась во избежание путаницы – «Хэйлун эрготоу», то есть «Водка Черного дракона», потому что гнали ее прямо из священных волн Амура. Водка эта отличалась от всех прочих и казалась крепче даже малайского рома и неразведенного медицинского спирта. А выходила она такой страшно забористой оттого, что настаивали ее на костях драконов, ну, или, по старому, динозавров. Динозавров этих что-то очень в свое время много полегло в здешних землях – как раз, когда был их динозаврий Армагеддон, то есть последняя битва с млекопитающими.
Вот, значит, все они пили водку – те, которые собрались на свадьбу – и произносили тосты по старинному русскому обычаю, и отрыгивали – по старинному китайскому обычаю. И даже метали ножи в стену сарая – по обычаю амазонок, и вслух считали приданое – по еврейскому обычаю.
Но главное все же была водка – хэйлун эрготоу. Секрет этой водки железно, до смерти, знали только ходя Василий и его потомки по мужской линии, то есть в данный момент еще и жених Сережа Вай. Прочие китайцы тоже бы хотели все это знать, но плавали в деталях, как пешеход в спасательном круге – не сказать что тонешь, но и не совсем плывешь – больше болтает да тошнит. Вот так и они, китайцы, все болтались да блевали от сделанной ими по собственному рецепту водки – хоть обратно в реку выливай.
Но на свадьбе была водка самая настоящая, первосортная, смастыренная строго по ходиному рецепту, и оттого всем было очень весело, но никто не хотел тошнить и драться, а все только улыбались друг другу и пели веселые песни – русские и китайские, еврейские и женские.
И так в деревне шла своя свадьба, а у нас с Ди Чунь – своя. Или, может быть, только мне так казалось, что между что-то происходит, а она была совсем другого мнения… Как бы там ни было, я запомнил этот день надолго, на всю свою жизнь, и не только на эту, но и все последующие. Уже пройдя многократно все страдания сансары, избыв аффекты, страсти и привязанности, ставши Буддой, в единый шаг готовым перейти на ту сторону бытия, я вспомнил этот день, вспомнил – и все бессмертие осыпалось с меня, как осыпается со старых статуй позолота, как падает с деревьев побитый ветром желтый осенний лист, и я вернулся обратно, в бренное свое тело, вернулся, чтобы еще раз пережить этот миг, пожертвовать ради него всезнанием, всемогуществом, собственным спасением и даже спасением всех живых существ…
В следующий раз я увидел Ди Чунь снова на реке. Я шел по лесу, тропинка вывела меня к пляжу, и я замер, увидев ее. Она стояла возле воды совершенно нагая, и ветер слегка отдувал ее черные волосы. Неподалеку от нее купались взрослые парни из нашей, русской деревни. Все купались спокойно, никто на нее внимания не обращал, только один, Валера – рыжий, с медвежьей ухваткой, – все поглядывал на нее искоса, с угрюмой внимательностью, словно хотел что-то понять для себя. Наконец, то ли поняв, что хотел, то ли, напротив, не поняв, он направился к ней… Он шел к Ди Чунь – и с каждым шагом увеличивался в размерах. Она же стояла как ни в чем не бывало, изредка бросая на него лукавые любопытные взгляды.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.