Текст книги "Диагноз смерти (сборник)"
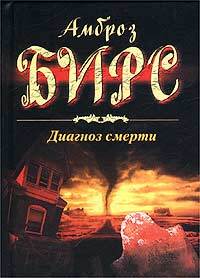
Автор книги: Амброз Бирс
Жанр: Зарубежное фэнтези, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
Дорога в лунном свете
I
Свидетельство Джоэла Гетмена-младшего

«Я – несчастнейший из людей. Хотя у меня, казалось бы, есть все – богатство, приличное положение в обществе, хорошее образование, крепкое здоровье и многие иные преимущества, каковые ценят те, кто ими обладает, и вожделеют те, кто ими обделен, я порой думаю, что был бы куда счастливее без всего этого. Тогда мне не пришлось бы страдать от мучительной раздвоенности между тем, как я выгляжу в людских глазах, и состоянием моей души. А лишения и упорный труд помогли бы мне хоть как-то отвлечься от неразрешимой тайны, которая неотступно терзает мой ум.
Я – единственный потомок Джоула и Джулии Гетмен. Он был богатый плантатор, она же – красивая и умная женщина. Отец был ей предан, любил ее страстно и, как я теперь понимаю, бешено ревновал. Жили мы в нескольких милях от Нэшвилла, что в штате Теннесси. Дом наш – огромный, но выстроенный совершенно беспорядочно, вне соответствия с каким-либо определенным архитектурным ордером – стоял неподалеку от дороги, в окружении деревьев и кустарников.
Во то время, о котором я пишу, мне сровнялось девятнадцать, и я был студентом Йельского университета. Однажды отец прислал мне телеграмму, в которой он категорически требовал, чтобы я немедленно вернулся домой. На вокзале в Нэшвилле меня ждал один наш дальний родственник, он и объяснил мне причину такой поспешности: моя матушка была злодейски убита. Кто ее убил и почему, так и осталось загадкой. Свершилось же злодеяние при следующих обстоятельствах.
Отец мой отправился в Нэшвилл, предполагая вернуться к полудню следующего дня. Но обстоятельства сложились так, что он смог вернуться ранним утром, перед самым рассветом. Коронеру отец потом объяснил, что ключа у него с собой не было, и потому он, не желая будить прислугу, решил пройти черным ходом и пошел вокруг дома. Зайдя за угол, он услыхал, как тихо затворяется дверь, а еще увидел, что кто-то, едва различимый в темноте, – но явно мужчина, – метнулся к деревьям. Он попытался догнать незваного гостя, потом наскоро осмотрел весь парк, но без толку. В конце концов отец решил, что это был ухажер одной из служанок, и вошел в дом. Дверь, как и ожидалось, была не заперта, так что он вошел в дом и поднялся по лестнице. Дверь в спальню матушки была распахнута. В непроглядной темноте он переступил порог и тут же упал, споткнувшись обо что-то. Мне слишком тяжело приводить здесь ужасные подробности, скажу только, что это было тело моей несчастной матушки. Какой-то злодей задушил ее!
Из дома ничего не пропало, слуги ничего не слышали, а убийца не оставил никаких следов, если не считать ужасных отметин на горле моей матушки. Господи милосердный, помоги мне хоть когда-нибудь забыть это!
Я бросил университет и остался с отцом. После трагедии он сильно переменился, да оно и неудивительно. Всегда уравновешенный и немногословный, он впал в глубочайшую меланхолию, стал безучастен ко всему, что его окружало. Но порой какой-нибудь незначительный шум – шаги, например, или дверью кто-нибудь хлопнет – вызывали в нем необычайное беспокойство, которое человек посторонний мог бы счесть за испуг. Он вздрагивал, бледнел, но вскоре снова погружался в апатию, причем еще глубже, чем прежде. Я полагаю, это были симптомы того, что обычно называют нервной деградацией. На мне же по причине моей молодости горе сказывалось не столь сокрушительно. Ведь юность подобна земле Галаадской, врачующей своим бальзамом любые раны.[4]4
«Пойди в Галаад и возьми бальзама, дева, дочь Египта…» – Иер. 46, 11.
[Закрыть] О, если бы мне возвратиться в эту благословенную страну! До той поры я не ведал настоящего горя, не умел понять, сколь тяжкая утрата меня постигла, не ощущал еще всей силы сокрушительного удара судьбы.
Однажды ночью – это было через несколько месяцев после трагедии – мы с отцом возвращались из города домой. Над восточным горизонтом висела полная луна, и вся местность вокруг была погружена в торжественную ночную тишину, нарушаемую лишь нашими шагами и стрекотом цикад. Дорогу, выбеленную призрачным лунным светом пересекали угольно-черные тени деревьев. Мы как раз подошли к нашим воротам, утопавшим в темноте, и тут отец схватил меня за руку и выдохнул:
«Господи!.. Что это?»
«Я ничего не слышу», – ответил я ему.
«Нет, смотри… смотри!» – Он протянул вперед руку.
«Там ничего нет. Пойдем, папа… Тебе, наверное, нездоровится».
Он выпустил мою руку, вперил взор в пустоту и застыл посреди дороги, залитой лунным светом, словно вдруг окаменел. Меня поразило его лицо, белое, как мел, искаженное ужасом. Я легонько потянул его за рукав, но он, похоже, напрочь забыл о моем существовании. Вдруг он попятился, но при этом ни на миг не отрывал взора от того, что было перед ним, а точнее, от того, что ему чудилось. Я хотел было пойти за ним, но замешкался. Помнится, до того момента я не чувствовал страха, но тут меня затрясло. Словно в лицо мне повеяло ледяным ветром, словно могильный холод сковал все мое тело от пяток до кончиков волос.
Тут мое внимание было отвлечено светом, внезапно вспыхнувшим в окне верхнего этажа нашего дома. Наверное, это кто-то из слуг, разбуженный зловещим предчувствием, зажег лампу. Когда я обернулся к отцу, его на дороге уже не было. С тех пор минули годы, но до меня не дошло никакого известия о его судьбе. Он словно канул в сферы Неведомого».
II
Свидетельство Каспера Граттена
«Сегодня я, можно сказать, жив, но завтра, здесь, в этой комнате, будет лежать лишь бессмысленная куча праха, которая так долго была мною. И если кто-то приподнимет покров с моего лица, то лишь в угоду нездоровому любопытству. Простирая любопытство далее, кто-то, может быть, спросит: «Кто это был?» В этом письме я привожу единственный известный мне ответ: Каспер Граттен. Уверен, что этого вполне достаточно. Это имя исправно служило мне двадцать с лишним лет, сколько же длится моя жизнь, я и сам не знаю. Правду сказать, я его сам себе присвоил, но имею на него полное право. В этом мире каждому следует как-то именоваться, чтобы не было путаницы. Впрочем, имя мало что может сказать о том, кто его носит. Некоторым к имени присовокупляют еще и номер, но и он говорит о человеке не так уж много.
Был со мной такой случай: я шел по улице города, – название его не так уж важно, скажу лишь, что это далеко отсюда, – и навстречу мне попались двое в мундирах. Один из них умолк на полуслове, с явным удивлением взглянул мне в лицо и сказал другому: «Этот тип похож на семьсот шестьдесят седьмого». Число это почему-то было мне знакомо и пугало. Ноги сами собой понесли меня в ближайший переулок, а потом я пустился бежать, и бежал, пока не упал без сил на каком-то проселке.
Я никак не могу позабыть этот номер. Вместе с ним вспоминается бессмысленная ругань, а еще – невеселый смех и лязг железных дверей.
Так что имя, пусть даже самодельное, куда лучше, чем номер. Впрочем, скоро я обрету и то и другое – в кладбищенском регистре. Вот роскошь-то!
Несколько слов для тех, кому попадет в руки это письмо. Это отнюдь не история моей жизни; мне она просто неведома. Здесь вы найдете лишь отрывочные воспоминания, никак не связанные между собой. Одни из них вполне оформлены, как сверкающие бусины из ожерелья, другие размыты, причудливы и более всего напоминают огненные языки в черноте ночи… или блуждающие огоньки, роящиеся в непредставимой пустоте.
Стоя на берегу вечности, я оборачиваюсь, чтобы в последний раз взглянуть на пройденный путь. Следы, которые я вижу, тянутся в прошлое на двадцать лет, и все они обагрены кровью с моих ног. Они идут сквозь боль и лишения, они нетверды и петляют, ибо путник был согбен под тяжким бременем.
О, как ясно читается в этих строках вся моя судьба, ясно до жути!
Я не вижу начала этой via dolorosa[6]6
Дорога страданий (лат.) – путь, которым Христа вели на Голгофу; в переносном смысле – трудный, скорбный жизненный путь (Прим. переев).
[Закрыть], этого скорбного предания, испещренного воспоминаниями о грехах; оно теряется во мраке. Я помню только последние двадцать лет, а ведь я уже старик.
Никто не может помнить своего рождения, все узнают о нем из чужих уст. Со мною же вышло иначе: я получил готовую жизнь, вместе со всем, что обычно приходит к человеку лишь в зрелом возрасте. О прежнем же своем бытовании я знаю не больше, чем другие – о своем младенчестве: нечто смутное, то ли воспоминания, то ли сновидения. Можно сказать, что я родился уже взрослым, взрослым как телом, так и душой, и ничуть не удивился этому. Оказалось, что я брел по лесу, полуголый, со сбитыми в кровь ногами, измотанный и голодный. Увидев ферму, я подошел и попросил чего-нибудь поесть. Меня накормили и спросили, кто я такой. Я понимал, что у каждого должно быть имя, но своего не помнил. Донельзя смущенный, я убежал в лес, а когда стемнело, лег под дерево и уснул.
На следующий день я пришел в большой город. Я не стану его называть, как не буду рассказывать, что было со мной потом в этой жизни, которая, впрочем, совсем скоро прервется. Это была жизнь скитальца, в которой меня неотвязно преследовало ужасное ощущение чудовищной, преступной ошибки. Позволю себе вкратце рассказать, что я имею в виду.
Порой мне кажется, что когда-то я жил за городом и был преуспевающим плантатором. У меня была жена, которую я очень любил и сильно ревновал. Еще мне кажется, что у нас был сын – умный, талантливый юноша, но он видится мне как смутный, размытый силуэт, порою и вовсе уходящий за рамки общей картины.
Одним злосчастным вечером мне вздумалось проверить, верна ли мне моя супруга. Способ я выбрал самый банальный и даже вульгарный, он знаком любому, кто дал себе труд пролистать один-другой пошлый романчик. Я отправился в город, а жене сказал, что вернусь на следующий день к полудню. Сам же вернулся незадолго до рассвета и пошел к черному ходу. Дверь там не запиралась, об этом я заранее позаботился. Подходя к двери, я услышал, как ее тихо открыли и тут же закрыли. Потом кто-то скользнул мимо меня и пропал в темноте. Я бросился за ним и, наверное, убил бы, если бы догнал. Но мне не суждено было даже узнать, кто это. Теперь я даже не уверен, что то был человек.
Обезумев от ревности, ослепленный животной яростью, как это бывает с оскорбленными самцами, я вбежал в дом и тут же метнулся по лестнице к спальне жены. Дверь была не заперта, лишь притворена, так что я распахнул ее, ринулся к кровати и быстро ее обшарил. Там никого не было, но постель была смята.
«Она внизу, – решил я. – Испугалась, что я вернулся, и спряталась в темноте, где-нибудь в холле».
Я бросился вон из спальни, но впотьмах сунулся не в ту сторону… впрочем, нет, именно в ту! И сразу же буквально споткнулся о жену: она скрючилась в углу. Я схватил ее за горло, так что она не могла издать ни звука, да еще и коленом придавил, чтобы не вырвалась. И не отпускал, пока не задушил до смерти!
На этом виденье кончается. Я написал об этой трагедии в прошедшем времени, но настоящее подошло бы более – ведь она снова и снова разыгрывается в моем сознании, я снова и снова обдумываю свой план, снова и снова утверждаюсь в своих подозрениях, снова и снова казню неверную. А дальше – пустота, и только дождь колотит в грязные стекла, снежные хлопья осыпают мою убогую одежду, тележные колеса громыхают по Богом забытым улицам, где я коротаю жизнь в нищете, кое-как перебиваясь случайными заработками.
Порой меня посещает еще одно виденье, еще один ночной морок. Я стою на дороге, залитой лунным светом, вокруг – тени от деревьев. Рядом со мною кто-то стоит, но я не знаю, кто это. И вот прямо передо мной на фоне большого дома появляется фигура в белых одеждах. Это женщина… это моя покойная жена! Лицо ее мертво, на шее синяки. Она смотрит на меня, и во взгляде ее нет ни ненависти, ни угрозы, ни даже упрека, только узнавание и печаль. Я в ужасе отшатываюсь… ужас терзает меня и сейчас, когда я пишу. Больше не могу. Видите, как они?..
Ну вот, теперь я спокоен, да и писать мне больше не о чем. Этот ужас канул туда, откуда явился: в бездну мрака и сомнений.
Что ж, я снова вполне владею собой, снова «я – капитан души своей»[7]7
Строка из стихотворения английского поэта У. Э. Хенли «Invictus» («Несломленный»). Приводится в переводе А. Курошевой (Прим. перев.).
[Закрыть]. Но это еще не конец, а лишь шаг по пути искупления. Моя казнь неотступна, она предстает мне то в одном, то в другом обличье. Вот и спокойствие мое из того же ряда. Утешает лишь, что казниться мне назначено не вечно. «Приговорен к адским мукам до конца жизни его». Экая глупость: позволить преступнику самому определять продолжительность кары. Мой срок истекает нынче.
Мир вам всем. Сам я его не сподобился».
III
Свидетельство покойной Джулии Гетмен, полученное при посредстве медиума Байролла
«Легла я рано и заснула почти сразу же. Разбудило меня необъяснимое предчувствие чего-то ужасного. Помнится, в той, былой жизни оно посещало меня не так уж редко. Я понимала, что бояться мне нечего, но отделаться от него никак не могла. Мужа моего, Джоула Гетмена, дома не было; все слуги спали в другом крыле дома. Все было как обычно, причин для тревоги, казалось бы, никаких. Но охвативший меня ужас был так силен, что просто лежать я уже не могла. Я села и зажгла лампу, но это, противу ожидания, не помогло, скорее наоборот: при свете страшная тревога стала еще сильнее. Мне подумалось, что полоска света под дверью вернее укажет, где я, тому злому, что затаилось где-то снаружи. Вам, до поры обретающимся во плоти и подвластным страшным фантазиям, нетрудно представить, как сильно надо перепугаться, чтобы спасаться в темноте от ночных страхов. Все равно что запереться в крепости вместе с врагом – стратегия отчаяния!
Погасив лампу, я натянула одеяло на голову и лежала, вся дрожа. Я боялась позвать кого-нибудь на помощь, даже молиться не могла. В таком вот жалком состоянии я пробыла довольно долго. Вы бы сказали – «несколько часов», для нас же, обретающихся вне тел, слова эти не имеют смысла, ибо времени здесь не существует.

Наконец я услышала – кто-то идет по лестнице! Шаги были тихие, медленные, неуверенные; тот, кто шел, явно не знал, куда поставить ногу. Я же своим смятенным разумом понимала лишь, что близится нечто слепое и бессмысленное, что все мольбы о пощаде будут тщетны. Мне тогда показалось еще, будто внизу, в холле, осталась гореть лампа, и неуверенные шаги изобличают в пришельце порожденье тьмы ночной, непривычное к свету. Конечно, это было глупо, тем более что я своими руками потушила лампу в спальне, но что вы хотите от насмерть перепуганной женщины. У страха ведь нет рассудка, он глуп по определению. Он способен лишь рождать зловещие образы и нашептывать коварные и противоречивые советы. Мы, обретающиеся в Царстве Ужаса, томящиеся в вечном мраке, окруженные призраками былой жизни, не видящие друг друга и даже себя, но обреченные ото всех таиться, более всего стремимся к общению с теми, кто нам дорог, но мы немы, мы их боимся, а они боятся нас. Но иногда преграда рушится, вековечный закон отступает перед бессмертной мощью любви или ненависти. С нас тогда снимается заклятье, и мы делаемся видимы для тех, кого хотим предостеречь, утешить или покарать. Нам самим неведомо, в каком обличье мы им предстаем, знаем лишь, что оно ужасает тех, кого мы хотим успокоить и от кого ждем участия.
Умоляю, простите за многословие ту, что когда-то была женщиной. Но способ, которым вы нас вопрошаете, столь несовершенен, что наши ответы едва внятны для вас. По невежеству своему вы спрашиваете о том, что и для нас неведомо или запретно. А многое из того, что нам открыто, мы не можем вам передать, поскольку знание это утратит смысл, если облечь его в слова. Ведь нам приходится общаться с вами на вашем бедном языке, который составляет лишь малую часть нашего. Живые думают, будто у нас есть какой-то свой мир. Нет, мы знаем лишь один мир – тот, в котором вы живете, но для нас в нем нет ни солнца, ни тепла, ни музыки, ни смеха, ни птичьего щебета, ни дружества.
Но я умерла не от страха: Оно отступило, ушло. Я слышала, как шаги на лестнице становятся все тише, удаляясь. Они показались мне поспешными, словно пришелец сам чего-то боялся. Я вскочила с постели, собираясь позвать на помощь. Но едва я нашарила дверную ручку, как – милостивый Боже! – снова услыхала на лестнице шаги. На этот раз они были быстрые, уверенные и такие тяжелые, что даже пол вздрагивал. Я забилась в угол, сжалась в комок. Попыталась молиться. Призывала в мыслях своего любимого мужа. Потом услышала, как отворяется дверь. Тут я провалилась в беспамятство и очнулась лишь тогда, когда чьи-то руки стиснули мне горло. Я замолотила руками по полу… пыталась отбиваться… а меня вдавливали в пол… потом язык вывалился у меня изо рта! И я перешла в нынешнее свое состояние.
Нет, я так и не узнала, кто это был. О нашем прошлом мы знаем не более, чем знали в минуту смерти. Мы видим то, что происходит сейчас, но былое для нас застыло; нам ведомо лишь то, что запечатлено в нашей памяти. Нам недоступна вершина Истины, с которой можно рассмотреть причудливый пейзаж страны былого. Мы все еще обретаемся в Долине Теней, прячемся в укромнейших ее местах, разглядываем сквозь заросли тамошних обитателей, безумных и злобных. Откуда же нам узнать о прошлом хоть что-то новое?
То, о чем я хочу рассказать, случилось ночью. Приход ночи мы определяем по тому, что люди удаляются в свои жилища. Тогда мы выходим из наших убежищ, подходим к домам, которые когда-то были нашими, заглядываем в окна, а порой даже решаемся войти и взглянуть на вас, когда вы спите. Я долго пробыла у того места, где свершился мой уход из той жизни. Мы часто так делаем, пока живы те, к кому мы питаем любовь или ненависть. Я никак не могла найти способ сообщить о себе мужу и сыну, сказать им, что я рядом, что по-прежнему люблю их и всецело сострадаю их скорбям. Когда я склонялась над ними спящими, они просыпались. Стоило же мне, отчаявшись, приблизиться к ним бодрствующим – и первый же взгляд живого человека гнал меня прочь.
И в ту ночь я искала их, но никак не могла найти… да и боялась найти. Их не было ни в доме, ни на лужайке, залитой лунным светом. Хотя солнце утрачено для нас навсегда, луну – и полную, и ущербную – мы все-таки видим. Она светит нам по ночам, а иногда и днем, восходит и садится, как в былой жизни.
Охваченная печалью, я покинула лужайку и пошла в тишине по освещенной луной дороге. И тут услышала возглас моего бедного мужа, преисполненный испуга и изумления, и голос сына – он уговаривал отца, пытался успокоить. Оба они стояли в тени, отброшенной деревьями… стояли близко, так близко. Их лица были обращены ко мне, а муж смотрел на меня во все глаза. Он меня увидел… наконец-то он меня увидел! Стоило мне это осознать, и мой страх отлетел, как дурной сон. Любовь победила роковое заклятье, победила закон, разделяющий живых и неживых! Охваченная восторгом я вскричала… мне казалось, что вскричала: «Он видит! Он видит меня! Он все поймет!».
Едва сдерживаясь, я подалась к ним, ликующая, красивая, с улыбкой на устах. Вот сейчас он обнимет меня, и я его утешу, вот сейчас я возьму сына за руку, а потом мы скажем слова, которые разрушат преграду, стоящую меж живыми и мертвыми.
Увы! Увы! Его лицо побелело от ужаса, глаза стали, как у затравленного зверя. Он попятился от меня, потом побежал со всех ног и скрылся в лесу. Где он теперь, мне знать не дано.
Моему же бедному мальчику, который остался совсем один, я так и не смогла сообщить, что я близко, совсем рядом. Уже скоро он тоже перейдет в Незримую Жизнь, и тогда я утрачу его навсегда».

Поимка

Оррин Брауэр из Кентукки, обвинявшийся в убийстве своего шурина, бежал из тюрьмы графства, куда его привезли дожидаться суда. Он ударил тюремщика в лоб тяжелой железякой, снял с его пояса связку ключей, отпер дверь и вышел в ночь. Оружия при тюремщике не было, так что Брауэр не разжился ничем, что помогло бы ему отстоять вновь обретенную свободу. Оказавшись за пределами городка, он не придумал ничего лучшего, как податься в лес. Все это случилось много лет назад, когда тамошние места были куда более дикими, чем сейчас.
Ночь была непроглядно темная, луна не светила, не было видно и звезд. А поскольку Оррин Брауэр жил вдали от городка и плохо знал его окрестности, он, естественно, вскоре заплутал. Он даже не смог бы ответить на главный вопрос – к городку он идет или прочь от него. Он знал что уже собрался отряд поимщиков, знал, что собаки скоро возьмут его след, знал, что шансов на спасение почти нет, но помогать ловить себя не желал. Даже один лишний час на свободе дорогого стоил.
Неожиданно для себя самого он вышел из леса на заброшенную дорогу, и там вдруг увидел человека; тот стоял, не шевелясь, и во мраке не разглядеть было, кто это такой. Отступать было поздно: беглец чувствовал, что при первой же попытке скрыться в лесу его, как он выразился потом, «нашпигуют картечью». Так что эти двое довольно долго стояли там, неподвижные, как деревья вокруг. У Брауэра сердце готово было выскочить из груди, а что в это время ощущал тот, другой, не знает никто.
Минутой позже – а может, минул целый час – луна выглянула в просвет меж облаков, и беглец увидел, как фигура, словно воплощавшая Закон, повела рукой, показывая куда-то назад. Брауэр понял. Он повернулся к своему поимщику спиной и послушно побрел, куда велели, не уклоняясь ни вправо, ни влево и едва осмеливаясь дышать; по спине и затылку бегали мурашки, как у всякого, кому целятся в спину.
Брауэр был не робкого десятка, это так же верно, как и то, что жизнь ему предстояло закончить в петле. О том же говорила и отвага, которую он явил, защищая свою жизнь и убив при этом шурина. Нет нужды приводить здесь все эти обстоятельства; они вскрылись позже, на суде, и, сложись все по-другому, могли бы спасти его шею от веревки. Но что ему было делать? Когда храбрый человек проигрывает, он это признает.
Они двинулись обратно по старой дороге, рассекающей лес. Только раз Брауэр рискнул обернуться, только раз, когда сам вступил в глубокую тень и знал, что тот, другой, освещен луной. Конвоиром был Бартон Дафф, его недавний тюремщик, бледный как смерть, а над бровью лиловел синяк от удара железякой. Больше Оррин Брауэр не любопытствовал.
В конце концов они вошли в городок. Улицы были освещены, но пустынны: в городке остались только женщины и дети, да и те сидели по домам. Путь преступника лежал прямо к тюрьме. Он сам подошел к ее главному входу, сам взялся за ручку тяжелой железной двери, сам толкнул ее – и тут же оказался в окружении полудюжины вооруженных мужчин. Только тут он осмелился обернуться. Но следом за ним никто не вошел.
На столе, что стоял в коридоре, лежало мертвое тело Бартона Даффа.

Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































