Текст книги "Диагноз смерти (сборник)"
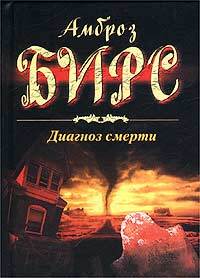
Автор книги: Амброз Бирс
Жанр: Зарубежное фэнтези, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
Больше мне нечего сказать о Джоне Бартайне. Он долгие годы был моим другом, минут пять – пациентом, а теперь вовеки останется – да смилуются надо мной Небеса! – моей жертвой. Его похоронили вместе с его часами, за этим я сам проследил. Да сподобится душа его райского блаженства, как и душа его вирджинского пращура… если это и в самом деле две души, а не одна.

Человек, который выходил из «носа»

В том районе Сан-Франциско, которую местные жители издавна называют Северным Берегом, близ места, где сходятся две улицы – не стану их называть, – есть участок пустоши, отличающийся от прочих городских неудобиц лишь ровным рельефом. Впрочем, сразу же за ним, у южной его стороны местность круто подымается, и подъем этот пересечен тремя террасами, вырезанными в мягком камне. Здесь пасутся козы и здесь же живут бедняки, причем семейства их сосуществуют в самом дружественном соседстве, что называется, «от основания города». Одно из скромнейших обиталищ, расположенное на нижней террасе, выделялось тем, что являло собой грубое, карикатурное подобие человеческого лица; нечто подобное – ни на кого не похожее, а значит, никого не обижающее – какой-нибудь мальчишка мог бы вырезать из выеденной тыквы. За глаза могли сойти круглые окна, за нос – дверь, за рот – выемка в земле перед входом. Ступенек же у дома не было как таковых. Для карикатуры домишко этот был велик, а для жилья, пожалуй, слишком мал. А от пустого, бессмысленного взгляда его «глаз», лишенных бровей и век, делалось жутковато.
Иногда из «носа» этого домишки выходил мужчина. Он поворачивал направо, проходил мимо того места, где полагалось бы быть правому уху, после чего пролагал путь свой сквозь сонмище детей и коз, которым с утра полнилось узкое пространство между домами и краем террасы, и, преодолев шаткую лестницу, спускался на улицу. Здесь он останавливался, чтобы взглянуть на часы, и кто-нибудь посторонний, случайно проходящий мимо, мог бы удивиться: зачем такому вот человеку знать точное время? Но более длительное наблюдение могло бы показать ему, что время играет в прогулке этого мужчины весьма важную роль: ровно в два часа пополудни он шел дальше, и так 365 раз в году.
Итак, уверясь, что не ошибся насчет времени, он возвращал часы на место и быстро шел на юг. Миновав два квартала, он поворачивал направо и, подходя к следующему углу, устремлял взор на одно из верхних окон трехэтажного здания, что стояло через дорогу. Дом этот некогда выстроили из красного кирпича, но к тому времени он был скорее серым – поменял цвет от старости и пыли. Строили его для того, чтобы в нем жили люди, но вскоре там завелась фабрика. Уж не знаю, что там производят; наверное, те вещи, которые обычно делают на фабрике. Знаю только, что всякий день, кроме воскресений, в два часа пополудни здание грохотало и разве что не дрожало. Огромные машины скрежещут, визжит древесина, которую терзают пилами. Мужчина устремлял пристальный взгляд на одно из окон фабрики, хотя разглядывать там нечего – на стеклах, правду сказать, столько пыли, что они давно уже не прозрачны. Мужчина, о котором мы ведем речь, смотрел на окно не отрываясь, лишь поворачивал, проходя, голову назад. Дойдя до следующего угла, он поворачивал налево, обходил вокруг квартала, и возвращался на то же место, через улицу от фабрики, после чего снова поворачивал и шел, глядя через правое плечо, пока окно не пропадало из поля зрения. Многие годы он, насколько известно, не менял свой маршрут и не добавлял к нему ничего нового. Через четверть часа он снова оказывался во «рту» своего жилища, и женщина, уже поджидавшая его, стоя в «носу», помогала ему войти. И он исчезал в доме – до двух часов следующего дня.
Эта женщина – его жена. Она кормит и себя, и мужа, обстирывая соседей – окрестную бедноту – за такие гроши, что для них стирать самим или тащить тряпье в китайскую прачечную просто не имеет смысла.
Человеку этому пятьдесят семь или около того, хотя выглядит он гораздо старше. Волосы у него совершенно седые. Бороду он не носит и всегда свежевыбрит. Руки у него чистые, ногти хорошо ухожены. Что касается одежды, то она, пожалуй, слишком хороша и для такого жилища, и для занятия жены, да и для его собственного положения. Пошита она из весьма добротной ткани, которая совсем недавно была еще в моде. Шелковая шляпа мужчины сработана не раньше прошлого года, ботинки заботливо начищены и заплаток на них не заметно. Я слышал, будто костюм, в котором он каждый день выходит на свои пятнадцатиминутные прогулки, – совсем не тот, что он носит дома. Им, как и всем своим имуществом, он обязан жене: она чистит его и штопает, да и прикупает к нему что-нибудь, когда позволяют ее скудные средства.
Тридцать лет назад и Джон Хардшоу, и его жена жили на Ринкон-хилл, в одном из прекраснейших домов этого квартала, некогда считавшегося аристократическим. Когда-то он был врачом, но, унаследовав от своего отца значительное состояние, перестал интересоваться болезнями ближних своих, благо хватало забот по управлению собственными делами. И он, и его жена отличались прекрасными манерами и принимали в своем доме довольно узкий круг себе подобных, то есть состоятельных и благовоспитанных. Насколько известно, мистер и миссис Хардшоу были счастливы вместе; и жена не только обожала своего красивого и умного супруга, но и чрезвычайно им гордилась.
Среди их знакомых были Баруэллы из Сакраменто – муж, жена и двое маленьких детей. Мистер Баруэлл был гражданский и горный инженер, чьи обязанности часто уводили его далеко от дома и приводили в Сан-Франциско. В таких случаях жена обычно приезжала с ним и проводила довольно много времени в доме подруги, миссис Хардшоу. С нею приезжали и дети, числом двое, которых миссис Хардшоу, сама бездетная, очень любила. К несчастью, ее супруг влюбился в их мать, причем не на шутку. К еще большему несчастью, эта очаровательная леди была не столь мудра, сколь слаба.
Одним осенним утром, часа в три, патрульный № 13 полиции Сакраменто увидел, что какой-то мужчина украдкой выходит через черный ход богатого дома, и тут же его задержал. Мужчина этот – на нем была шляпа с обвисшими полями и ворсистое пальто – по пути в участок предложил полисмену сперва сотню, потом пять сотен, потом тысячу долларов, лишь бы тот его отпустил. Поскольку при себе у данного субъекта и сотни-то не было, добродетельный полисмен с презрением отверг его посулы. Уже у дверей участка задержанный посулил ему чек на десять тысяч долларов и предложил приковать себя наручниками к иве на берегу до тех пор, пока чек не будет оплачен. Поскольку патрульный высмеял и это предложение, он смолк, а на вопрос об имени назвал явно фиктивное. В участке его обыскали и не нашли ничего ценного, кроме миниатюрного портрета миссис Баруэлл – хозяйки дома, близ которого его поймали. Портрет был украшен весьма крупными алмазами, и это вызвало у неподкупного патрульного № 13 острое, но запоздалое сожаление. Документов при задержанном не было, равно как и меток на одежде, так что он был зарегистрирован как Джон К. Смит, подозреваемый в краже. Инициал «К.» был плодом его вдохновения, и он этим, похоже, немало гордился.
Между тем по поводу таинственного исчезновения Джона Хардшоу среди обитателей Ринкон-хилл в Сан-Франциско пошли самые причудливые сплетни, да и одна из городских газет внесла свою лепту. На все это леди, которую газета успела назвать вдовой, обращала мало внимания, и уж конечно, ей даже в голову не могло прийти искать мужа в городской тюрьме Сакраменто, города, в котором он, насколько ей было известно, никогда не бывал. Вскоре Джону К. Смиту было предъявлено обвинение, а дело его – передано в суд.
Приблизительно за две недели до суда миссис Хардшоу случайно узнала, что ее муж задержан в Сакраменто под вымышленным именем по обвинению в краже, поспешила в этот город и явилась к тюремному начальству с просьбой о свидании с мужем, Джоном К. Смитом. Вконец измученную переживаниями и бессонной ночью на пароходе, одетую в глухой дорожный костюм, ее едва ли можно было принять за леди, но манеры говорили сами за себя, да и добиваться свидания она готова была даже через суд. Так или иначе, ей разрешили повидаться с обвиняемым с глазу на глаз.
О чем они разговаривали, так никто и не узнал, хотя более поздние события указывают, что мистер Хардшоу нашел какой-то способ подчинить ее волю своей. Убитая горем, она вышла из тюрьмы, не ответив ни на один вопрос, и вернулась к себе домой. А поскольку в Сан-Франциско слишком многим пришлось бы объяснять, куда подевался ее муж, она через неделю уехала и сама. «Возвратилась в штаты» – вот и все, что о ней было известно.
На суде обвиняемый сразу же признал себя виновным – «по совету своего адвоката», как сказал все тот же адвокат. Но судья, которому обстоятельства дела показались не совсем ясными, настоял на том, чтобы окружной прокурор допросил под присягой патрульного № 13 и чтобы присяжным были зачитаны письменные показания миссис Баруэлл, которая в это время болела и не могла явиться в суд. Сообщить же она могла не так уж много: по существу дела ей было нечего сказать, за исключением того, что портрет и в самом деле принадлежал ей, и в ту ночь она, скорее всего, оставила его на столике в гостиной. Она хотела подарить его мужу, когда тот вернется из Европы, куда ему пришлось отъехать по делам своей горной компании.
Манеры этой свидетельницы окружной прокурор, которому по долгу службы пришлось побывать у нее дома, назвал потом крайне странными. Дважды она наотрез отказывалась свидетельствовать, а однажды, когда ей оставалось только поставить подпись, выхватила листок из рук клерка и порвала на клочки. Она то призывала к своей кровати детей и буквально омывала их слезами, то отсылала их прочь. Наконец она прочла показания, записанные с ее слов и подписала их, после чего совсем обессилела. «Чуть не отъехала», – говорил потом окружной прокурор. Тут на сцене появился ее врач. Быстро разобравшись в ситуации, он схватил слугу закона за ворот и вытолкал из дома, а его помощника – вышиб пинками. Оскорбление закона в этом случае не было доказано; да и жертвы столь сурового обращения в суде этот вопрос не поднимали. Прокурор был честолюбив, ему надо было выиграть процесс, а уж при каких обстоятельствах были получены показания – дело десятое. Ведь обвиняемый тоже оскорблял закон, хоть и не в столь резкой форме, как вспыльчивый эскулап.
Чутко уловив намеки судьи, присяжные признали Джона К. Смита виновным – да им ничего другого и не оставалось – и он был приговорен к трем годам тюремного заключения. Адвокат осужденного ни словом не возразил на это и прошение о смягчении приговора подавать не стал; он и в течение процесса больше молчал, чем говорил. Он лишь пожал своему клиенту руку и вышел из зала. Очевидно было, что он согласился защищать подсудимого лишь затем, чтобы суд не назначил другого адвоката.
Джон Хардшоу отбыл свой срок в Сан-Квентине, и когда он выходил из тюрьмы, у ворот его ждала жена. Она специально приехала из «штатов», чтобы встретить его. Все были уверены, что они тут же отправились в Европу, во всяком случае, генеральная доверенность адвокату – он, кстати сказать, здравствует по сию пору и приоткрыл мне многие аспекты этой истории, – была заверена в Париже. Этот адвокат в кратчайшие сроки обратил в деньги все, чем Хардшоу владел в Калифорнии, и несколько лет никто не имел о злосчастной паре никаких известий. Тут надо еще заметить, что многие из тех, кому приходилось что-то слышать о странной истории, приключившейся с супругами Хардшоу, а также все, кто знал их лично, отзывались о них с теплотой и сочувствием.
Через несколько лет они вернулись. У него пошатнулось здоровье, и у обоих – благосостояние и настроение. Зачем они вернулись, неизвестно, да и не наше это дело. Какое-то время они жили, называясь Джонсонами, в довольно приличном квартале, что к югу от Рыночной улицы, жили тихо и от дома далеко не отходили. У них, надо думать, оставались кое-какие деньги, поскольку муж нигде не работал, да и здоровье его к этому не располагало. Все соседи отмечали, как предана миссис Джонсон своему больному мужу: она неизменно шла рядом с ним, заботливо поддерживая под руку. Они часами сидели, взявшись за руки, в небольшом сквере, и она читала ему вслух. Порой она поднимала от книги взгляд все еще красивых глаз, и обращалась к нему с каким-нибудь замечанием по поводу прочитанного или просто развлекала разговором, чтобы поднять настроение. О чем они говорили? Никто не знает. Читатель, который дал себе труд дочитать историю до этого места может высказать догадку: значит, им было что скрывать. Но мужчину трудно было вывести из глубокого уныния, и окрестные юнцы, охочие, как это сейчас повелось, до прозвищ, за глаза называли его Мрачным Мужем.
Но в один прекрасный день Джон Хардшоу переменился. Одному Богу известно, что вело его, но он прошел всю Рыночную улицу и продлил свой путь по холмам на север, а потом спустился к району, известному как Северный Берег. Повернув без особой цели налево, – казалось, ноги сами несли его, – он прошел по незнакомой улице до того места, где тогда стоял новый жилой дом, обратившийся ныне в обшарпанную фабрику. Глянув вверх, он вдруг увидел в открытом окне такое, что ему лучше бы не видеть, – там сидела Эльвира Баруэлл. Их глаза встретились. Громко вскрикнув, – так кричит подстреленная птица – женщина вскочила на ноги и высунулась из окна, держась руками за створки. Привлеченные криком прохожие тоже посмотрели вверх. Хардшоу стоял, неподвижный и безмолвный, глаза его пылали. «Берегись!», – крикнули в толпе, поскольку женщина высунулась еще дальше, словно бросая вызов закону всемирного тяготения, как раньше – Пятой заповеди. Она нагнулась, и черные волосы упали с плеч, почти скрыв ее лицо. Еще мгновение – и!.. Испуганный крик пронесся по улице – она потеряла равновесие, и, мелькнув неразберихой юбок, рук, ног, волос и белого лица, ударилась о тротуар со страшным звуком и такой силой, что удар ощутили даже те, кто стоял в сотне футов от места трагедии. На мгновение все отвели взгляды от того ужаса, что распростерся на тротуаре. А когда снова повернулись, увидели вместо одного тела два. Мужчина без шляпы сидел прямо на булыжниках, прижимая к груди изуродованное тело. Он целовал разбитые щеки, пытался в путанице окровавленных волос отыскать губы, и по лицу его ручьями стекала кровь, окрашивая бороду в багровый цвет.
Здесь эту историю можно было бы и закончить. Добавлю лишь, что Баруэллы как раз в то утро вернулись из Перу, где провели два года. Неделей позже вдовец, вдвойне опустошенный, поскольку верно понял значение ужасной выходки Хардшоу, отплыл неизвестно куда – мне неизвестно, по крайней мере, – с тем, чтобы больше не возвращаться. Хардшоу же – то есть Джонсон – провел год в Стоктоновской психиатрической лечебнице, сердобольные друзья устроили так, чтобы супруга могла за ним ухаживать. Когда его выпустили, не излечившегося, но вполне безопасного для окружающих, они возвратились в город, который, казалось, обрел теперь для них некое роковое обаяние. Какое-то время они жили близ Миссии Долорес, жили лишь чуть лучше, чем тамошние призреваемые, но это было слишком далеко от заветного места, к которому мужчина ходил каждый день, завести же повозку не позволяли средства. Так и пришлось этому бедняге и ангелице небесной, жене преступника и сумасшедшего, перебраться в дешевую лачугу на нижней террасе Козьего холма. Отсюда до строения, которое когда-то было жильем, а потом стало фабрикой, не особенно далеко. Фактически, это дистанция пешей прогулки, о приятности которой можно судить по тому, что мужчина совершает ее каждый день. Только вот возвращается он несколько утомленным.

Происшествие в Браунвилле[14]14
Этот рассказ был написан в соавторстве с мисс Айной Лилиан Петерсон, которой он и обязан всем лучшим, что в нем есть (Прим. автора).
[Закрыть]

Я преподавал в небольшой школе неподалеку от Браунвилла, который, как знает всякий, кому посчастливилось там бывать, расположен в живописнейшем уголке Калифорнии и является, можно сказать, его столицей. Летом этот городишко наполняется приезжими, которых здешняя газетка называет искателями удовольствий, но кого было бы правильнее назвать больными в последнем градусе. Пожалуй, вернее и справедливее было бы называть и сам Браунвилл местом последней надежды. Он был битком набит пансионами, в наименее погибельном из которых я дважды в день – ленч мне подавали в школе – справлял обряд, призванный удержать мою душу в бренном теле. От этой «гостиницы», – так его называла та же газетка, иногда, впрочем, меняя титул на «караван-сарай» – до школы было мили полторы, если идти по проселку. Но был еще один путь, о котором мало кто знал; он вел через невысокие холмы, густо поросшие лесом, и был значительно короче. Вот этим самым путем я и возвращался однажды вечером. Был последний день семестра, и я задержался в школе почти до темноты, готовя отчет для совета попечителей и не особенно надеясь, что двое из них смогут его прочесть, а третий – этакий случай преобладания духа над материей – переменит позицию: в извечном противостоянии семьи со школой он держал сторону собственного чада.
Я прошел не более четверти пути, когда мне попалась проказливая семейка ящериц, которая обосновалась неподалеку от пансионата «Браун-вилл-хаус». Они казались совершенно счастливыми, и ясно было, что здесь их держит никак не забота о здоровье. Я уселся на ствол повалившегося дерева и решил понаблюдать за ними. Пока я там сидел, совсем стемнело, лишь тонкая дуга месяца призрачным своим светом серебрила стволы и листья.
Тут я услышал голоса: женский, сердитый и прерывистый, спорил с мужским, глубоким и даже, пожалуй, музыкальным. Я поднял взгляд, пытаясь среди теней высмотреть тех, кто нарушил мое одиночество, но не увидел никого. Конечно, я мог видеть не более, чем на несколько ярдов, но дорожка просматривалась вполне хорошо, а значит, люди, чьи голоса я услышал, стоят где-то среди деревьев. Кроме этих голосов до меня не доносилось ни звука, а они стали теперь настолько отчетливыми, что я мог разобрать каждое слово. Мужской голос звучал гневно, да и слова были ему под стать.
– Я не стану вам угрожать. Вы ведь ничего не сможете сделать, и сами прекрасно это знаете. Пусть все идет своим чередом или – Богом клянусь! – страдать придется вам обеим.
– Что вы имеете в виду? – спросила женщина. Голос, несомненно, принадлежал настоящей леди. – Вы же не собираетесь… убить нас.
Ответа не последовало, по крайней мере, я его не услышал. Пока длилось молчание, я все вглядывался в лес, надеясь разглядеть хотя бы очертания говоривших, поскольку вдруг уверился, что дело очень серьезное и щепетильность тут неуместна. Мне показалось, что женщине в самом деле грозит опасность: ведь ее собеседник не отверг с ходу возможность убийства. А когда человек играет роль потенциального убийцы, он не имеет права выбирать себе аудиторию.
Через какое-то время я все-таки разглядел их среди деревьев, но лишь в самых общих чертах, насколько позволял лунный свет. Мужчина, высокий и стройный, был, похоже, во всем черном, дама же, насколько я мог судить, в сером платье. Они наверняка не могли меня видеть, я ведь был в глубокой тени, но когда беседа возобновилась, оба почему-то понизили голоса, так что больше я не расслышал ни слова. Мне показалось, что женщина начала оседать на землю, вскинув руки, словно в мольбе. Такое мне часто приходилось видеть на сцене, но в жизни – никогда, так что я и теперь не уверен, что это было на самом деле. Мужчина же неотрывно смотрел на нее, и его глаза, казалось, холодно поблескивали в лунном свете. Мне почему-то подумалось, что он вот-вот повернется и увидит меня. Уж не знаю, что на меня нашло, но я вдруг выступил из тени, которая меня скрывала. В тот же миг обе фигуры пропали. Напрасно я вглядывался в промежутки между деревьями и кустами подлеска. Ночной ветерок тихо тронул листья; ящерицы уже отправились на покой – ведь рептилии, надо сказать, блюдут режим неукоснительно. А луна уже скользнула за черный холм на западе.
Я пошел к пансиону в столь смятенном состоянии, что не мог бы даже утверждать наверняка, что видел и слышал кого-то, кроме ящериц. Все это казалось мне весьма странным и даже, пожалуй, жутким. Выглядело это так, словно в некоем явлении – объективном или субъективном – отыскалась какая-то сомнительная составляющая, которая наложила печать сомнительности на целое, да еще и придала этому целому нереальный оттенок. Мне это, надо сказать, совсем не нравилось.
На следующее утро за завтраком за нашим столом появилось новое лицо: напротив меня сидела молодая женщина, на которую я время от времени взглядывал лишь потому, что сидел прямо напротив. Когда она заговорила с высокой и крепкой женщиной, что прислуживала нам за столом, мое внимание привлек ее голос – он был похож на тот, который был мне памятен по вчерашнему случаю в лесу. Вскоре другая девушка, выглядевшая чуть старше, подошла к моей визави и села слева от нее, ласково пожелав ей доброго утра. Я вздрогнул: если голос первой девушки лишь напоминал тот, что я слышал ночью, то ее совпадал с ним совершенно. Это была та самая леди, которую я видел и слышал вчера в лесу, она во плоти сидела передо мной.
Ясно было, что это сестры. Наверное, бессознательно опасаясь, что во мне признают бесславного и безмолвного героя странного ночного приключения – моя совесть была неспокойна: ведь я подслушивал, пусть и невольно, – я наспех выпил чашечку теплого кофе, который здешняя прислуга мудро держала именно для таких вот торопыг, и поднялся из-за стола. Уже выходя из дома, я услышал арию Герцога из «Риголетто», исполняемую красивым глубоким баритоном. Должен признать, партию он вел безошибочно, но что-то в этом исполнении меня смущало. Так и не поняв, что именно мне не нравится, я поспешил по своим делам.
Вернувшись позже, уже среди дня, я увидел старшую из девушек, она разговаривала у дверей с высоким мужчиной, одетым во все черное. Собственно, никого другого я и не ожидал увидеть с нею. Меня так донимало желание узнать что-нибудь об этих людях, что я весь день не мог толком думать ни о чем ином и в конце концов решил выведать все, что удастся, любыми путями, исключая, конечно, бесчестные и противозаконные.
Тон мужчины был весьма приветлив, но, заслышав мои шаги по гравию, он умолк, обернулся и посмотрел мне прямо в лицо. Средних лет, темноволосый и на удивление красивый, он был безупречно одет и держался так, будто родился в этой одежде. Взгляд, который он обратил на меня, был открытым и ясным, в нем не было ни намека на грубость или вызов. Сейчас я говорю о тогдашнем, непосредственном восприятии, если же основываться на том, что подсказывает память, он должен бы был внушить мне неприязнь и опасение… мне не хочется называть это страхом. Секундой позже мужчина и женщина исчезли, словно по мановению волшебной палочки. Впрочем, уже проходя коридором, я увидел их в одной из комнат: они просто зашли в дом через французское окно, доходящее до самого пола.
В разговоре с хозяйкой пансиона, дамой весьма словоохотливой, я осторожно коснулся ее новых постояльцев. То, что я узнал от нее, можно изложить на правильном английском примерно так: эти две девушки – Полин и Ева Мейнард – приехали из Сан-Франциско; Полин была чуть постарше. Мужчину же звали Ричард Беннинг, девушкам он приходился опекуном, а прежде был ближайшим другом их отца, который недавно скончался. Мистер Беннинг привез их в Браун-вилл, надеясь, что горный воздух пойдет на пользу Еве, у которой, как подозревали врачи, начиналась чахотка.
Эти немногие сведения хозяйка сопроводила цветистым панегириком мистеру Беннингу, из которого можно было понять, что он готов был щедро оплатить все услуги, какие мог предоставить ее пансион. Заодно я узнал, что у него золотое сердце: ведь он был так предан своим прелестным подопечным и так трогательно заботился о том, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Это было очевидно для нее, я же мысленно вынес скупой вердикт: «Не доказано».
Да, мистер Беннинг был весьма внимателен к своим подопечным. Гуляя по окрестностям, я встречал их довольно часто, порой в компании с другими гостями нашего пансионата, которые скрашивали курортную скуку прогулками по ущельям, рыбной ловлей и стрельбой из ружей. И хотя наблюдал я их настолько близко, насколько позволяли приличия, я не замечал ничего, что могло бы как-то объяснить странные речи, слышанные мною в лесу. К этому времени я уже был представлен обеим девушкам, да и с их опекуном обменивался взглядами и даже раскланивался без какой-либо антипатии.
Минул месяц, и я почти перестал интересоваться их делами, но однажды вечером наше небольшое сообщество было взбудоражено происшествием, которое напомнило мне о том, что я недавно подслушал.
Умерла Полин, старшая из девушек.
Сестры Мейнард спали в одной комнате, на третьем этаже пансиона. Проснувшись ранним утром, мисс Ева обнаружила, что Полин не дышит. Позднее, когда бедная девушка плакала у тела покойной в окружении толпы сочувствующих, но, в общем-то, чужих людей, в комнату вошел мистер Беннинг и, как мне показалось, хотел взять ее за руку. Девушка тут же встала и медленно пошла к двери.
– Это вы… – проговорила она. – Вы это сделали. Вы… вы… вы!
– Она не в себе, – объяснил он нам ровным голосом.
Он наступал на нее, шаг за шагом, она шаг за шагом отступала. Он пристально смотрел ей прямо в глаза, и во взгляде его не было ни нежности, ни сострадания. Она остановилась, и рука, которую она подняла было, начав его обвинять, упала вдоль тела. Большие глаза девушки начали медленно закрываться, веки опускались, скрывая их странную дикую красоту, а сама она застыла и побледнела, как ее мертвая сестра. Беннинг взял ее за руку и мягко обнял за плечи, словно хотел поддержать девушку. Вдруг она врывалась, разразилась слезами и приникла к нему, как ребенок к матери. Он улыбнулся, и улыбка эта мне особенно не понравилась – впрочем, при покойной улыбаться вообще нехорошо, – а потом тихо вывел мисс Еву из комнаты.
Провели, как и полагается, дознание, результатом которого стал обычный в те времена вердикт: смерть наступила вследствие сердечной болезни. Это было еще до того, как изобрели сердечную недостаточность, хотя именно сердцебиения бедной Полин и недоставало. Тело ее набальзамировали, а потом его увез в Сан-Франциско совершенно чужой человек, которого специально оттуда вызвали. Ни Ева, ни Беннинг не поехали сопровождать его. Местные сплетники – да и не только они – находили все это более чем странным; но хозяйка наша, что называется, грудью встала за них, объявив, что здоровье девушки оставляет желать лучшего и тяготы печального обряда могут окончательно подкосить ее. Мистер же Беннинг, равно как и девушка, и вовсе не собирались кому-либо что-то объяснять.
Однажды вечером, примерно через неделю после смерти девушки, я вышел на веранду пансионата, чтобы забрать позабытую там книгу. В тени виноградной лозы я увидел Ричарда Беннинга. Это не было для меня сюрпризом, поскольку, выходя на веранду, я слышал приятный голос Евы Мейнард. Она стояла вплотную к нему, положив одну руку ему на плечо, и, насколько я мог судить, пристально глядела ему прямо в глаза. Он же одной рукой держал ее свободную руку, а другой – поддерживал ее затылок. Вся его поза была исполнена особенного достоинства и непринужденной грации. Они так походили на влюбленных, что я ощутил еще большую неловкость, чем в ту памятную ночь. Я хотел незаметно уйти, но тут девушка снова заговорила, и контраст между ее словами и позой был столь разительным, что я остался, вернее сказать, просто прирос к месту.
– Вы заберете и мою жизнь, – сказала она, – как забрали жизнь Полин. Я знаю ваши намерения, знаю и ваши возможности. Я ничего у вас не прошу, кроме одного: сделайте все быстро и не мучайте меня.
Он не ответил – просто отпустил ладонь девушки, снял ее руку со своего плеча, повернулся, спустился с веранды и тут же скрылся в темноте. А вскоре я услышал, уже издали, как он своим прекрасным голосом скандирует какой-то варварский напев, который пробуждал мысли о некоей далекой странной земле, где живут существа, сопричастные неведомым запретным силам. Напев этот буквально зачаровал меня, но едва он стих, я очнулся и тут же понял, что пора действовать. Я вышел из тени и подошел к девушке. Она посмотрела на меня таким взглядом, какой бывает, пожалуй, только у затравленного зайца. Но возможно, ее испугало мое внезапное появление.
– Мисс Мейнард, – сказал я, – пожалуйста, расскажите мне, кто этот человек и что за власть он имеет над вами. Возможно, я невежлив, но, поверьте, спрашиваю не из праздного любопытства. Когда женщина в опасности, мужчина не может сидеть сложа руки.
Она слушала меня безучастно, словно это совсем ее не касалось. Когда я закончил, она прикрыла свои огромные синие глаза, словно я несказанно ее утомил.
– Тут вы ничего не сможете поделать, – сказала она.
Я схватил ее за руку и энергично потряс; так расталкивают человека, готового вот-вот провалиться в беспамятство.
– Очнитесь! – говорил я ей. – Надо же что-то делать. Если сами не можете, так позвольте мне. Вы сказали, что этот человек убил вашу сестру, и я вам верю… Вы сказали, что он готов убить вас, – я и этому верю.
Она посмотрела мне прямо в глаза.
– Вы ведь расскажете мне… все? – добавил я.
– Ничего не надо делать, уверяю вас… ничего. Даже если бы я могла что-то сделать, я бы не стала. В конце концов, это уже не имеет значения. Мы пробудем здесь еще два дня, а потом уедем. Далеко… о, очень далеко! И если вы что-то вдруг увидите, прошу вас, держите это при себе.
– Но это же сущее безумие, милочка моя! – Я надеялся вульгарной речью пробудить ее от мертвенной апатии. – Ведь вы прямо обвинили его в убийстве. И если вы не объясните, в чем тут дело, я вынужден буду обратиться к властям.

Эти мои слова заставили ее, что называется, встряхнуться, но совсем не так, как мне хотелось бы. Она гордо вскинула голову и заявила:
– Сэр, вам не следует вмешиваться в дело, которое вас не касается. Это мое дело, мистер Моран, только мое и уж никак не ваше.
– Это касается каждого мужчины в стране, да что там – в мире, – ответил я с такой же категоричностью. – Ладно, пусть вы совсем не любили свою сестру, но я ведь о вас беспокоюсь и…
– Послушайте, – перебила она, подавшись ко мне. – Я ее любила, Бог свидетель! Но еще больше – несказанно, невыразимо – я люблю его. Вы случайно проникли в тайну, но ни в коем случае не должны использовать это ему во вред. Я же буду все отрицать. Ваше слово против моего – вот что получится. Думаете, эти ваши «власти» поверят вам, а не мне?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































