Текст книги "Iстамбул"
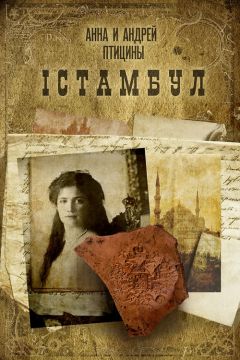
Автор книги: Андрей Птицин
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
Последняя мысль подстегнула его, хотя представить, что хозяева вот прямо сейчас, посреди ночи, поднимают бумажки и, сминая, бросают их в огонь, было невозможно. Да если Альберту не сообщить, он вообще до весны здесь не появится.
Но боязнь потерять эти рваные клочки от рассыпавшихся тетрадей, вдруг ставших бесценными для него, придала ему смелости. Он, крадучись, вышел из дома, перемахнул через низкую ограду, разделяющую оба участка, и направился к распахнутой и висящей на одной петле двери.
10
Наконец тот первобытный ужас, тот кошмар, та вселенских объемов катастрофа, что обрушились на её бедную маленькую головку, чуть-чуть приотпустили сжатое в тиски боли сердечко и позволили биться ему без привычного уже давления со стороны сознания: я умерла, я не должна, не могу, я НЕ ХОЧУ жить.
Она сделала глубокий вдох, выдох, но глаза открывать не стала. Она знала, что увидит – склонившееся над ней строгое лицо сиделки в белом чепчике, затем, после нескольких торопливых шагов к своей постели, появится второе лицо. Лицо свежее, молодое, с оживленным взглядом и милой улыбкой. Марта… Марта была той самой соломинкой, порой скользкой, порой липкой, но всё же соломинкой. Такой необходимой, чтобы выкарабкаться из потустороннего мира чёрного ужаса, в который ввергла её судьба.
Марта, Марта… Такая же молоденькая, даже внешне чем-то напоминающая её, её прежнюю. Она ей в общем-то даже благодарна – Марта готова взять на себя ее тяжкую ношу, её боль, её воспоминания, даже её имя.
«О, нет…» – При этой последней мысли больная непроизвольно чуть сдвинула брови и сразу же услышала тихий шорох, какое-то движение около себя.
«Господи, когда же я останусь одна?»
Легкое холодящее пощипывание в уголках глаз подсказало ей, что сейчас холодная рука сиделки осторожно прикоснётся к ней, убирая марлевой салфеткой непрошенные слезинки.
«Нет!»
Она открыла глаза и увидела то, что и ожидала. Строгое лицо в белом чепце и застывшая рука с зажатым в ней марлевым тампончиком. Сиделка опять была новая, они почему-то менялись каждые два-три дня. Ах, ну когда же её оставят в покое?! Почти сразу послышались мягкие быстрые шаги, и появилось второе лицо, ставшее уже родным и приносящее облегчение. Марта.
– Доброе утро, княжна. (нем.)
Она чуть улыбнулась в ответ, по виску скатилась слезинка. На порыв сиделки исполнить свою обязанность Марта недовольным движением отстранила её, а сама присела рядом, прямо на кровать.
– Сегодня мы уже улыбаемся? (нем.)
Это фамильярное «мы», да ещё и горячий бок Марты, плотно прижавшийся к её бедру, вызвали легкое раздражение. Ну, положим, Марта-то и впрямь улыбается во весь рот, а вот она-то чуть дёрнула губами из обыкновенной вежливости, по привитой с детства привычке источать из себя благожелательность.
«Пора кончать с этими привычками… – вяло подумала она и с трудом перевернулась на другой бок, почти уткнувшись лицом в стену. – Нет больше княжны. Нет никого и ничего из прошлой жизни… Нет и прошлой жизни… А, может быть, нет и жизни… ничего нет…»
Шушуканье за спиной, едва возникнув, сразу пропало. Выздоравливающая девушка не хотела больше слышать ничего и не слышала. Шарканье ног по ковру, звяканье переставляемых стаканов, скрип стула под грузным телом сиделки, шуршание аккуратно прикрываемой двери. Для неё этих звуков в её всё ещё нежизни не существовало.
Светлые воспоминания детства – это лёгкие белоснежные облака на голубом небосводе. Море света и тепла, любви и ласки, радости и счастья. Милый добрый рара, строгая, но бесконечно нежная mama, сёстры, долгожданный братик – бедненький Алёшенька. Блеск двора, любовь и почитание подданных, крепость родственных уз с могущественнейшими монархами Европы – как всё это оказалось фальшиво!
Чёрная краска на белое с голубым наползала постепенно Лицо papa становилось всё более растерянным и виноватым. Мешки под глазами, впалые щёки, тёмная, с серым оттенком кожа – бедный, бедный papa! Что он мог сделать?!
Mama с её истериками и головными болями, с её безграничной верой в какое-то необыкновенное, последнее чудо, способное вернуть то, что уже безвозвратно ушло.
Их, родителей, шепот о какой-то шкатулке в Гатчинском дворце… Первый год начала века… Первый год начала предыдущего века… Император Павел I…
Вот уж такие древности, как шкатулка пра-пра-прадеда, девочку вообще не волновали. А вот первый год начала этого века звучал более определенно – это же год ее рождения! Именно она родилась в первый год начала двадцатого века. И при чём тут какой-то полусумасшедший пра-пра-прадедушка? Которого и убили-то (хотя это очень, очень, очень нехорошо) потому, что император не должен быть ненормальным. Нет-нет, это тёмное пятнышко из истории Семьи лучше и вовсе никогда не вспоминать – и зачем только papa и mama шептались об этом? Надвигавшаяся грозовая туча была посерьёзнее канувшего в небытие сумасшедшего полушута Павла I.
Сначала papa сложил с себя обязанности Главнокомандующего, потом отрёкся от престола, затем и вовсе – арест Семьи. Да, это была катастрофа. Чёрная краска вокруг сгустилась настолько, что стала совершенно непроницаемой. Чернота окружила их, Семью, со всех сторон. Неопределённость униженного положения, неудобства спартанской жизни, холод, недостаток питания. Царское Село, Тобольск, Екатеринбург…
Но в тесном кругу Семьи всё ещё было светло и небезнадёжно. Нет, эта мерзкая чернота не посмеет разорвать последний рубеж, отделяющий её от помазанников Божиих. Это невообразимо. И этого не случится никогда.
Но ЭТО случилось.
В чёрном-чёрном городе стоял чёрный-чёрный дом. В этом чёрном-чёрном доме была чёрная-чёрная комната. В этой чёрной-чёрной комнате поселился чёрный-чёрный Ужас. Этот чёрный-чёрный Ужас протянул свои чёрные-чёрные щупальца… и закричал грохотом разрывающих барабанные перепонки выстрелов: «Отдай твою жизнь!!! А-а-а!!!»
– М-м-м…
На этот раз стон был негромким. Девушка проснулась от звука собственного голоса и приоткрыла глаза. Новая сиделка в высоком накрахмаленном чепце напряженно повернула в её сторону голову и замерла.
«Надо притвориться, что сплю». – Больная снова закрыла глаза, с шумом выдохнула застоявшийся в груди воздух и задышала мелко, но беззвучно. Тишины в комнате больше ничего не нарушало, если, конечно, не считать бешено бьющегося от страха сердца. Девушка выдержала несколько минут и вновь открыла глаза. В освещенном настольной лампой углу комнаты был виден силуэт женщины в чепце, читающей книгу.
Она перевела рассеянный взгляд на потолок и прислушалась к биению своего сердца. Удары становились реже, а боль всё сильнее. Она видела серый потолок с подёргивающимися отчего-то бликами света. Теперь она могла позволить себе кое-что вспомнить. Зачем? Может, чтобы вновь помучить себя? Потому что боль физическая, боль сердечная не идёт ни в какое сравнение с нестерпимой болью душевной? Может для того, чтобы научиться жить со своими воспоминаниями? А может для того, чтобы уж умереть окончательно?
Во всяком случае, выздоравливающая девушка вспомнила и твёрдо уяснила для себя: город не был чёрным-чёрным. И комната, полуподвальная комната особняка в Екатеринбурге, тоже не была чёрной. Всё было серым. Конечно, серым. А если ещё точнее – всё было бесцветным. Ах, когда же начали пропадать цвета из её жизни? И запахи? И ласкающие слух звуки? Да, да, всё это стало исчезать из её, из их жизни незаметно, постепенно и очень давно. Теперь даже непонятно – было ли это? Вернее, то?
Лёгкие белоснежные облака на голубом небосводе… Жизнь, полная надежд и веры в будущее. От них, детей, многое скрывали. Но они видели гораздо больше, чем думали об этом взрослые. Старшие сёстры были, конечно, более осведомлены о трудностях реальной жизни. А она, младшая из сестёр? Знала ли она, чувствовала ли, что грядут ужасные изменения? Маленькая девочка в кружевных белых платьях, шалунья, непоседа и хохотушка. Да на что ей было что-то знать? Она не хотела и не знала ничего, кроме того, что жизнь – прекрасна, mama и papa – лучшие mama и papa на свете, а сама она – великая княжна. Принцесса, царевна, умница и красавица. И все её очень любят, потому что и она всех очень и очень любит.
Да, ещё она знала, что у неё имеется свой полк – 148-й пехотный Каспийский великой княжны Анастасии Николаевны полк. Вот как он назывался, это она выучила наизусть. И она даже дважды участвовала в праздничных парадах и лично принимала, сидя на лошади, рапорт командира. Ну разве можно ещё в чём-то быть неуверенной, если по одному лишь движению твоего миниатюрного мизинчика тебе готовы служить и отдать свои жизни эти прекрасные воины? Эти могучие красавцы-офицеры с горящими от любви к ней и Отечеству глазами?
Нет-нет, о том, что существует на свете серый цвет, а тем более цвет чёрный, она предпочитала не догадываться. Ну а о том, что серый цвет, а потом и чёрный способны перекрыть все остальные цвета, она не догадывалась совершенно искренне.
Тот день ничем особенным не выделялся в длинной череде унылых, сменяющих друг друга вот уже больше года дней. День да и день себе. Летний ли, зимний – какая разница? И зимнюю стужу пережили они не одну, и весеннюю распутицу, и зной июньский, июльский, августовский… Год 1917-й, 1918-й… Неужели так же уныло придёт и год 1919-й, 20-й и 21-й…? Какие-то революции, какие-то бесконечные смены властей – белые, красные… Что это такое? Они что – все вокруг – сошли с ума? Совсем забыли Бога? Временное ли Правительство или правительство рабочих и крестьян – это что, реальность абсурда? Или абсурд реальности?
Только лицо у papa становится всё серее и серее, мешки под глазами и впалые щёки бросаются в глаза всё больше и больше. И mama чаще плачет, чаще болеет. Ольга недавно перенесла нервный срыв, Алёше стало хуже, он уже ослаб настолько, что не может держаться на ногах. А в остальном – всё до слёз однообразно. Одни и те же лица, одни и те же имена. Доктор, повар, горничные, служанки. Все милые и верные Семье люди. Охрана – и та почти не меняется, даже с приходом к власти большевиков.
Хотя нет, именно в последние дни перед тем, страшным днем, посмевшим прорвать невидимую завесу от окружающего чёрного Ужаса, всё чаще стали слышны новые фамилии: Голощёкин, Юровский, кажется, Люханов, какие-то «латыши» из непонятной ЧК.
Но ведь ничего не предвещало прихода этого чёрного Ужаса, хотя он и копошился повсюду вокруг их Семьи. Наоборот, именно в последние дни, как никогда, затеплилась надежда. Власть большевиков в июле 1918-го трещала по швам. Даже она, встретившая своё семнадцатилетие в кольце плотной стражи молоденькая девушка, знала о том, что в огне сопротивления большевикам почти весь Урал, Сибирь. Что Украину уже заняли немцы, на севере, в Мурманске, – англичане. Набрала силу Добровольческая белая армия. Антисоветские мятежи – в самых разных городах, в том числе и в Москве.
И ещё – mama и papa в последние дни получали какие-то таинственные письма от некоего друга, офицера, обещавшего свободу. Это было так здорово – надежда. Mama проверила на дочерях вшитые плотными рядами в лифы бриллианты – это всё им непременно понадобится, когда они окажутся далеко отсюда. О, этот доблестный русский офицер! Они знали, что Бог их не покинет, ведь и Старец Григорий обещал им долгую жизнь. Вот и появился в эту последнюю минуту этот офицер со своими письмами, написанными по-французски.
С mama они почти всегда говорили по-немецки, это не давало им окунуться с головой в окружающую русскую реальность. С papa они, дети, старались говорить по-английски. Между собой – по-французски. Только за дверью, за стенами да за окнами постоянно слышалась грубая русская речь, щедро намешанная на брани и усыпанная матом со смыслом непонятным, но омерзительным. Они, русские княжны, стали сначала бояться русской речи, а потом и избегать её.
А в тот день… вернее, в ту ночь… это была середина июля… в ту ночь русская речь стала окончательно ассоциироваться у них с Ужасом, нагло прорвавшимся в их чистый, маленький и оказавшийся таким хрупким и беззащитным бело-голубой мир.
– Подъём!!! На сборы – полчаса! Быстро, быстро! Машины уже на подходе! Эвакуация!!!
Великие княжны в растерянности. Солдаты, ввалившиеся посреди ночи в их спальню, не собираются выходить, чтобы дать им хотя бы переодеться. Надменный взгляд Ольги, вставшей и посмотревшей сквозь них, как через пустое место, заставил-таки их ретироваться. Смущенно опустив глаза, солдаты попятились к двери и вышли. Даже дверь плотно прикрыли. Четыре девушки споро и бесшумно оделись, проверили на себе наличие бриллиантов, застегнув друг на друге плотные утяжелённые корсеты, накинули поверх платьев лёгкие дорожные манто. Взяли в руки саквояжики с самым необходимым на первое время. Мария подхватила свою любимицу – маленькую сонную собачку, подумала-подумала и затолкала её в широкий рукав манто.
– Это – не брать! Потом, потом, вместе с остальными вещами. – Указал один из солдат пальцем с обгрызенным ногтем на саквояжики, когда сёстры столпились у двери при выходе из спальни.
Что ж, вышли с пустыми руками – за год они отвыкли иметь свою волю. Только вот спящая собачонка так и осталась в рукаве Марии, молча, безропотно разделив потом участь своей хозяйки. Участь, о которой пока не знали только они, члены венценосной Семьи, но уже знали солдаты, ведущие их на расстрел.
В коридоре встретились с остальными заключёнными Ипатьевского дома. Mama, никогда в присутствии солдат не позволяющая себе показаться сломленной, молча осмотрела дочерей, обменявшись многозначительным взглядом со старшей, затем повернулась к сыну, закусившему от боли и слабости губу, но стоящему самостоятельно около отца.
– Надо пройти через двор, – прокашлялся и сказал будничным голосом комендант. – Наверху сейчас опасно. Ну? Проходите, пожалуйста.
В этой всё ещё пока серой июльской ночи все вереницей пошли за комендантом. Алёшу пришлось нести на руках, остальные спокойно следовали за тем, кто не так давно ещё был императором, а теперь шагал за невзрачного вида большевиком, который тоже не так-то уж и давно покинул растревоженное еврейское местечко по зову загоревшегося революцией сердца.
Небольшая полуподвальная комната с тусклой лампочкой. Что тут можно делать посреди ночи? Два стула для mama и Алексея. Остальных зачем-то расставили в два ряда. Что за странные приготовления? Их что, собираются фотографировать или…
Монотонный, торопящийся и спотыкающийся почти на каждом слове голос – зачитывают какую-то бумагу. Что за спектакль? Слова – пугающие тем, что вроде бы русские, но со смыслом не в ладу. Революция… Приговариваются к расстрелу…
– Что-что? – Это papa, окинув сначала взглядом дочерей и жену, повернулся к зачитывающему бумагу человеку в дверях комнаты.
И всё. Дальше – уже не жизнь. Дальше – Ужас. Тот самый чёрный-пречёрный и страшный-престрашный. Тот самый – в чёрной-чёрной комнате, которая в чёрном-чёрном доме, который в чёрном-чёрном городе, который в чёрной-чёрной-чёрной…
– А-а-а!!!
– Милочка, милочка, что это с Вами?
– А-а-а-а!!!
– Вот… водички… да что же это такое… Кто-нибудь, скорее!
– А-а-а-а-а!!!
– Что это с ней? Опять? Я… я не знаю… Лекарства давали? Так ведь отказывается. Надо было… Но ведь она спала!
– А-а-а-а-а!!!
– Держите руки, голову… Нет, ничего не получится… Чёрт, да найдите вы, наконец, эту немку! Где она? Завтра вернётся? Сейчас, сейчас… вон ту ампулу подайте… ага… вот…
– А!!!
– О-о-ох… Всё. Замерла. Так, значит, Марта завтра вернётся? Ну и хорошо.
11
Бумаги, собранные в доме Альберта, представляли собой неприглядное зрелище. Саша вытряхнул их из-за пазухи сначала на свою кровать, потряс ещё уже расстёгнутой курткой – несколько разнокалиберных листков разлетелись по комнате.
«Будто с помойки подобрал», – подумал Саша. Вздохнул и стал складывать их стопками.
Это были и листы из блокнотов, и вырванные листы из ученических тетрадей – в клетку, в линейку, двойные и одиночные. Тот, кто писал эти бумаги, видимо, писал их в разное время и на том, на чём придётся. И чернила были разные – синие, фиолетовые, какие-то серые, почти водянистые и невидимые, что, возможно, объяснялось временем. Ведь именно от времени любые чернила имеют свойство выцветать, а бумага – становиться сухой и ломкой.
Были листы, исписанные шариковой ручкой. Вероятно, это были одни из последних листов, написанных старухой, потому что даже бумага их выглядела свежее и белее. Правда, цвет пасты сохранился куда хуже, чем цвет обыкновенных, хоть и более старых, чернил. Но тут своё преимущество имело то, что шариковая ручка оставляет заметные углубления в структуре бумаги, что и помогает читать даже то, что почти полностью лишено цвета.
Читать то, что раздобыл из разбитого старухиного сундука, Саша пока не стал. Ночь, болезненное состояние, волнение за здоровье и дальнейшую судьбу Толяна, Сан-Платоныча, усталость. Да и сами бумаги, раздобытые в общем-то неправедным путём, диктовали: надо соблюдать осторожность. В доме находятся посторонние, которым не надо знать, что он, Сашка, лазал в дом соседа после повторного бандитского погрома.
«Успею. Никуда теперь от меня это не денется…»
Однако, проспав всего пару часов, Саша вскочил: приснились ему бумаги старухи или нет? Он прислушался к похрапыванию Сан-Платоныча за стеной, к изредка доносящимся всхлипам спящего Тольки Парамонова, прикрыл плотнее дверь своей спальни и включил свет.
Вот оно – то, к чему хочется поскорее прикоснуться, во что хочется вникнуть. И одновременно то, к чему прикасаться страшно. Не оттого, что это может укусить или ужалить – нет, ведь это обыкновенные бумажки. А оттого, что информация, таинственным образом запечатлённая корявыми и полувыцветшими закорючками, может задеть куда глубже, чем простое, пусть даже и болезненное, прикосновение к твоей коже. Это может так задеть твою душу, так перевернуть что-то в твоём сознании, что ты даже почувствуешь себя другим человеком. Тем, кто вкладывал свою душу в послание. Или даже самим собою, но другим, изменившимся, – а это ещё страшнее.
А ещё и ещё страшнее – это если твои ожидания и надежды вообще не оправдаются, рухнут все вместе, когда ты поймёшь никчемность, пустоту, бессмысленность текста, по недоразумению хранившемуся в старом сундуке. А что если это просто упражнения в переводах скучных текстов на разные языки? Саша обратил внимание, что в бумагах встречаются целые блоки, исписанные по-английски, по-немецки, кажется, по-французски. Или это окажутся конспекты так называемых классиков марксизма-ленинизма, конспектировать работы которых, говорят, заставляли раньше студентов в неимоверных количествах?
Множество мыслей, чувств, ощущений возникали, пропадали и вновь возникали то одновременно, то по очереди в голове Александра. Он не фиксировал их, просто позволял возникать и тревожить своё возбуждённое состояние. А его дрожащие руки уже скинули с вороха бумаг, уложенных на столе стопками, полотенце. Его громко бьющееся сердце отстукивало ритм, успокаивая мечущиеся мысли и направляя их осмысленными потоками.
Вот – воспоминания о какой-то больной девушке, великой княжне, которая находится в заточении, о которой заботятся, но в то же время которую постоянно заставляют давать какие-то показания, что-то вспоминать, уточнять…
Вот – рассказ о некоей любовнице белоэмигранта, полковника Кобылянского. «Не слышал о таком, а тем более о его девице, Наталье Захаровне». Влюблённый в неё рыжий писарь, какая-то страшная трагедия с самоубийством полковника…
Турок, организовавший побег. Русские, которые то ли оплатили побег, то ли организовали его, а то ли спровоцировали…
Смерть объекта Ната-СС…
Турецкий талисман с видом Константинополя, изготовленный специально для русского царя Павла I. Подробное описание талисмана с отсутствующими уже драгоценными камнями, но ещё не изуродованного…
Да, предчувствие не обмануло Александра. Таинственное золотое изделие, найденное Толяном с дружками, – кажется, это и есть турецкий талисман. Нужно подробнее вникать в записи. Не торопясь, расшифровывать каждое слово. Нужно переводить страницы, написанные не по-русски. Предстоит работа. Большая. Интересная. Важная.
В голове пока сумятица, но что-то уже выстраивается в более или менее осмысленные ряды. Судьбы нескольких девушек каким-то образом связаны. И ещё эти девушки каким-то образом связаны с историей.
Саша считал, что он неплохо ориентируется в событиях XVIII–XIX веков. Уж это-то время изучено историками вдоль и поперёк. Что же касается древности, то это… как бы точнее выразиться… это что-то, наверное, священное, что ли. Не вполне понятно и логично, но ведь столько времени пролетело! Да и не особо наши предки заботились о том, как далёкие потомки будут потом ломать головы об их жизни.
Величайшие столпы истории, тяжеловесы, такие как Карамзин, Ключевский, Соловьёв – гордость отечественной науки. Их многотомные труды полностью покрывают собой исторические пласты, лежащие мощной базой современного представления о прошлом. Найти что-то новое в том, что происходило в те далёкие времена, вообще невозможно! Всё давно изучено. Все, даже мельчайшие, дошедшие до нашего времени артефакты и документы, тысячи раз осмотрены, прочитаны и прочно занимают свои места на исторических полках. Не доверять признанным уже не первое столетие авторитетам нет никаких оснований.
А вот каким-то образом червячок сомнения ненароком взял, да и пробрался в спокойно и надёжно обоснованное в душе Саши историческое прошлое. Что-то поколебалось в уверенности на свою уверенность. Та, прежняя уверенность в своих знаниях и представлениях, стала зыбкой, отчего-то ненадёжной и покачивающейся. Неужели какой-то кусок золота да выцветшие бумаги считавшейся сумасшедшей старухи могли так легко выбить его из седла?
Саша спал, ел, выходил из своей комнаты, заходил обратно, отвечал на чьи-то вопросы, что-то говорил по ходу дела, а сам беспрестанно думал о содержании бумаг старухи. Он уже лучше понимал почерк той, что писала дневники. Он также понял, что всё написанное – дело рук одного человека, спокойно переходившего в письме с языка на язык. Писал человек грамотный, писал без ссылок на какие-либо документы, вместо дат часто были проставлены прочерки, а вместо имён – многоточия.
Интересно, что писавшая знала такие детали и подробности описываемых судеб, каких не мог знать посторонний человек. Вероятно, она всегда была рядом с героинями своих очерков, сама участвовала в событиях. Только вот в качестве кого? В качестве подруги? Служанки? А может, в качестве агента немецкой разведки Марты?
Более лучшему усвоению материала мешало то, что повествование шло то на русском, то на другом языке, не всегда даже Сашей идентифицированном. Александр неплохо знал немецкий, английский – хуже, но тоже сносно, а вот французский был для него абсолютно непонятен.
«Мне нужен Интернет, программы по переводу с иностранных… хотя бы в общих чертах понять фрагменты, идущие на французском. Мне нужны данные из энциклопедий… даты… имена…»
То, что в деревне он не сможет дотянуть до выходных, стало ему очевидно. Толян теперь дома, полностью попал под опеку Машки, счастливой оттого, что муж, хоть и раненый, но вернулся. Она искренне считала, что Саша внёс решительный вклад в дело освобождения мужиков от бандитов. Сколько ни объяснял ей Саша, да и Платоныч, но чудесным избавлением от беды, по её мнению, все были обязаны именно Саше, вместе с милицией участвовавшему в операции по освобождению заложников. Даже простуду Саши она считала доказательством его непосредственного участия в операции. А потому металась между своим домом и домом Валеры, обеспечивая «спасителя» лекарствами, едой и заботой.
Саша испытал лишь мимолётную неловкость от незаслуженной заботы Машки о себе. Честно говоря, он почти сразу, как только начал вникать в доставшиеся ему фантастическим образом бумаги старухи, забыл и о Толяне, и о Машке, и о том, что в головах бандитов до сих пор, возможно, не успокоились мысли о не до конца раскрытом кладе. Он бы забыл и о себе, и об уехавшем Валере, да только слишком много вопросов без ответов повисало в воздухе.
Информация… Не хватает книг, компьютера… не хватает консультации руководителя… не хватает улетевшей так далеко от него «предательницы» Сашки…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































