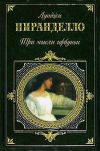Текст книги "Русский театр на сломе эпох. Рубеж XX–XXI веков"

Автор книги: Анна Вислова
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
Такие спектакли, как «Гроза», «Тартюф», «Ревизор» в постановке Н. Чу совой, «Лес» в постановке К. Серебренникова (2004; МХТ им. А.П. Чехова), осуществленные на большой сцене, служат тому ярким доказательством. Эти разные спектакли, тем не менее, объединяет общее направление изобретательной, в основе своей склонной к мистификации режиссерской мысли, озабоченной несравнимо больше успешной продажей результата, чем его смыслом, вернее находящей этот смысл в его отсутствии. Этой режиссуре глубоко чуждо такое прочно забытое и нацелено дискредитированное в последние годы понятие, как «социальная ответственность искусства», обходит она стороной и иные, выходящие за пределы коммерции и успеха, глубинные цели искусства, вроде нравственного осмысления бытия или эстетического воспитания человека.
Жанр своего спектакля «Гроза» Н. Чу сова обозначила в программке как «фантазии на тему пьесы А.Н. Островского». Режиссерская фантазия в самом деле простерлась столь далеко, что увела зрителя на необозримое от первоисточника расстояние. Драма Островского, восходящая к настоящей трагедии, в руках Чусовой обрела вид «жестокого романса», пронизанного нервозной интонацией и насыщенного бессмысленными нервическими мотивациями, движущими странными поведенческими эскападами не менее странных персонажей. Привыкшая к озорству и вычурным выходкам на грани игривого хулиганства Н. Чусова на сей раз представила классическую пьесу как историю анархической любви Катерины (Ч. Хаматова), чей бунт оказывается «бессмысленным и беспощадным» не столько против домостроевского порядка, сколько против себя самой и всего окружающего. Кстати, в программке к спектаклю в слове «Гроза» буква «о» так и отмечена особым знаком анархии. Художник спектакля – один из лидеров концептуальной «бумажной архитектуры» 80-х годов – архитектор А. Бродский выстроил многоярусную конструкцию, представляющую то ли урбанистическое, то ли тюремное, мрачное пространство, ограничивающее сцену с трех сторон и образующее огромный «дом» или, если угодно, «темное царство» Кабанихи. При этом сама Марфа Кабанова (Е. Яковлева) (в спектакле, кстати, Кабанихой ее никто не называет) женщина совсем не грозная, а даже, можно сказать, веселая, впервые предстает перед зрителями на сцене в русском сарафане с трогательными косичками в окружении своих домочадцев за идиллическим чтением «Домостроя». Катерина здесь – бойкая непослушная девчонка-разбойница, настоящая оторва, время от времени лазающая по стропилам и рискованно зависающая на руках на опасной высоте. Она курит сигареты и говорит сиплым, прокуренным голосом. Человеческие страдания, описанные драматургом, режиссер превращает в своего рода невроз, одолевающий в первую очередь Катерину (хотя, надо отдать должное актрисе, она старается быть предельно искренней во всем, что делает, и этим спасает постановку от окончательного впадения в откровенную вампуку). Все персонажи этого спектакля (что, впрочем, характерно для большинства спектаклей режиссеров «новой волны») люди из ниоткуда, скорее мистериальные герои, лишенные биографии и четких очертаний личности. Это персонажи балагана, своеобразные маски непрекращающейся мистификации и имитации псевдокарнавала нашей абсурдной жизни, созданием которых в любом пространстве так хорошо овладели современные постановщики.
«Тартюф» Мольера в постановке Н. Чусовой явился продолжением этого нескончаемого карнавального сериала, преследующего цель всеобщего глуповатого увеселения. Внешним блеском этот спектакль затмевает все прежние постановки режиссера. Сцена представляет собой разбухшую до гигантских размеров узорчато-золотую шкатулку, переливающуюся в черно-красно-синей световой гамме. Звуковым фоном спектакля становятся скрежет тормозов и сигналы подъезжающих и отъезжающих дорогих автомобилей, сопровождаемые мелькающим по стенам светом фар. Новый русский зритель, видимо, должен приходить в восторг, узнавая себя в толстом «новом капиталисте» Оргоне (А. Семчев) и его домочадцах. Проблема обличения лицемерия – главная в комедии Мольера – менее всего озабочивает режиссера и актеров. Лицемерие сегодня отнюдь не порок, а, скорее, достоинство, качество, необходимое как воздух для нормальной адаптации в новых жизненных условиях. Карьеризм, погоня за успехом любой ценой, умение носить разные маски и личины ныне составляют основу жизнедеятельности современного делового человека и входят в негласный кодекс молодого дельца-бизнесмена. Вполне закономерно, что режиссер выбирает тему не обличения, а веселого озорства вокруг фигуры Тартюфа (О. Табаков), превращая его не столько в некий жутковатый символ нашего времени, сколько в пародию. Тартюфа в этом спектакле никто особенно не призывает остерегаться, а, скорее, приглашают беззаботно посмеяться вместе с ним над его «очаровательными» игривыми выходками. Сам он представляет собой колоритный типаж бывшего зэка и появляется в полосатой сутане в сопровождении свиты, состоящей из двух молодых монашек и гитариста-карлика с огромным крестом на шее, всегда готовых сбросить рясу и пуститься в канкан. Текст комедии в переводе М. Донского в соответствии с замыслом слегка подправлен и приправлен не только словесно, но и музыкальным дивертисментом. Так, Тартюф, обольщая Дорину (М. Зудина), распевает под гитару «Тишину за Рогожской заставою». О. Табаков сообщает в программке к спектаклю, что «его не интересует ни быт Франции XVIII века, ни даже особая стилистика этих моралите-комедий, а интересует то, что генотип Тартюфа все-таки живет и побеждает в России XXI века… Задевает проблема: наш “простой советский” Тартюф жив! Если в те, мольеровские, времена плелась даже некая поэтическая связь, все делалось “цирлих-манирлих”, то сейчас все аферы производятся серьезно, делово, “по понятиям”». Играя якобы «советского» Тартюфа, актер производит очередную подмену, аберрацию во времени, он как будто не замечает или сознательно игнорирует разницу между тем, ушедшим в историю явлением, и нынешним, уже совершенно иным и на самом деле куда более опасным типе лицемера, не просто широко распространившимся, а весьма почитаемым и являющимся главным действующим лицом осуществляемой ныне эпохи реформ. «Табакову, по сути, важна не проблема, а типаж: забавный уголовник», – справедливо замечает А. Соколянский.[126]126
Соколянский А. Хитрости дурацкого дела // Время новостей. 2004. 12 нояб.
[Закрыть] Не озаботившись историческим правдоподобием, пониманием стилистики, да и просто сутью пьесы Мольера, авторы этого спектакля без напряжения впали в очередную пошлую карикатуру. Все актеры чрезвычайно много суетятся, «хлопочут лицами», нервно пританцовывают и изо всех сил изображают крайнюю степень возбуждения и воодушевления. Складывается устойчивое впечатление, что атрибутика яркой, но натужной карнавальной жизни-игры становится не только в нашем театре, но и в современной культуре в целом носителем самих жизненных смыслов и жизненных целей рыночной цивилизации.
Линию ухарской «адаптации» классических пьес к новым условиям Н. Чусова с упорством, достойным восхищения, продолжает и в следующей своей постановке «Ревизор» в Театре им. Моссовета (2005). Действие гоголевской комедии вновь перенесено в наши дни, а чиновники николаевской России под чутким режиссерским руководством с легкостью обрели на сцене новый облик, отражающий их современную криминально-олигархическую ипостась. Тут будет место и подледному лову с водкой и красной икрой на закуску, и ресторанному угару – гулянке в честь прибывшего именитого гостя, с исполнением попсовых шлягеров в местном торгово-развлекательном центре, где казино соседствует с секс-шопом, а «шаурма» с отелем «Хилтон», и непотребному поведению самого гостя с дамами, и бандитской разборке, заменяющей финальную немую сцену. Городничий (А. Яцко) уподоблен в спектакле современному олигарху районного масштаба или, на худой конец, – крупному авторитету, не понаслышке знакомому с криминальным миропорядком. Лощеный, стройный, хитроумный делец в дорогом стильном костюме, но с серьгой в ухе, развязной пластикой, привычной «распальцовкой» и приблатненными манерами «новых русских». В бритоголовом, отвязном Хлестакове (Г. Куценко) этот Городничий сразу находит родственную душу. В залихватской, вызывающе ветреной интонации спектакля нет ни грана сатиры или намека на протестное сознание. Актеры просто вслед за режиссером безотчетно и беспечно, с каким-то шалым удовольствием окунаются в изображение картины мелкого содома провинциального разлива, чье воссоздание столь любезно и мило новой русской сцене. Судя по всему, Н. Чусова ставит спектакль с откровенным расчетом на сегодняшнего, расслабленного душевно и умственно зрителя, взращенного на стандартах и стереотипах рыночной «корпоративной культуры» и привыкшего бессмысленно гоготать на бесконечных развлекательных передачах нашего телевидения, попутно поглощая увиденное как пирожное в буфете.
Своеобразным апофеозом сегодняшней театральной мистификации и одновременно сценической спекуляции стал спектакль «Лес» А.Н. Островского в постановке К. Серебренникова на сцене МХТ им. А.П. Чехова. В программке режиссер сообщает, что посвящает свою работу «советскому театру и Всеволоду Мейерхольду». Спектакль «Лес» 1924 года относится к ряду легендарных постановок Мейерхольда, где одним из первых исполнителей роли провинциального актера Аркашки Счастливцева был И. Ильинский. Но, впрочем, история советского театра, как и имя великого режиссера, к новому спектаклю МХТ не имеет никакого отношения. Сохранились документы с высказываниями самого Мейерхольда, свидетельствующие о его подходе к пьесе Островского по тому времени, безусловно, авангардном: «…комедия разбита на 36 эпизодов. Применен монтажный принцип: в начале действие несколько раз перебрасывается от сцены в лесу к явлениям, происходящим в доме Гурмыжской, и обратно. Демократическая группа действующих лиц (Аксюша, Карп) усилена построением всей их игры на работе; противоположная группа (Гурмыжская и ее окружение) показана в гротеске; текст, дающий для этого большие возможности, использован гораздо шире, чем это обычно делается в других театрах. Несчастливцев выведен как Дон Кихот русского актерства. Единой конструкции нет: отдельные установки, схематизированные предметы быта, нужные для актеров. Введен ряд музыкальных номеров».[127]127
Мейерхольд репетирует: в 2 т. Т. 1. С. 9.
[Закрыть] Мейерхольд в процессе репетиций так излагал основные пункты своей позиции: «Что дает “Лес”. Несложному, в сущности, сюжету пьесы предшествует длинная экспозиция (два акта) и еще более длинное (три акта) развертывание сюжета. Это показывает, что центр тяжести пьесы лежит не в сюжете, а в демонстрации различных общественных групп, в их столкновениях: А. Разлагающееся дворянство: Гурмыжская с компанией. Б. Нарождающееся кулачество: Восмибратов. В. Протестанты против освященного обычаем уклада жизни: Аксюша – Петр. Г. Промежуточные группы, деклассированный элемент, склоняющийся в ту или иную сторону под влиянием самых разных причин: актеры, прислуга».[128]128
Там же. С. 10.
[Закрыть] Уже в этих кратко изложенных пунктах режиссерского замысла видно, что для Мейерхольда в этой постановке была важна ее предельная социальная заостренность с четкой расстановкой драматических столкновений персонажей на почве классовых различий и интересов, что было естественно для 1923 года, да и сегодня вновь прозвучало бы, наверное, вполне актуально, но не менее, если не более важным было для него и последовательное воплощение собственной авангардной, экспериментальной художественной театральной программы.
Спектакль К. Серебренникова – это уже совсем иная история. Перед зрителями предстает упрощенный, не несущий никаких плодотворных новаторских идей, весь выстроенный на цитации продукт постмодернистского театрального авангарда «второй свежести» с хорошо узнаваемыми приемами. В сценографическом решении спектакля легко прочитываются цитатные переклички со спектаклями немецкого режиссера Кристофа Марталера и латышского – Алвиса Херманиса. Режиссер Нового Рижского театра привозил свой спектакль «Ревизор» в Москву и показывал его в рамках фестиваля NET 2003 года. Художественный строй рижского спектакля, по всему заметно, навел Серебренникова на многие идеи, которые он и реализовал в «Лесе». Опять игра в перевертыши со временем. Если «Мещане» были перенесены в 50-е годы, то «Лес» уже перенесен в 70-е годы прошлого века. Помещица, богатая вдова Раиса Павловна Гурмыжская (Н. Тенякова) превращена в советскую барыню, проводящую время в окружении не богатых соседей старичков, а влиятельных соседок-подружек – видимо, таких же вдов высокопоставленных партийных чиновников. В связи с чем некоторые действующие лица пьесы видоизменились: и Уар Кириллович стал Уарой Кирилловной, а Евгений Аполлонович, соответственно, – Евгенией Аполлоновной. Персонажи одеты по моде тех лет, и режиссер наполняет сценическое пространство деталями интерьера 70-х годов – округлыми креслами на ненадежных ножках, журнальными столиками, а на первый план помещает хорошо знакомую во многих домах радиолу «Ригонда». Странствующие неприкаянные актеры Счастливцев (А. Леонтьев) и Несчастливцев (Д. Назаров) встречаются в этом спектакле не на лесной поляне, а за стойкой вокзального буфета. Сюда выходят Счастливцев с тремя металлическими сетками для яиц, где у него лежат старые пьесы, на носу у него – сломанные очки, перевязанные резинкой на затылке, на голове целлофановый пакет – защита от дождя – и Несчастливцев, у которого за спиной на ремнях старый, покрытый дерматином картонный чемодан. В этой насмешливой игре с приметами бедности режиссер не таится и откровенно циничен. Он не скрывает, что для него подобная игра лишь повод для иронии и насмешливой ностальгии. Этот спектакль не для аутсайдеров. Неслучайно в нем есть мизансцена, когда Аркашка Счастливцев в своей краткой апологии комфорта и богатства ищет поддержки в партере и, напротив, говоря о бедности, с легким презрением тычет пальцами на балконы. Могут сказать, что это шутка режиссера, но она не смешная, а, скорее, показательная, и режиссерская ирония, как обычно, двусмысленная. Но, судя по всему, режиссер ставит мизансцену именно таким образом вполне сознательно. Бедные – чужие на этом празднике жизни, как и на этом спектакле. А до «чужих» и их печалей новому русскому театру дела нет. Он на таких и не рассчитан, и не ориентируется. Место рядовых и неимущих ныне в забытой сторонке, мимо которой лихо просвистывает в неизвестном направлении и новый русский театр. Что касается смешения времен, то применение этого трюка подобно сидению на двух стульях. Обертка из прошлого плохо сочетается с содержанием из настоящего. Режиссер пытается выдать одно за другое. Уж коли изображать барство, так зачем далеко ходить: в сравнении с его сегодняшним вариантом любой советский неизбежно меркнет. Все мотивы, которые несет пьеса Островского, особо остро актуальны для сегодняшнего дня. Почему надо окунаться в советскую эпоху, непонятно. Разве что для камуфляжа, чтобы не столь открыто обличать настоящее. Все-таки это небезопасно. Режиссер позволяет себе допустить лишь экстравагантные намеки и приемы эстрадного свойства. Так, использование известной песни «Беловежская пуща» на музыку А. Пахмутовой и стихи Н. Добронравова, которую в финале спектакля во время собственной свадьбы с госпожой Гурмыжской исполняет молодой проходимец Буланов (Ю. Чурсин) в сопровождении детского хора, одновременно служит режиссеру и намеком на настоящее, и завесой от него, добавляя в придачу необходимой уверенности в собственной гражданской смелости и непогрешимости. Перед началом пения Буланов произносит короткий спич и на словах: «Господа, хотя я и молод, но я очень близко к сердцу принимаю не только свои, но и общественные дела и желал бы служить обществу», актер будет очень напоминать действующего президента во время инаугурационной речи. Зал премьерного спектакля в этот момент застонет от хохота и удовольствия узнавания. Приемы, вызывающие подобный зубоскальский смех, смахивают на карточные вольты, которым хочет научиться Буланов у Несчастливцева, и, как обычно, отдают очередным шулерством. Пьеса Островского лукаво перелицована. Любовь Аксюши и Петра выхолощена, да и сами они представляются натурами сомнительными, благородство Несчастливцева здесь неуместно, актерское братство комика и трагика не внушает доверия и выглядит фальшивым. Режиссер подобен оборотню, а его смелость на деле лишь ее ловкая имитация в провокационной сценической игре. Закончится свадьба исполнением беззаботной летки-енки. «Лес» продан и даже с барышом. Большинство критиков назвали его лучшим спектаклем сезона 2004/2005 года.
Рыночные тенденции развития современного русского театра для кого-то приятны и вырисовывают радужные перспективы, а для кого-то – удушающие. Сегодня многие в России могут воскликнуть, как когда-то И.А. Бунин в «Окаянных днях»: «…не могу переносить этой жизни, – физически».[129]129
Бунин И.А. Окаянные дни. М., 1990. С. 36.
[Закрыть] И.А. Бунин мог по крайней мере эмигрировать, народу эмигрировать некуда и не на что. Нерыночники ушли во внутреннюю эмиграцию, в апатию к жизни и ускоренно вымирают (как стало известно, по официальным данным, народонаселение страны в среднем сокращается более, чем на семьсот тысяч человек в год), что у рыночников, в свою очередь, не вызывает ни малейшего сочувствия. Для поля деятельности последних, благодаря этому мору, только расчищается пространство. Театр, как и социальная ситуация, отражает крайнюю степень цинизма и разлада в обществе.
Вместе со сменой социально-экономической формации у нас произошла смена этапов художественного сознания в целом. Выдающийся отечественный историк и теоретик литературы В.М. Жирмунский справедливо утверждал, что приемы художника в определенную эпоху подчиняются «некоторому общему формирующему принципу или художественному закону… Это формирующее начало (“энтелехию”) мы можем назвать… “душой” поэта, усматривать в нем то основное “чувство жизни”, ту своеобразную “интуицию бытия”, которая открывается поэту или целой эпохе и составляет как бы поэтическое знание, привнесенное им в мир».[130]130
Жирмунский В.М. Теория Литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977. С. 143.
[Закрыть] Оттого существенным аспектом изучения театрального искусства, его современных форм и стилей являются особенности умозрения, психология, жизненный типаж, речь, ритм, шум времени.
Формирующее начало, привнесенное русским театром в жизнь на новом рубеже тысячелетий, вызывает сложные чувства и вместе с тем вполне обоснованные тревоги и опасения ввиду своих далеко идущих последствий. На арену жизни и на сцену вышли поколения с принципиально и глубоко отличающимся от предыдущих поколений мировоззрением и мировосприятием. Новые поколения выдвинули из своих рядов и новый истеблишмент. Новые «первоклассные менеджеры» во власти не просто теоретически огульно отрицают прежние ценности и идеалы, легко сбрасывая предыдущие поколения на свалку истории. Они и практически относятся к старшим поколениям, ко всем, кто сформирован советской системой и кто остался верен ее идеалам, как к людям конченым, на деле отказывая последним в праве на достойную жизнь, поскольку она в современном обществе принадлежит лишь молодым и сильным приверженцам рыночных ценностей.
В искусстве обладатели рыночной ментальности развернулись не менее агрессивно. Черты этой новой ментальности с ее пронзительным цинизмом, расчетом и эгоизмом вполне определенно и ярко проявляются почти во всех современных спектаклях. Чуть ли не все герои «новой драмы» – люди душевно ущербные, закрытые, эмоционально глухие и прагматичные. Молодые режиссеры из следующей поросли порой декларируют новые заповеди еще более конкретно и жестко в своих высказываниях. Так, режиссер К. Богомолов в интервью газете «Культура» говорит: «Мне неинтересен социальный контекст. Он, думаю, в принципе неинтересен в театре. Не люблю, когда на сцене начинается столкновение идей и философий. Потому что очень цинично к этому отношусь. Я глубоко убежден – и это технологический подход к созданию любой роли, – что человеком двигают эгоистические мотивы. Сегодняшний театр уже прожил этапы символистские, философские и должен приходить к очень простым вещам. Человек – это некий организм, который хочет жить, есть, спать, хочет, чтобы ему было комфортно. И самые высокие порывы рождаются у человека из глубины этих потребностей. Когда актер это понимает, находит у своего персонажа этот эгоистический мотив, трезво, здраво говорит себе то, что мы в жизни не решаемся себе сказать, уже дальнейшей задачей становится оправдать действия персонажа. Найти приспособления, чтобы замаскировать эту эгоистическую точку перед другими людьми. И тогда уже не возникнут фальшивые интонации, ложный романтический пафос. Когда имеется этот гранитный фундамент, из которого все вырастает, все становится на свои места. И момент выбора тоже эгоистический момент. Это итог реального отношения к жизни. Неспроста в кино последних лет возник Тарантино, возник этот культ жестокости».[131]131
Богомолов К. Самые высокие порывы возникают от эгоизма // Культура. 2005. 22 сент.
[Закрыть] Вот так просто, без затей, но и не без кокетства, излагает свои мысли о современном театре и современном человеке с его побудительными мотивами режиссер, которого критики считают одним из самых интеллектуальных отечественных молодых режиссеров. Своей постановкой в Театральном центре «На Страстном» трагедии Еврипида «Ифигения в Авлиде» (2005) он лишь утвердил их в этом мнении. То, что К. Богомолов называет «романтическим пафосом» (или, на прежнем языке, стремлением к идеалу и необходимостью наличия в человеке высокого спроса, в первую очередь, с самого себя), наивными носителями которого, судя по всему, еще являются люди прошлого, новым поколениям глубоко претит. Он, по мнению молодых прагматиков, рождает иллюзии, а жить надо без иллюзий, без возвышенных гуманистических требований и помыслов, эгоистично, расчетливо и жестко, на рынке как рынке, в конце концов. Итак, гранитный фундамент, на котором стоят новые поколения, – природный эгоизм. Скрывать его, как они считают, не следует, они и не скрывают. Процесс смены этапов художественного сознания еще не закончен, он продолжается. Но основные опорные точки этой смены уже проявлены и форсированно утверждаются. Новый русский театр в формируемом ныне своем основном потоке, в своих интенциях сегодня, сознательно или нет, сеет не «разумное, доброе, вечное», а все те же семена подрыва основ гуманистической цивилизации, сдающей один за другим свои «бастионы» под натиском наступающей новой тотальной рыночно-технократической цивилизации. Общая болезнь современного мира заразила и его. Идеи элитаризма, которые так или иначе несут и исповедуют сегодня, вслед за политическими деятелями, успешные или «свои» деятели культуры, т. е. те, кто имеет доступ к общественной трибуне, на самом деле не совместимы с подлинной демократией и очень опасны. На них всегда опирались и опираются всходы расовой, социальной дискриминации и человеконенавистнической психологии. В конечном итоге именно они порождают фашизм. В обществе, где одни сознательно ставят себя выше других, отнимая и присваивая себе все вокруг за счет обездоленных, неизбежны конфликты.
Отечественный театр сегодня, вслед за кинематографом и налаженной поточной продукцией телесериалов, не только не сопротивляется наступлению идей элитаризма, рыночного диктата, но и всячески поддерживает их, развивая и утверждая эти идеи в скрытой или явной форме на сценической и съемочной площадке, в новых фильмах и спектаклях. Взгляд на все мироустройство, на человеческую природу, а соответственно, и на природу культуры и искусства сегодня представлен исключительно с позиций интересов капитала и капитал имущих. Интересов, взглядов, мыслей, чувств, переживаний рядового человека, лишенного капитала, в нынешнем культурном пространстве нет и быть не может. Оно отчуждено от такого человека, как отчуждены от него и средства производства, и продукты его труда. В моде ассоциальность, и молодым модным режиссерам, как было заявлено одним из них, социальный театр не интересен. На самом деле им не интересен не социальный театр, а театр людей и для людей. Весь изощренный и изломанный современный культурный нарратив, модус бытия человека, способ осмысления мира внутри эпистемы наших дней на самом деле в разных видах и формах служат утверждению идей эгоцентризма. Других идей у современного искусства, как и у проводников современной социальной и культурной политики, просто нет. С новыми идеями, как и с содержательными гуманистическими открытиями в искусстве в век информационных технологий, дело обстоит неважно во всем мире. С формами – лучше. Отечественный театр сегодня в основном заимствует западные новые технологии и образные формы.
Новое художественное сознание диктует появление немалого числа произведений с различными вариациями играющей картины мира, в которой господствуют болезненный аристократический гедонизм, агрессивный авантюризм, снобистское, жеманное и витийствующее сознание, а ее абрис создается с помощью трансгрессии, разного рода религиозно-мистических или подчеркнуто физиологических мотивов, черного юмора и пр. К созданию подобной картины тяготеет, в частности, роман В. Сорокина «Лед», сценическую версию которого показал в Москве в рамках фестиваля NET 2006 года Новый Рижский театр в постановке А. Херманиса. В романе действует некое «Братство света», очень напоминающее секту, которая ищет своих адептов по всей земле, а находя, бьет их по грудине ледяным молотом, отчего кости несчастных крошатся в легкие, но при этом сердца «избранных» от подобной процедуры должны «заговорить». Адепты коммуны, кстати, поголовно все белокурые и голубоглазые, очевидно противопоставленные в романе остальному человечеству – «мясным машинам», не вызывают доверия и в спектакле, несмотря на увиденное устроителями фестиваля переосмысление романа в христианском духе и весь отменно продемонстрированный высокий профессионализм режиссера и актеров. Текст, несущий гремучую смесь авторского мизантропического эстетизма, не лишенного обычного снобистского налета, где слилась скрытая мысль о высшей расе с нескрываемым презрением к плебсу, текст, выраженный свободным от всяческих табу языком, вполне справляется с обнулением приевшегося автору гуманистического пафоса и глубокой заморозкой и отрицанием самой человеческой природы. «Лед» был показан в Москве, по общему признанию, в идеальном для него пространстве, при очень подходящей, довольно низкой температуре, так что зрители сидели в верхней одежде, а многим при этом хотелось укутаться еще теплее. Спектакль представили в «Якут-галерее», занявшей газгольдерную башню на территории завода «Арма». Стоит добавить, что территория походит на заброшенную зону, соответственно, и отопление в башне отсутствовало. Чтобы зрители окончательно не замерзли за почти четыре часа «коллективного чтения книги с помощью воображения», в антракте им была предложена водка для согрева и, вероятно, для адекватного восприятия самого произведения. Зрительское воображение должно было взыграться от подкрепляющих радикальный сорокинский язык, розданных каждому фотоальбомов в первом акте, иллюстрирующих действие романа в духе комиксов, и альбомов с рисунками – во втором акте, где эротику и порнографию различить было едва ли возможно. Сорокин, очевидный приверженец трансгрессивной литературы, был весьма убедительно и рельефно переведен Херманисом на сценический язык. Зачитанный вслух текст его романа заставил вспомнить книгу Ж. Батая «Литература и зло» (1957), в которой французский философ и эссеист излагает концепцию, согласно которой литература есть «выражение зла», а сердце литературы – «смерть Бога» и отсутствие добра, тем самым и отсутствие всего, что защищает и укрепляет человека. Таким образом, «смерть Бога» – это последняя, высшая трансгрессия, освобождающая человека от самого себя и выводящая его за пределы каких бы то ни было этических границ.
Ужасы и пороки сегодня охотно нагнетаются и смакуются в искусстве, а жизненное человеческое пространство становится все более удушающим. Все это не ново. В истории культуры было уже два схожих периода: один – в поздней античности, другой – на закате Ренессанса, названный маньеризмом. Маньеристские художники предлагали не предъявлять к людям высоких и жестких требований. Маньеристский герой, к примеру, в пьесах ужасов английских драматургов Джона Уэбстера и Сирила Тернера не просто страдает от несоответствия действительности идеалам, у него этих идеалов вовсе нет. В мрачном, исполненном леденящими душу кошмарами мире этих пьес стирается грань между праведным и грешным, прекрасным и безобразным. В период, наступивший после Ренессанса, понятие истины как единого целого распалось, истина оказалась множественна и осколочна, а потому цель пришедшего на смену ренессансному маньеристского художника – не осмыслять мир в целом, а поражать, дразнить, изрекать парадоксы. Не схожие ли цели преследуют и современные художники? Но маньеризм оставил о себе след в истории культуры, как об эпохе упадочной, болезненной, творчески бесплодной и гнилостной, распространяющей тяжкое дыхание. И когда художник возвращается к таким настроениям, а человек снова попадает в мир, где произошла очередная подмена абсолютных истин на истины договорные, то и тот и другой вновь задыхаются, содрогаются и заходят в тупик.
Добро и зло, конечно, всегда шли и идут рука об руку на этой грешной земле, но что-то уж больно далеко во тьму зашел ныне новый реверсивный виток истории, новый, куда более разрушительный, подрыв смыслов и ценностей слишком сильно перевесила чаша зла. Все более иллюзорным и труднодостижимым становится восстановление баланса сил. Нравственные ценности находятся на грани истощения и исчезновения в современном расколотом на атомы обществе вражды и отчуждения. Осуществление редукции культурного запаса, кажется, дошло до крайних пределов. Мы живем в переломный, очень сложный, напряженный и, можно сказать, судьбоносный момент истории, когда едва ли не выбор каждого может повлиять на ее будущий ход. Переживаемое нами время насыщено невидимыми сгустками противоборствующих энергий, скапливающимися разрядами антагонистических сил, это время, в котором все вибрирует и вместе с тем напрягается до предела. Исход этого пока еще большей частью латентного противоборства за судьбу будущего мира сегодня не очевиден. Проблема выбора и личной ответственности стоит перед каждым ныне почти с трагической остротой гамлетовского вопроса.
Возможно, ощущение зависшей в воздухе угрозы стало слишком явным. В последнее время что-то начало меняться в окружающей политической атмосфере, в современной культурной парадигме, в художественном сознании, и в театральном пространстве в частности. Наиболее дальновидные и ответственные игроки элиты как будто слегка опомнились. Началось слабое брожение в умах и движение в сторону того, чтобы понять, а что же собственно произошло и происходит со страной и с людьми в последние два десятилетия, и отчасти попытаться не то чтобы сблизить, но хотя бы сгладить образовавшиеся полярные качества жизни и позиции. В последние два-три года это стало заметно по изменившемуся содержанию и тону в речах и выступлениях многих ведущих политиков, социологов, политологов и культурологов. Однако отрыв власти от реальной жизни народа за эти годы стал настолько велик, что уже трудно представить, каким образом процесс сближения и взаимопонимания может вообще произойти эволюционным путем.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.