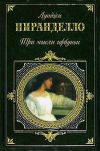Текст книги "Русский театр на сломе эпох. Рубеж XX–XXI веков"

Автор книги: Анна Вислова
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
1.7. Какой театр сегодня нужен?
С современной русской драматургией, которую принято называть почему-то «новой драмой» (понятие «новая драма», как известно, закреплено за драматургией рубежа XIX – ХХ веков), все обстоит не столь однозначно, как может показаться на первый взгляд. Многие из молодых драматургов прекрасно осознают мертвящую пустоту своих пьес и видят болезненное состояние современного театра. При этом, как пишет в одном из номеров журнала «Искусство кино» за 2004 год, почти целиком посвященного проблемам новейшей «новой драмы», драматург Михаил Угаров: «Больной российский театр говорит: я здоров… Да-да, говорит больной, у меня есть прекрасные традиции, которые я храню. Я служу великому Празднику театра. Театр – это иллюзия. Это волшебство, не имеющее отношения к жизни. Диагноз неутешителен. Если говорить о традициях (о которых принято говорить, обычно, оправдывая отстойную репертуарную политику), умерла главная, на мой взгляд, традиция великого русского театра – театра как властителя дум, театра старого “Современника” и прежней Таганки, театра, где пытались говорить правду во времена, когда лгали газеты, когда спектакли закрывали, потому что крупицы правды, которые в них были, были слишком опасны. Теперь у нас нет театра-протеста, театра хотя бы с маленьким кукишем в кармане – чуть-чуть угрожающего мирозданию, пусть самому себе или толпе, или какому-нибудь завалящему губернатору. Мы спокойны, наши нынешние спектакли никто не закроет. Не будет взрыва негодования, никто не упадет в обморок, никого не вышлют из страны. Можем себя поздравить – наши спектакли абсолютно безопасны. Вы ничего не узнаете из них о том, что происходит сейчас со страной и с нами. Вы не поймете, что в стране идет война, что многие люди живут очень бедно и очень плохо, что молодежь в опасности. На Празднике театра даже намекать на такие гнусности неприлично… И нет Станиславского, который крикнет: “Не верю!”, увидев большую ложь нашего Праздника театра».[54]54
Угаров М. Красота погубит мир! // Искусство кино. 2004. № 2. С. 91, 92.
[Закрыть] М. Угаров считает, что «новая драма» в своей неприглядной радикальности как раз и есть то, что не позволяет нынешнему театру «плавно скользить в сторону отстоя, второсортного искусства, интересного только как ритуальный жест “культурного отдыха”».[55]55
Угаров М. Красота погубит мир! // Искусство кино. 2004. № 2. С. 95.
[Закрыть] Отчасти это справедливо, но лишь отчасти и с сильной натяжкой. Заложенный в новом поколении драматургов изначальный, однотонный негативизм по отношению к советскому прошлому, ослепляющий их в видении гуманистической и по-настоящему прогрессивной, новаторской составляющей его действительности и культуры, наложенный на негативный опыт вкушенной «сладкой жизни» обманчивого настоящего, породил своеобразный чернушный «коктейль Молотова». Авторы «новой драмы» бравируют в своих пьесах дикими картинами окружающей жизни, но при этом всегда уходят от вскрытия и понимания корней этих дикостей и бед. Поэтому их пьесы, проникнутые по сути тем же эскапизмом, что и остальной нынешний бульварно-развлекательный, мелодраматический театр, никогда не будут по-настоящему волновать умы, а следовательно, они содержательно беззубы. Они бессильны. Так называемая «новая драма» на самом деле «улавливает воздух времени» весьма однобоко. Ее как будто интересует лишь одна сторона этой жизни, причем специфически эпатирующая. Из этих пьес вы узнаете не о жизни страны, а о жизни ее (кстати, сознательно созданного новой системой) маргинального угла. При этом в своем агрессивном пафосе авторы желают преподнести эту сторону как всеобъемлющую и всеохватную. На самом деле российская действительность сегодня значительно сложнее и трагичнее, чем ее в состоянии отразить современные драматурги. Расцветшие в последнее десятилетие насилие, наркомания и проституция, столь ярко обрисованные молодыми авторами, являются следствием разъедающей гнили, заложенной в общественном устройстве, и тех метаморфоз, которые произошли с общественным и культурным сознанием.
Мир утратил надежду на будущее, на возможность справедливого мироустройства. Мы переживаем эпоху жесточайшего гуманистического кризиса в истории человечества, сочетающегося с очередным цивилизационным истощением. Как верно заметил известный современный эстетик Ю. Борев: «Искусство, обладающее сейсмической чувствительностью, часто не поняв всей сути исторического процесса, осознало глубину трагизма потери надежды на новую форму бытия. Сложилась исторически трагическая ситуация, затрагивающая само состояние мира и его существование и пока не находящая разрешения. Разные художественные направления последней четверти ХХ века развивают художественную концепцию, утверждающую, что человечество утратило иллюзии и потеряло надежды».[56]56
Теоретико-литературные итоги ХХ века. Т. 1. Литературное произведение и художественный процесс. М., 2003. С. 24.
[Закрыть] Как дальше будут развиваться события, никто толком не представляет. Кто или что одержит верх? Какой ценой? Человечество раздроблено. Нет опоры ни в чем, потеряны ориентиры. Существование двух общественно-экономических систем, как очевидно это теперь, предопределяло некое равновесие между добром и злом. Обе системы с разных сторон регулировали сохранение этого баланса. Теперь он потерян. «С распадом СССР впервые в истории сложилась особая духовная ситуация. Мир оказался в духовном тупике. Кризис претерпели противостоящие друг другу и экономическая, и политическая, и культурная парадигмы и капитализма, и социализма. Соответственно претерпели кризис и художественные концепции противостоявших друг другу социалистического реализма и модернизма (постмодернизма)» – справедливо полагает исследователь.[57]57
Там же. С. 32.
[Закрыть] Произошла настоящая человеческая трагедия. Мир утратил надежду на возможность преодоления исторической безысходности, на которую толкает общество, ориентированное на алчность и нарциссизм. Зло перевесило. Дикий хищнический дух наживы, эгоизма и социального неравенства торжествует над сломленной и раздавленной социальной справедливостью и гражданской совестью. И первыми жертвами этого торжества стали простые люди, привыкшие честным трудом зарабатывать себе на жизнь. Можно сказать более широко: в проигрыше оказались законы чести и совести, а следовательно, и разумного, а не абсурдного и гибельного мироустройства. Кто теперь сможет сохранить летящую в пропасть планету? Люди-атомы, в которых пестуются инстинкты природного эгоизма и которым насаждается психология безудержного стяжательства? Общество, где все воюют против всех, обречено на гибель. Сегодня исчезает человек как понятие и субъект, а в перспективе, возможно, и как биологический вид. Для начала он превращен в технологическое орудие, технологический принцип «делания денег». Как раз человеческая деградация определяет сегодня все более увеличивающийся угол падения гуманистической цивилизации, несущейся к окончательному распаду и гибели. Все будто парализованы. Цель превращения человечества в безвольные, легко поддающиеся манипуляции группировки разобщенных эгоцентричных и узколобых обывателей достигнута. В свое время М. Тэтчер, став премьер-министром Великобритании в 1979 году, заявила, что общества больше нет. Ее жесткая и обескураживающая констатация была процитирована в английском документальном телесериале «Меняя сцены», посвященном театру. В определенном смысле можно говорить о том, что «рейганомика» и «тэтчеризм» 80-90-х годов заложили фундамент не только нового экономического курса, но и новой модели современного мира, получившей название «общество риска», и жизни без надежных ответов.
Никто не задается больше серьезными глобальными вопросами, потому что не в состоянии найти на них ответ. Человек сегодня чувствует себя глубоко потерянным в огромном океане информации и таких же, как он, одурманенных, отчужденных друг от друга людей. В таком мире вполне закономерно потеряно и значение театра сегодня.
Каким должен быть театр? Никто не знает ответа. Все растеряны. Этим же вопросом задается сегодня еще один ставший в короткое время известным автор «новой драмы» И. Вырыпаев в том же номере журнала «Искусство кино». «Я не написал пьесы, о которой мог бы сказать, что она равна таланту и профессионализму пьесам Антона Павловича Чехова. Я не создал еще по-настоящему большого произведения, наверное, время такое… Я не знаю, как должен развиваться театр. У меня сейчас кризис. Это, конечно, удивительный кризис, потому что у меня есть все возможности ставить спектакли, мне дают деньги, мне теперь уже не надо заниматься рекламой, пять спектаклей я соберу элементарно: повешу афишу на заборе, и все. У меня все есть, но я ничего не делаю. Потому что мне сейчас очень трудно найти значение театра – я его потерял. Я не знаю, каким должен быть театр. Я не разлюбил театр как искусство в принципе, а только тот театр, который сейчас вижу. И вот я думаю: а что же предложить взамен? И пока ничего предложить не могу. Мне что-то новое хочется найти, я не новые формы ищу, нет. Я ищу новый способ понимания театрального искусства, ищу его исключительно для себя, а не для того, чтобы кого-то удивить».[58]58
Вырыпаев И. Я – консерватор.// Искусство кино. 2004. № 2. С. 111.
[Закрыть] Его пьеса «Кислород» (2003) – это взыскующая боль поколения тридцатилетних, вкусивших «кислород свободы» и отравившихся им. «Кислород» И. Вырыпаева, идущий на крошечной площадке Театра. doс, – своеобразный проговоренный в ритме рэпа экзерсис-манифест рожденных в 70-е годы нового вывихнутого и растерянного поколения, выдохнутый на одном дыхании и разбитый на куплеты с припевами, сопровождаемые легким джазом. Два актера (Он – автор пьесы И. Вырыпаев, Она – А. Маракулина) озвучивают и протанцовывают десять словесно-музыкальных композиций, каждая из которых соединяет одну из божественных заповедей с приметами наших дней, где насилие, секс, наркотики, террор превратились в обыденную повседневность. Свобода-«кислород», полученная этим поколением в наследство от предыдущих, отравила и выжгла его изнутри, обернувшись новым кислородным голоданием и стыдливо скрываемой, подавленной тоской по утраченной совести и исчерпанным гуманистическим идеалам, оставившим горстку пепла в опустошенных душах. «Ну и что же для тебя главное? – спрашивает Она… – Если ты скажешь, что кислород, я уйду со сцены». «Сперва скажи ты», – отвечает Он. «…Совесть», – тихо проговорит Она. «И для меня то же самое», – говорит Он. Не прошло и десяти лет крушения всего и вся вокруг, как это слово снова всплыло в театральном пространстве, у молодой театральной генерации в частности. Это все-таки обнадеживает. «Кислород» можно, наверное, назвать трагическим выдохом, полным горькой иронии свингующего поколения. Пьеса заканчивается угрожающими словами автора: «Запомните их такими, какие они есть. Это целое поколение. Запомните их, как старую фотографию. Это поколение, на головы которого где-то в холодном космосе со стремительной скоростью летит огромный метеорит».[59]59
Вырыпаев И. Кислород // Документальный театр. Пьесы. М., 2004. С. 135.
[Закрыть]
Глава 2
Русский театр рубежа веков в новой парадигматике
2.1. Сцена в зеркале экранного сознания
Сегодня происходит смена психологической и ментальной парадигмы. Наш быстро меняющийся мир последних десятилетий сформировал у значительной части населяющего его человечества новое экранное сознание. Последствия этого явления непосредственно сказались на всем современном культурном сознании и психологии, включая, разумеется, сознание и психологию новой генерации театральных деятелей.
Внедрение экрана в жизнь повлекло за собой не только общедоступность и массовость видеоискусства, но и позволило сделать происходящие события и саму историю предметом постоянного видеоизображения, а вслед затем своеобразного массового осмысления и игры с нею. Киноэкран с легкостью превратил любой момент истории – будь то Античность или Средневековье – в предмет изображения, виртуальную реальность, обманчиво доступную для массового переживания и осмысления. Вошедший в жизнь каждого человека видеоряд породил и некий эрзац исторического мышления, или мышления, формируемого массмедиа и канонами массовой культуры. Человечество уходящего ХХ столетия с некоторого времени получило возможность постоянно видеть свое живое отражение в волшебном зеркале экрана. Это революционное по своей сути обстоятельство не могло не отразиться на общем представлении сознания человека о мире и о себе в нем. Книжная культура никогда не была столь массовой, как аудиовизуальная. Книги формировали индивидуальную культуру и, что не менее важно, индивидуального человека, способного к размышлениям и анализу. Аудиовизуальная культура формирует массового зрителя-слушателя и более динамичный, всеобщий созерцательный тип сознания, восприятия и мышления. Происходит определенная мутация сознания. Новое сознание можно назвать экранным сознанием. Что же происходит с театром в эпоху экранного сознания? Каково воздействие последнего на столь древний и традиционный вид искусства и насколько оно существенно?
К началу ХХI века поворот вектора эволюции эстетического сознания общества в сторону массовой культуры обрел почти необратимый характер, что в свою очередь вывело развлекательное компенсаторное начало в искусстве на первый план. Культура как понятие перестала существовать в строго очерченных академических рамках. В частности, непростые взаимоотношения массовой культуры, тяготеющей к глобальности, и множества субкультур, к которым подчас уже относят и академическую, элитарную культуру, не случайно оказались в поле внимания научного сознания конца двадцатого века. В этом же ряду можно рассматривать и взаимоотношения между традиционной книжной и новой аудиовизуальной культурой.
Современное искусство находится в несколько ином пространстве по отношению не только к искусству прошлых времен, но и по отношению к самому пространству истории. Оно находится в пространстве медиа, в пространстве современных средств массовой информации. Театральное искусство не является в этом плане исключением. В наступившей экранной эре определенные видоизменения коснулись и консервативного по самой своей природе языка театра. Буквально на глазах состоялся его очевидный зримый прорыв за границы классической театральной традиции. «Ойкумена» нового сценического языка простирается между перформансом, активно освоенном западноевропейской сценой еще в 60-е годы, но достигшем зрелости в 80-е годы, (перформанс с французского языка можно перевести как «театр визуальных искусств», в свое время на его становление повлияли произведения Дж. Кейджа, хореографа М. Каннингема, специалиста по видео Н. Дж. Парк, скульптора А. Кэпроу), и хэппенингом – действенной акцией, представленной артистами с элементами случайности и риска, а также с использованием всех видов искусства и всех воображаемых технических возможностей. «Европа священных камней» давно уже превратилась в единую сценическую площадку. Театральные режиссеры успешно освоили для своих постановок античные и средневековые руины, используя их не просто в качестве фона, но и прямо функционально, получая от древних стен особую дополнительную энергетику, причем не только в костюмно-исторических спектаклях.
Если западная режиссура имеет богатый опыт в сценическом освоении пространства метро, фабрик, вагонов, стройплощадок и прочих неожиданных для театральных представлений мест, то отечественные примеры такого освоения пока немногочисленны. Наши режиссеры находятся в начале этого пути. Тем не менее они есть. В качестве примера можно назвать спектакль «Ромео и Джульетта», поставленный в конце 90-х годов В. Епифанцевым (в то время – руководителем Прок-театра, или Фабрики кардинального искусства) на территории бывшей московской фабрики. Другой пример – спектакль «Лед» по одноименному роману В. Сорокина, показанный Новым Рижским театром в рамках фестиваля NET в 2006 году в здании газгольдерной башни (бывшего газового хранилища) на территории завода близ Курского вокзала. Но все-таки самыми привлекательными для новой театральной генерации во всех городах России стали городские подвалы. В одном из таких подвалов в центре Москвы в 2002 году открылся теперь хорошо известный и модный Театр. doc, ставший эпицентром формирования и апробирования новой драматургии. В другом подвале по соседству с ним в 2005 г. открылся театр «Практика».
В последнее время происходит активное смешение и сближение языков искусств, где все сплавляется в единый продуманный видеоряд: к примеру, привычная уже театрализация современного изобразительного искусства и постановка спектаклей в пространстве выставочных инсталляций с использованием его особой, отличной от театра ауры, иногда с вкраплениями видео– и аудиомонтажа, элементов цирка, балета и пр. Одной из оставшихся в памяти заметных постановок такого рода в Москве конца 90-х годов можно назвать спектакль «Евгений Онегин… Пушкин» (1999, Театральное агентство «БОГИС», реж. М. Крылов, балетмейстер М. Лавровский), показанный в тогда еще подлинном, не сгоревшем Центральном выставочном зале «Манеж». Спектакль, представляющий лихую актерскую импровизацию сквозного иронического прочтения-переложения пушкинского текста на современный сценический язык, образующий новую семантическую систему, впитавшую сигналы, приемы и штампы, выработанные массмедиа и легко читаемые аудиторией, принадлежащей аудиовизуальной цивилизации.
Одна из главных коренных черт театра заключается в живом общении со зрителем. Тем не менее сегодня театр тоже тяготеет к виртуальной реальности. Элементы экранной культуры активно внедряются в сценическое пространство, а актер одновременно с максимальным физическим приближением к зрителю становится все более механистичным внешне и внутренне, порой напоминая хорошо отлаженный технически полуавтомат. В упомянутом уже спектакле «Евгений Онегин… Пушкин» классический текст используется как открытая динамическая структура, легко наполняемая современными расхожими аллюзиями и реминисценциями, отсылающими зрителя к вполне определенному, устойчиво сложившемуся на данный момент почти рефлекторному ассоциативному видеоряду. К примеру, Татьяна перед чтением письма Онегину встает на решетку металлической кровати и, охватываемая снизу воздушной вентиляционной волной, застывает в позе Мэрилин Монро с растиражированного кинокадра, запечатленной на решетке нью-йоркской подземки в развевающемся платье. Онегин в своей ответной наставнической проповеди похож на заигравшегося до автоматизма диджея из современного техноклуба, непрерывно включенного в привычный для себя ритм: рэп или брейк-бит Актеры, находясь в непосредственном прямом диалоге с сидящими на расстоянии вытянутой руки зрителями, играют-читают текст, одновременно переводя его на новый условно-кодированный ритмический язык, соответствующий эстетическому сознанию сегодняшней аудитории и выдержанный в духе общей вихревой динамики времени в соединении с развинченно-отработанной, полуавтоматической пластикой.
Киноэкран давно уже диктует театральной сцене новые эстетические каноны, основанные на скорости сменяющихся картинок и остром монтаже. В театре 90-х годов тяга к зрелищным, выстроенным на музыке и пластике спектаклям во многом определит эстетические пристрастия этого времени. Головокружительным пластическим мастерством и стремительно несущимся темпоритмом захватывают зрительское внимание актеры Московского театра «Ленком» в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (1992). К особому наступательному динамико-пластическому стилю можно отнести спектакли театра «Сатирикон»: «Трехгрошовая опера» (1996), «Кьоджинские перепалки» (1997), «Шантеклер» (2001). Услышать живой голос актера на большой сцене с конца 90-х годов удается все реже, лицо актера и крошечный микрофон все чаще составляют единое нераздельное целое, что еще более усиливает эффект механистичности современного сценического языка. При этом зрительские ожидания требуют все нового допинга невиданных средств театральной выразительности и образности, постоянно будирующих режиссерскую и актерскую фантазию. Стремительно меняясь внутри и снаружи, театр при этом все равно остается в основе своей незыблемо консервативным механизмом. Однако его игры со сценическим пространством, сопровождаемые невероятной внешней и внутренней раскрепощенностью актера в плотном, почти физическом контакте со зрителем малых сцен, в чем-то сопоставимы с революционными театральными экспериментами начала ХХ века и, возможно, позволяют рассуждать, к примеру, о преломлении отдельных элементов системы Станиславского в новых условиях наступившей эпохи экранного сознания.
Последние десятилетия окунули нас не только в политические и экономические, но, прежде всего, психологические потрясения. Человеческая психика оказалась под новым сильнейшим давлением. Рассредоточенность, обусловленная бешеной скоростью сменяющихся картин жизни и событий, глушит аналитические способности человека. Век информационных технологий включил последнего в систему постоянной и стремительной смены кадров современной истории. Естественно, этот процесс что-то кардинально меняет в психологии человеческого восприятия и соответствующей ему эмоциональной отдаче. Человек сегодня не успевает по-настоящему ни продумать, ни даже прочувствовать не только литературные, сценические или экранные события, но и события реальной жизни. Мы привыкаем к полу сознанию, получувству, к постоянному дефициту времени и сил на размышления и саму жизнь, подменяя ее жизнью на скаку, вполглаза, вполуха и т. д.
Клиповое, экранное сознание настойчиво вытесняет сегодня аналитическое сознание. Сегодня зритель приходит в театр не столько для того, чтобы думать, соразмышлять и сопереживать, сколько с желанием отдохнуть и отвлечься от реальных проблем, забот и постоянных стрессов. Сложных глобальных или нравственных задач, как правило, не ставят перед собой и современные деятели искусства и культуры. В молниеносно меняющемся мире и пространстве надо успевать ориентироваться и приспосабливаться, серьезным размышлениям и анализу в нем просто нет места. Человек в новых условиях вынужден уподобляться хорошо отлаженному, выносливому, мобильному, гибкому и скоростному механизму, напоминающему компьютер. Способность к мгновенной адаптации и оперативной импровизации – одна из самых ценных в современной действительности. В связи с новой условной средой происходят любопытные видоизменения с традиционным арсеналом сценических средств выразительности и с театральным языком.
В частности, они коснулись и слова на сцене. С одной стороны, довольно неоднозначный процесс вытеснения слова со сцены начался далеко не сегодня. Язык пластики давно и успешно конкурирует на сценических подмостках с вербальным текстом. Но в последнее время этот процесс получил дополнительный импульс в результате развития компьютерных технологий. Современному сознанию видеоряд роднее и понятнее, нежели восприятие и анализ звучащего со сцены живого слова. Непосредственная картинка предпочтительнее и доходит до зрителя быстрее и результативнее. Не случайно монтаж, составляющий основу искусства кино, и сама поэтика динамического изображения с ее стремительностью и резкостью столкновения зрительных образов очень скоро заразили театральную сцену и сыграли, в частности, не последнюю роль в успешном утверждении шоу и мюзикла в качестве едва ли не ведущих театральных жанров мировой сцены второй половины ХХ века. А активное освоение компьютерных технологий на сцене позволяет этим жанрам благополучно шагнуть и в следующий, ХХI век. Из наиболее ярких примеров их победного шествия на отечественной сцене последних сезонов можно назвать русские версии мюзиклов «Метро» Я. Стоклоса (1999), «Notre dame de Paris» Р. Кочанте и Л. Пламондона (2002), «Romeo amp; Juliette» Ж. Пресгурвик (2004) на сцене «Московской оперетты». Подражание Бродвею с новыми сценическими технологиями, лазерными эффектами, световыми волнами, пересекающими зрительный зал и сценическое пространство, пульсирующий ритм, экзальтированная пластика актерского ансамбля в сочетании с яростью молодой, бьющей в зал энергии были явлены во всем блеске. Кстати, тот факт, что молодые исполнители уже первого мюзикла были набраны буквально с улицы по объявленному в средствах массовой информации конкурсу, придал всей постановке особо узнаваемое отличительное дыхание сегодняшнего дня и сокрушительный натиск жаждущего звездной славы поколения next.
Параллельно с мюзиклом на российской почве 90-х годов стал активно возрождаться и развиваться коммерческий и антрепризный театр, сливающийся по своему содержанию и форме с массовой телепродукцией. Многие спектакли Р. Виктюка («М. Баттерфляй» Д.Г. Хуана, 1990; «Служанки» Ж. Жене, 1992; «Лолита» Э. Олби по В. Набокову, 1992; «Наш Декамерон» Э. Радзинского, 2001, «Антонио фон Эльба», 2000 и др.) и А. Житинкина («Ночь трибад. Ночь лесбиянок», 1995; «Квартет для Лауры» Г. Ару, 1997, «Милый друг» Г. де Мопассана, 1997; «Лулу» Ф. Ведекинда, 2001; музыкальный проект «Бюро счастья», 1998 и др.), основывавшиеся на соединении эстетизма с жанром занимательного «бульварного чтива», фрейдистской тематики со сценическим эпатажем и гламуром, включали в себя атрибуты и элементы рекламно-клиповой стилистики, мюзикла и броского, играющего яркими красками и перьями телешоу. А широко развернувшаяся практика активного привлечения разными режиссерами звезд кино, оперы, балета или шоу-бизнеса (Л. Гурченко, Е. Образцова, Г. Таранда, Н. Фоменко и др.) представляла собой еще и типичную пиаровскую акцию. Новейшие порождения массмедиа без особого труда вросли сегодня в современное театральное пространство.
Безусловно, привлечение новых технологий модернизирует сцену и привносит в традиционный язык театра не просто остроту новизны, ощутимый привкус сегодняшнего дня, но и, возможно, элементы нового медиаискусства, соответственно способствующие утверждению новых норм эстетического мышления. Зрителю, особенно молодому, это импонирует. В изменениях театральной стилистики проявляется и закономерная смена поколений.
С другой стороны, теснимое со всех сторон слово вопреки многим ожиданиям и предсказаниям отнюдь не исчезает со сцены, а даже, напротив, обретает сегодня свое новое значение и звучание. Язык всей своей системой необычайно связан с жизнью, а режиссеры, как известно, люди с обостренным слухом на малейшие изменения окружающей звуковой среды. В современной литературе и драматургии с языком активно играют и экспериментируют, порой подвергая серьезным испытаниям, в частности в направлении «раскрепощения мата и введения его в официальную лексику» (Виктор Ерофеев).[60]60
Искусство кино. 1999. № 4.
[Закрыть] На сцену хлынул не слишком мощный, но достаточно энергичный поток блатного и криминального жаргона, площадной брани. Одной из первых ласточек его стал спектакль «Игра в жмурики» М. Волохова (1993; Независимый экспериментальный проект), который был весь выстроен на так называемой ненормативной лексике и, по словам его постановщика А. Житинкина, прошел с триумфальным успехом на съезде славистов в Сорбонне. Из того же лексико-экспериментального ряда спектакль, поставленный В. Беляковичем в Театре на Юго-Западе «Dostoevsky-trip» по пьесе В. Сорокина (1999) или «Свадебное путешествие» того же автора в постановке Э. Боякова на сцене Центра им. Вс. Мейерхольда (2004). Долгожданная свобода от цензуры привела многих в наркотическое состояние почти захлебывающегося восторга от возможности нарушить табу. Тем более что прорвавшийся наружу глубокий цинизм наступившего времени невольно провоцировал и сам диктовал новые правила литературной и игровой стилистики, открывающие несколько озверелое лицо малоприглядной, обыденной реальности современной жизни. Запретный плод всегда выглядит крайне притягательно, и его, естественно, хочется не просто попробовать, но и насладиться им, всласть поиграв с ним на языке. Долгий и категоричный запрет, как известно, лишь усиливает желание и чувство ненасытности, в данном случае желание говорить без оглядки на прежние общепринятые нормы. Так называемая «чернуха», на несколько лет захлестнувшая в первую очередь наши экраны, была не случайным явлением и стала, вероятно, многоговорящим символом не только своего времени, но и знаком утверждения свободы языкового самовыражения. Сцены она коснулась чуть позже и оказалась щедро представлена в пьесах В. Сигарева, братьев Пресняковых, М. Курочкина и других зачинателей русской «новой драмы».
Среди самых заметных театральных экспериментов в области звучащего слова, давший начало целому направлению, – сценический опус Е. Гришковца под названием «Как я съел собаку» (1999), автор которого является одновременно и его единственным исполнителем, и режиссером. Театральная общественность единодушно присудила ему премию «Золотая маска» – 2000 в номинации «Новация». По словам самого автора, он сочинил своеобразный двухчасовой соц-арт, где рассказывал друзьям о том, как служил на флоте, окрашивая свое повествование различными подробностями и историями. «Я научился жить “все в активе”, все находится в настоящем времени. Время неподвижно, по крайней мере, в спектакле оно точно неподвижно. И я не прыгаю из одного времени в другое, воспроизводя какие-то детали времени или воспроизводя эпоху, уж тем более эпоха меня вообще не занимает… Я просто говорю “угол школы” – и каждый вспоминает свою… Я называю такие вещи, которые помнит каждый: когда заходишь в класс, в классе светлее, чем в коридоре, там доска, и на доске высыхают полосы от тряпки, и остаются белые разводы… Когда доска мокрая, она коричневая, а потом, высыхая, она становится вся в полоску, и сколько ее ни три, она все равно такая будет. И этот момент высыхания, и начало урока – это ужасная мука. Я не согласен, когда мои спектакли определяют как моноспектакль. Потому что это всегда диалог».[61]61
Гришковец Е. Год я жил без прописки / Интервью записала О. Егошина // Вечерний клуб. 2000. 1 апр. С. 5.
[Закрыть] По словам критиков, Гришковец явил собой феномен совершенно новой драматургии, потрясающей своей достоверностью. Другие заявили, что он соединил художественный авангард и человеческое сострадание. Можно сказать, что данное представление в чем-то сродни массовому психоаналитическому сеансу. Его автор и исполнитель делает акценты на самые простые психологические индивидуальные ассоциации зрителей, подключая их к своему рассказу. Достоверность заключается здесь в легкой узнаваемости общих ощущений и мгновенном рождении собственного ассоциативного ряда у зрителей этого спектакля. На эту узнаваемость накладывается чуть удивленная, насмешливо-ироническая интонация автора и такая же обязательная ответная зрительская реакция, посылающая тексту звуковой знаковый сигнал времени и наполняющая его сегодняшней игровой энергетикой. Следует особенно подчеркнуть диалогичность данного сочинения-представления, поскольку оно напрямую рождается из диалога с конкретной зрительской аудиторией. Попадание оказалось точным, его автор верно угадал несколько скрытые потребности значительной части современных зрителей в подобном жанре. Примерно в том же ключе Гришковец сделал еще несколько спектаклей. Многие находят и получают настоящее эстетическое удовольствие от таких игр в слегка расслабленное восприятие и ассоциативное узнавание-воспоминание. Кстати, автобиографическое представление, где артист рассказывает о реальных событиях своей жизни, является составной частью все того же перформанса.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.