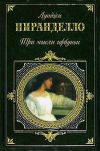Текст книги "Русский театр на сломе эпох. Рубеж XX–XXI веков"

Автор книги: Анна Вислова
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)
Вместе с этим отечественную сцену захватили постмодернистская «культурная опосредованность», эклектика и насмешливость над всем, дающие иногда неожиданные и неоднозначные по качеству результаты. Характерный пример смешения стилей на русской театральной сцене конца 90-х годов – спектакль «Шаман и Снегурочка» на сцене РАМТ (реж. А. Пономарев, 1999 г.), в котором «весенняя сказка» А.Н. Островского соединена со «Снежимочкой» В. Хлебникова. Как заметила критик М. Дмитревская: «Массовая культура – от фольклорных песен (ансамбль Д. Покровского) до электронных звуков и “кислотных” костюмов – образует в спектакле оригинальный, вульгарный, единый, остроумный мир многовековой “народной культуры”.[62]62
Дмитревская М. Я шагаю по Москве (коллаж) // Петербургский театральный журнал. 2000. № 20. С.18.
[Закрыть] В 2004 году на сцене театра «Сатирикон» К. Райкин соединил ту же «Снегурочку» А.Н. Островского с молодежной рэп-культурой. Спектакль назвали «Страна любви», чтобы ни у кого не возникало ассоциаций, связанных с детской сказкой. Действие разыгрывали выпускники Школы-студии МХАТ (теперь уже артисты театра) в стиле рэп, и оно насквозь пропитано резвящейся молодой эротикой и физической напористой энергетикой.
В постмодернистской экранной стилистике шутливо и легко поставлен Ю. Любимовым и исполнен молодыми актерами Театра на Таганке спектакль «Евгений Онегин» (2000). Выступая на пресс-конференции перед премьерой, режиссер говорил о том, что театр теснят другие виды искусства, особенно телевидение, и о необходимости поиска театром своего места. Спектакль создавался с очевидным желанием привлечь молодого зрителя, уже воспитанного на канонах аудиовизуальной культуры. Отсюда слияние клипового стиля постановки с естественным возрастным стремлением просветить юных недорослей, пополнить их не отягощенные знаниями умы калейдоскопическим взглядом на Пушкина из разных лет и периодов ХХ века. В жанре излюбленной и много раз опробованной режиссером музыкально-пластической монтажной композиции изрядно сокращенный текст романа в стихах подается через музыкальные, литературные, телевизионные и прочие цитаты и реминисценции. Онегинская строфа звучит под И. Бродского, А. Вознесенского, В. Высоцкого, А. Гребенщикова и других, перемежаясь записями Л. Собинова, И. Смоктуновского, И. Козловского, Г. Отса, А. Яблочкиной, В. Яхонтова, Ц. Мансуровой, а также озвученными комментариями Ю. Лотмана и В. Набокова. Пушкинские строки отбиваются в ритмах африканских ритуальных танцев, попутно намекающих на происхождение русской национальной гордости и плавно переходящих в современный рэп. В сценографии спектакля, выполненной Б. Бланком, используется двухэтажная сценическая конструкция со скрытыми за занавесками своеобразными окнами-экранами, при открытии напоминающими эффект «картинки в картинке» на современном телеэкране. Внимание зрителей привычно переключается с одной высвечиваемой картинки на другую, только происходит это не с помощью пульта дистанционного управления, а по воле режиссера. Подобная, но многоэтажная конструкция с открывающимися экранами несколько раньше, к примеру, была столь же успешно использована в постановке «Сон в летнюю ночь» У. Шекспира (1998) режиссером Н. Шейко на Новой сцене МХАТ им. А.П. Чехова.
Книжная культура воспитывала вдумчивость, аудиовизуальная – динамичность восприятия, часто ограничивающуюся чистой созерцательностью. Ее продукция заполняет время, ее функция не более чем компенсаторная, развлекательная. Она, как правило, ориентируется на массовый вкус и широкий спрос, оттого не слишком щепетильна в выборе эстетических критериев и в отношении своего соответствия высокому художественному уровню в рамках традиционного культурного сознания. Однако, по меткому замечанию Ю.М. Лотмана, искусство обладает странным удивительным свойством, «выбрасываясь в пошлость, в дешевку, в имитацию, в неискусство, в то, что портит вкус, – вдруг неожиданно оттуда начинает расти! Искусство редко вырастает из рафинированного, хорошего вкуса, обработанной формы искусства, оно растет из сора».[63]63
Лотман Ю.М. О природе искусства. // Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994. С. 437.
[Закрыть] Возможно, и мы сегодня являемся свидетелями прорастания пока не совсем ясных и совершенных новых форм театрального искусства. Постмодернистский бум докатился до русского театра конца ХХ века в виде режиссерских цитат из давнего и недавнего прошлого, активного освоения и применения рекламной стилистики на сцене и бесконтрольной художественной и нехудожественной всеядности. Изобильная почва исторических культурных накоплений открыла режиссерам необъятную перспективу для бесконечной творческой эксплуатации прежних новаций и достижений, используя их в различных сочетаниях. Эпатажный и гротесковый характер игры, с одной стороны, пародирующей, иронически высмеивающей шаблоны тривиального искусства, порожденного стереотипами массового эстетического сознания, а с другой – наполненного теми же штампами, стал одним из наиболее расхожих. Очевидно, правы теоретики постмодернизма У. Эко и Д. Лодж, считающие неизбежным появление подобного феномена при любой смене культурных эпох, когда происходит «слом» одной культурной парадигмы и возникновение на ее обломках другой.
На сцене 90-х годов все чаще начинали ставиться не традиционные спектакли, а осуществляться разнообразные проекты или акции. К началу следующего десятилетия это направление на театральной сцене стало уже привычным и обиходным. В таких представлениях, часто базирующихся на фундаменте театральной классики, помимо яркого самовыражения их автора, другой целью является раздвижение театрального пространства и освоение новых территорий и визуально-технологических приемов.
Русский театр все больше втягивается в орбиту «всемирного» театра, он вписывается в международный театральный поток, и это, видимо, одно из закономерных проявлений глобализации в области театрального искусства. В Москву охотно приглашаются известные иностранные режиссеры. Одними из первых стали Петер Штайн с постановками «Орестеи» Эсхила (1993) (МКТС) и шекспировского «Гамлета» (1998) (МКТС) и Деклан Доннеллан, поставивший летом 2000 года с московскими актерами пушкинского «Бориса Годунова», а через три года «Двенадцатую ночь» Шекспира. Но пока более активны на отечественной территории режиссеры, как принято теперь говорить, из ближнего зарубежья: хорошо нам знакомые – Эймунтас Някрошюс, Роберт Стуруа, Римас Туминас,[64]64
С июня 2007 года Р. Туминас является художественным руководителем Театра им. Евг. Вахтангова.
[Закрыть] а также их молодые коллеги – М. Карбаускис, О. Коршуновас и др. В отношении М. Карбаускиса стоит оговориться, поскольку он – ученик русской режиссерской школы, выпускник РАТИ, живет в Москве и до 2008 года являлся штатным режиссером Театра п/р О. Табакова, что, вероятно, давало ему право считаться российским режиссером.
Э. Някрошюс в 2003 году поставил с московскими актерами чеховский «Вишневый сад» – спектакль, вобравший в себя тончайшую, излюбленную режиссером, образно-знаковую партитуру-кодировку играющих сверхнасыщенных деталей – почти самодостаточных сценических метафор, требующих нешуточного интеллектуального труда от зрителя. Спектакль (как и двумя годами ранее привезенный в Москву другой спектакль литовского режиссера – «Отелло») привел в восторг московскую театральную публику и критику и был признан последней едва ли не великим спектаклем. Наверное, с точки зрения профессионального мастерства режиссера, всегда создающего на сцене ошеломляющее играющее пространство, и отдельных замечательных актерских работ (в частности, единодушно было отмечено исполнение роли Лопахина Е. Мироновым) его можно отнести к великим произведениям театрального искусства, но величие это бестрепетно и холодно, как ледяной айсберг. Его подводная часть глубока и притягательна, она укрыта темными водами загадочного и необыкновенно увлекательно шифрованного сценического текста. Однако умозрительная режиссерская метафизика, может быть, исподволь, но неизбежно входит в противоречие как с русским психологизмом, так и с русским традиционным взглядом «человека переживающего» в отличие от европейского «человека играющего», и не столько рациональным, сколько сострадательным, склонным к «всемирной отзывчивости» (хотя далеко не у каждого) складом ума. Исполненный интереснейшими метафорами и «физическими действиями» спектакль Някрошюса при этом похож на хладнокровный сценический некролог чеховским героям, всем этим уже обреченным и безнадежно больным «недотепам», бесстрастно их отпевающий. Все они живые мертвецы. Неслучайно Раневская (Л. Максакова) появляется на сцене, таща за собой черную не то кушетку, не то скамью-гроб, на которую и укладывается тут же перед застывшими над ней домочадцами, укрыв лицо черной траурной шляпой. Притом внешне экспрессивный стиль спектакля, подобно препарирующему взгляду режиссера, подвергающему вивисекции нелепо трагический мир чеховских героев, остается внутренне, эмоционально отчужденным, отстраненным и рассудочным.
Кстати, в своем все более явном, нарастающем отчуждении и новый русский театр становится все очевиднее чужедальним и чужеродным явлением для отечественных не «корпоративных» зрителей, для тех, кто не является «гражданами мира» и нечасто выезжает за границу. В этом смысле новый русский театр все менее отличим не только от европейского, но и от мирового театра, он эволюционирует в общем фарватере его движения в рамках современной всемирной культурной парадигмы.
М. Карбаускис, в свою очередь, одарил московскую сцену Театра п/р О. Табакова одним из самых философичных спектаклей последнего времени «Когда я умирала» (2004) У Фолкнера, где абсурд возведен в такую степень, когда страшное оборачивается смешным и парадоксальным. Длинная дорога к месту погребения Адди Бандрен (тонко исполненной Е. Германовой) превращается не только для ее родных, но и для всех зрителей спектакля в некое умозрительное экзистенциальное путешествие, где, кажется, сама вечность ведет свой особенный, надбытовой диалог с суетной и неисповедимой человеческой жизнью.
Театр сегодня все больше дифференцируется, его сценический язык перестал быть единообразным. Происходит непрерывное стихийное усложнение существующей театральной системы. Освобождение от навязываемых прежде нормативов привело к своеобразному культу разностилья и эклектики. В открывшемся необозримом пространстве направлений каждый театр и режиссер выбирают для себя то, что ему ближе. Воздействие, с одной стороны, массовой культуры и рекламной стилистики, с другой – динамики нового времени на современную сцену очевидно, хотя и проявляется оно по-разному и отнюдь не носит всеобщего и одинакового характера.
Конечно, в первую очередь постижение нового сценического языка и авангардный постановочный стиль апробируются на многочисленных малых сценах и в экспериментальных театрах-студиях. Во многом благодаря именно их работам можно с уверенностью говорить сегодня о том, что театральная стилистика значительно изменилась за последние годы. Малые размеры новых сценических площадок и их максимальная приближенность к зрителю стали причиной рождения на свет совершенно иной манеры актерской игры, требующей особой степени внутренней раскрепощенности и свободы. Постановочный голос, легкое ощущение котурн, привычная для большой сцены театральная условность с ее нажимом, подчеркнутой интонацией и артикуляцией здесь не требуются. Условность в тесном пространстве другая и, соответственно, другие правила игры, более близкие требованиям телевизионного пространства. Сближение сцены и экрана наглядно проявляется и в этом все большем стилистическом родстве игры актера в театре и перед видеокамерой. Новизна дает себя знать также во многих внешних деталях и, конечно, в смене актерских типажей.
Современные художественные приемы и эстетические каноны рождает кино и видеопродукция. В моде мощная тренированность тела. Примечателен, однако, тот факт, что сама фактура человеческого тела в современной театральной эстетике приобретает новое важное и существенное значение. Спектакли сегодня – это часто боди-арт, в котором тело актера используется для того, чтобы подвергнуть его опасности, выставить напоказ или предоставить возможность зрителю просто анализировать его образ. Среди наиболее ярких примеров – уже упомянутый спектакль недолго просуществовавшей Фабрики кардинального искусства «Ромео и Джульетта» (1999). Перед зрителями – современное переложение шекспировской трагедии без слов. Полуобнаженный Ромео здесь изображает страдания дикого зверя, чей рык периодически раздается в записи, а полуодетая Джульетта оказывается в плену его любви-истязания: Ромео то разливает на ее простертом на столе теле чай, то опускает ее руку в горячий чайник, то бьет ее мухобойкой или просто набрасывается на нее, как голодный зверь, и т. д. На большой сцене Театра им. Евг Вахтангова тема боди-арта продолжена В. Епифанцевымв спектакле «Калигула» А. Камю в постановке П. Сафонова (2004), где актер демонстрировал свой полуобнаженный торс в специально поставленном агрессивно-чувственном танце.
Вопрос брутально-агрессивного вторжения телесности в современный сценический язык становится в новых условиях весьма актуальным. Сегодня все театральные звезды качают мускулы. Они сели на тренажеры, занятия на которых превращаются в обязательные, почти как станок у балерины. Совершенствование духа, развитие этического императива личности нынче явно уступают место ее физической подготовке. Время неукоснительно вносит свои коррективы во все, в частности, и мхатовская школа искусства переживания вряд ли сохранилась в том виде, как понимал ее Станиславский. Порой кажется, что давно уже стерта грань между искусством и искусностью, притворством и подлинностью, техникой и настоящим переживанием. А вот биомеханика, разработанная Вс. Мейерхольдом, – телесная актерская техника, не требующая развития духовной, нравственной стороны личности творца, оказалась вполне закономерно куда более востребована в конце ХХ столетия. Тем не менее из наследия прошлого ныне все идет в дело, разумеется, в том виде, в каком его под силу освоить новым поколениям. Сегодня, пожалуй, мы являемся зрителями и свидетелями некоего сплава всех известных актерских и режиссерских школ и направлений, что вполне отвечает той же всеядной постмодернистской стилистике, когда все используется и находит применение в зависимости от поставленной задачи. И все же всеядность эта на практике обычно оборачивается усечением, редукцией и эклектичным хаосом поверхностно усвоенных направлений.
Вспоминая историю создания Художественного театра, можно говорить о том, что ХIХ век закончился рождением театра, высшей целью своей ставившего исследование жизни человеческого духа, а значит – постижение реальности. Искусство ХХ века в своем стремлении к беспредметности началось с разложения этой самой реальности и человека. Новое авангардное искусство ХХ столетия расстается с приоритетом миметического начала и не столько отражает реальный мир, сколько творит новую концептуальную реальность. Искусство в целом на протяжении этого века сильно видоизменяется, и вместе с ним меняются его цели и задачи. Европейское сознание поступательно вытесняло искусство из области жизненно «серьезного», оставляя за ним в качестве приоритетных функции забавы, игры, развлечения, иногда интеллектуальной загадки. Изменялся не просто масштаб целей, но сами цели. Мессианство в постмодернистском пространстве исчезло не только из театра, искусства, но и из жизни. Как точно отметила известный историк Художественного театра И. Соловьева, утрачено «полностью то высочайшее, то благороднейшее самомнение театра, которое заставляло Станиславского отказаться от роли в “Селе Степанчикове”, потому что он ведь хотел, чтобы после этого спектакля остановилась Первая мировая война. На меньшее не соглашался. И если играет пока не так – то и не будет играть».[65]65
Соловьева И. Театр есть старый, очень старый механизм // Петербургский театральный журнал. 2000. № 20. С. 9.
[Закрыть] Первая мировая война не остановилась, но великий театр, в том числе и благодаря подобным высоким, ко многому обязывающим, хотя одновременно и наивным целям, был создан.
Нельзя сказать, что современный театр вообще уходит от исследования человеческого духа, но исследует он его иначе, переводя, если можно так выразиться, этот дух в область внешнюю из внутренней, в область своеобразного видеопоказа. Отчасти подобный «перевод» можно наблюдать в спектакле «Контрабас» по пьесе П. Зюскинда в исполнении К. Райкина, на сцене театра «Сатирикон» (2000; реж. Е. Невежина). Сложные психологические чувства персонажа подаются актером через мастерское эстрадное представление, в котором драматическое содержание облечено в яркую, почти трюковую представленческую форму.
Опосредованное воздействие видеоэкрана, новых технологий и компьютерных графических возможностей можно обнаружить и в многочисленных за последнее время попытках превращения театра в пространство исключительно сценически-технологического эксперимента с набором дорогостоящих спецэффектов. Это далеко не оригинальное начинание заимствовано, как обычно, у современного западного театра. Элементы понимания и толкования театрального зрелища как яркого и дорогого спецэффекта с разной степенью вложенного в него художественного вкуса и соответственно разным уровнем достигаемого результата можно обнаружить в спектаклях почти у всех современных режиссеров, начиная от признанных мэтров и заканчивая неискушенными в театральном деле дебютантами. Сегодня публика хочет получить оплачиваемое удовольствие независимо от уровня своей начитанности и сообразительности. Нового в этом ничего нет, поскольку намерение это старо как мир. Отличие лишь в технических возможностях современного спецэффекта и «спецэффекта» на сцене средневекового театра, к примеру.
Последние годы активного формирования нового экранного сознания совпали в России с существенными изменениями в таких не очень поддающихся научному анализу понятиях, как «общественная и психологическая атмосфера», «моральное состояние нации». В современном временном и жизненном пространстве сильнее, чем когда-либо прежде, проявляется логика хаоса и пессимизма общественного сознания. Изобретенное художественной мыслью абсурдистское искусство, в том числе и театр абсурда, к концу века своего рождения шагнули в жизнь. Сегодня, особенно в России, общество живет в состоянии абсурда, чаще трагического, нежели комического. В современном искусстве человек воспринимается как «вечная абстракция», он не способен отыскать точку опоры в безысходном поиске постоянно ускользающего от него смысла. Его деятельность утрачивает внутренний смысл (значение и направленность). Характерны в этом плане спектакли, поставленные В. Мирзоевым, о котором уже шла речь несколько выше. Ставит ли он классику – сценическую версию комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» под названием «Хлестаков» или «Укрощение строптивой» и «Короля Лира» Шекспира («Лир», 2003; Театр им. Евг Вахтангова), комедию Ж.-Б. Мольера «Амфитрион» (1998; там же) – или абсурдистскую «Коллекцию Пинтера» (2000; театральное агентство «Арт-мост») везде режиссер так или иначе наглядно демонстрирует новое лицо современной личности – лицо с явными признаками начавшегося внутреннего психологического и эмоционального распада. Тем не менее в его спектаклях не обнаруживается и тени надрыва или драматизма по этому поводу. Перед нами люди новой технократической формации. Люди с притупленными душевно-эмоциональными качествами, люди-функции, конформисты и потребители, циники и пересмешники, у которых маска стала их второй кожей.
Развитие технической цивилизации при игнорировании гуманитарной сферы неминуемо ведет к деградации человека. В результате мы последовательно движемся не к ноосфере – новому эволюционному состоянию биосферы, при котором разумная деятельность человека, по мысли В.И. Вернадского, становится решающим фактором ее развития, а к ужасающей и бездушной техносфере. Человеческому миру свойственно надеяться на лучшее и не замечать многих угроз наступающей новой реальности, в частности опасностей, поджидающих его в пространстве кибермира. На таком социальном и психологическом фоне логически оправдана и закономерна кольцеобразная, наподобие типичной абсурдистской драматургии, фабула многих современных пьес, которую направляет не драматическое действие, а поиск и игра со словами. Идет языковая игра словесных значений, где слово может истолковываться совершенно по-разному. Одновременно жизнь превращается в некий бесконечный перформанс. А попытки ее драматургического осмысления напоминают калейдоскопический многотемный дискурс.
Происходит фундаментальная мутация сознания, которая формирует отношение к жизни и миру как к иллюзии, воображаемым символическим сущностям. Понятие естественной жизни, натуральности оказывается более не действующим. Компьютеризация постепенно приводит к созданию кибернетического пространства, или, как принято говорить, киберспэйса. Читатели и создатели киберспэйса сделали достоянием массового сознания некоторые идеи новейшей техноутопии о строении мира как информационного поля. Суть этих идей в том, что физическая непрерывность передачи информации в пространстве при помощи телефона и компьютерных сетей создает предпосылки для осуществления мечты о трансперсональной мысли, коллективном разуме и коллективном хранении информации. Утрата человеческой памятью своего значения как средства хранения информации влечет за собой кризис письма как одного из главных инструментов памяти. При этом текст, составленный из мертвых знаков, также терпит кризис, а на смену ему приходит язык, основанный на идеографии и жесте. Таким образом, наступает новое живое письмо и знание. «Ключевые понятия техноутопии 90-х – поверхность и симуляция – были исследованы и осознаны как формообразующие именно в постмодернизме, когда культура отождествляется с палимпсестом, а цивилизация с производством симулякров. Фантомное восприятие реального и живоподобие мнимого – это, на самом деле, главные завоевания эры массового телевидения, которая начинается в середине 60-х и заканчивается на наших глазах видеолихорадкой», – отмечалось на научной конференции, посвященной актуальным проблемам современного искусства, проводившейся в 1994 году.[66]66
Современное искусство в контекстах: теория, история, география, общество. материалы науч. конф. М., 20–22 сент 1994 г. М., 1994. С. 57.
[Закрыть]
Симулятивная и неестественная природа нового языка культуры так или иначе откладывает свой отпечаток на все виды современного искусства. Более того, природа этого языка порой, кажется, перетекает в саму действительность. Последняя как будто обретает характер и отдельные черты иллюзорного мира. С некоторых пор человеческое общество оказалось в ситуации, когда за ним постоянно подглядывают и наблюдают объективы видеокамер, человек при этом превращается в объект видеоизображения, в живой персонаж, с которым можно играть. Данная роль вырабатывает у последнего новое самоощущение в пространстве, а соответственно, и новое мироощущение и мировоззрение. Человек отчасти уже уподобляется некоему виртуальному существу, которое действует в иллюзорном мире. Формируется новая медийная модель мира.
За пределами собственно театральной жизни происходят весьма интересные, многообещающие процессы и события. Сегодня к двум исконным основным формам литературной жизни – устной и письменной, – добавилась третья – сетевая. Литературный Интернет первоначально создавался людьми, далекими от литературы, и одной из парадоксальных особенностей этой новой сетевой литературной жизни оказалась ее ненацеленность на читателя. Различие между качественным и некачественным текстом в ней отсутствует. Это своеобразный «самсебяиздат», в котором всякий текст публикуется и имеет, условно говоря, одного читателя. Участие или неучастие в этом новом творческо-издательском деле определяется лишь степенью доступности или недоступности к «телу», т. е. к Интернету. Его появление и довольно быстрое распространение для многих стало свидетельством полного разрыва с традиционной печатной литературой. Возникновение сети Интернет – это событие в истории человечества, сравнимое по значимости с изобретением книгопечатного станка. Интернет не случайно называют седьмым континентом. Единое информационное пространство, связывающее всех, кто к нему подключен, представляет собой уже некую глобальную человеческую общность. Это абсолютно новое явление современной действительности не может не сказаться на дальнейшей эволюции культурного сознания. Уютной театральной сцене со всеми ее механическими ухищрениями и спецэффектами давно уже противостоит гораздо более условная и в то же время позволяющая достичь максимальной иллюзии цивилизация экранов. «Киберспэйс – это удачная попытка сделать искусственное неотличимым от естественного, или по масштабу, в сравнении с другими попытками, сделать искусственное другим естественным».[67]67
Современное искусство в контекстах: теория, история, география, общество: материалы науч. конф… С. 59.
[Закрыть]
Театр в этом невольном противостоянии, безусловно, не может составлять экрану конкуренцию. Но такая задача перед ним никем и не ставится. Однако непростые эстетические взаимоотношения современного театрального процесса со своим временем и новыми тенденциями наступившего века информации, а также прямое или опосредованное воздействие новейших технологий на привычно консервативный и традиционный язык сцены, повлекшие за собой его очевидные видоизменения, вполне закономерно оказываются в поле исследовательского внимания. Аудиовизуальная цивилизация не уничтожила театр, более того, она не поколебала его основ, что, вероятно, вполне закономерно, учитывая саму его живую природу, исходно отличную от видеоизображения и существующую в ином пространстве. Постижение жизни на театральной сцене пока еще происходит все-таки в формах самой жизни. Но определенная мутация театрального языка, как и языка других современных искусств, безусловно, имеет место. На основе сегодняшней эклектики возникает новый театральный метастиль, который служит новой формой коммуникации сцены и зрителя. Слову сегодня не хватает энергии рок– и поп-культуры, энергии и фантастических возможностей компьютерной графики. Вполне естественно, что театр, как и литература и другие искусства, тянется в поисках этой энергии к новым технологиям и языковым формам. В этом нет ничего удивительного и неожиданного, подобные процессы происходили во все времена. Искусство, как известно, часто предвосхищает пути и способы накопления будущего опыта и развития, выстраивая с помощью художественного предвидения еще небывалые, неапробированные мировоззренческие и поведенческие модели. Оно обладает особым «виртуальным» значением, таящим в себе нечто неожиданное, провоцирующее, освежающее старые представления о культуре и жизни. Театральная сцена в своем стремлении к новым языковым формам, соответствующим духу и логике наступившей аудиовизуальной цивилизации, старается лишь идти в ногу со своим временем.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.