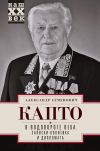Текст книги "Воспоминания. Том 1. Родители и детство. Москва сороковых годов. Путешествие за границу"
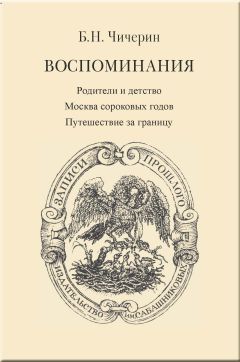
Автор книги: Борис Чичерин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 42 страниц)
К обширности знаний присоединялись серьезное философское образование и большой политический смысл, качества для историка необходимые. Грановский слушал лекции в Берлине во время самого сильного философского движения и проникся господствовавшим в нем духом. «В Логику Гегеля я до сих пор верю», – говорил он мне несколько лет спустя. Но из гегельянской философии он заимствовал не теоретическое сцепление понятий, не отвлеченный схематизм, которого он, как историк, был совершенно чужд, а глубокое понимание существа и целей человеческого развития, при чем он весьма далек был от ошибки тех философствующих историков, которые частное жертвуют общему и в лице видят только слепое орудие господствующего над ним исторического рока. Грановский глубоко верил в свободу человека, сочувствовал всем человеческим радостям и скорбям и вполне понимал, что если в общем движении отдельное лицо служит орудием высших целей, то в осуществление этих целей оно вносит личный свой элемент, через что и дает историческому процессу своеобразное направление. Философское содержание истории было для него общею стихией, проникающею вечно волнуемое море событий, проявляющейся в живой борьбе страстей и интересов. «Истинная философия истории есть сама история», – говорил он. Но он умел это содержание представить во всей его возвышенной чистоте. Он с удивительною ясностью и шириною излагал движение идей. Очерк историографии, который составлял введение в его исторический курс, был превосходный. Он указывал в нем, как две школы, отправлявшиеся от совершенно противоположных точек зрения, немецкая философская и французская историческая, пришли к одному и тому же результату, к пониманию истории, как поступательного движения человечества, раскрывающего все внутренние силы духа и направляющего все человеческие общества к высшей нравственной цели – к осуществлению свободы и правды на земле.
В политике он, разумеется, был либерал, но опять же как историк, а не как сектатор. Это не был рьяный либерализм Герцена, всегда кидавшегося в крайность, неистово преследовавшего всякое проявление деспотизма. Для Грановского свобода была целью человеческого развития, а не непреложною меркою, с которой все должно сообразоваться. Он радостно приветствовал всякий успех ее в истории и в современной жизни; он всею душою желал расширения ее в отечестве, но он вполне понимал и различие народностей и разнообразие исторических потребностей. Развитие абсолютизма, установляющего государственный порядок, было в его глазах таким же великим и плодотворным историческим явлением, как и водворение свободных учреждений. Не даром он предметом своей докторской диссертации избрал аббата Сугерея. Но сердечное его сочувствие было все-таки на стороне свободы и всего того, что способно было поднять и облагородить человеческую личность. С этой точки зрения он сочувствовал и первым проявлениям социализма, который в то время не представлялся еще тою злобною софистикой, какою он сделался впоследствии в руках немецких евреев. Вполне признавая несостоятельность тех планов, которые социалисты предлагали для обновления человечества, Грановский не мог не относиться сочувственно к основной их цели, к уменьшению страданий человечества, к установлению братских отношений между людьми. Раскрывшаяся тогда ужасающая картина бедствий рабочего населения увлекала в эту сторону самые умеренные и образованные умы, как, например, Сисмонди. Но когда в 48-м году социализм выступил на сцену, как фанатическая пропаганда, или как дышащая злобою и ненавистью масса, Грановский не последовал за радикальными увлечениями Герцена, а, напротив, приходил в негодование от взглядов, выраженных в «Письмах с того берега» или в «Полярной звезде». «У меня чешутся руки, чтобы отвечать ему в его собственном издании», – писал он. В это смутное время он с любовью останавливался на одной Англии, которая осталась непоколебима среди волнений, постигших европейский материк, и крушения всех либеральных надежд.
При таком философском понимании истории, при таком глубоком историческом и политическом смысле, преподавание Грановского представляло широкую и возвышающую душу картину исторического развития человечества. Но это была только одна сторона его таланта. Была и другая, которой часто недостает у историков, умеющих широкими мастерскими штрихами изображать общее движение идей и событий, которой не было, например, у Гизо. Грановский одарен был высоким художественным чувством; он умел с удивительным мастерством изображать лица, со всеми разнообразными сторонами их природы, со всеми их страстям и увлечениями. Особенно в любимом его отделе преподаваемой науки, в истории средних веков, художественный его талант раскрывался вполне. Перед слушателями, как бы живыми проходили образы могучих Гогенштауфенов и великих пап, возбуждалось сердечное участие к трагической судьбе Конрадина и к томящемуся в темнице королю Энцио; возникала чистая и кроткая фигура Людовика IX, скорбно озирающегося назад, и гордая, смело и беззастенчиво идущая вперед фигура Филиппа Красивого. И все эти художественные изображения проникнуты были теплым сердечным участием к человеческим сторонам очерченных лиц. Все преподавание Грановского насквозь было пропитано гуманностью, оценкою в человеке всего человеческого, к какой бы партии он ни принадлежал, в какую бы сторону ни смотрел. Те высокие нравственные начала, которые в чистоте своей выражались в изложении общего хода человеческого развития, вносились и в изображение отдельных лиц и частных явлений. И все это получало, наконец, особенную поэтическую прелесть от удивительного изящества и благородства речи преподавателя. Никто не умел говорить таким благородным языком, как Грановский. Эта способность, ныне совершенно утратившаяся, являлась в нем, как естественный дар, как принадлежность возвышенной и поэтической его натуры. Это не было красноречие, бьющее ключом и своим пылом увлекающее слушателей. Речь была тихая и сдержанная, но свободная, а с тем вместе удивительно изящная, всегда проникнутая чувством, способная пленять своею формою и своим содержанием затрагивать самые глубокие струны человеческой души. Когда Грановский обращался к слушателям с сердечным словом, не было возможности оставаться равнодушным; вся аудитория увлекалась неудержимым восторгом. Этому значительно содействовала и самая поэтическая личность преподавателя, тот высокий нравственный строй, которым он был насквозь проникнут, то глубокое сочувствие и уважение, которое он к себе внушал. В нем было такое гармоническое сочетание всех высших сторон человеческой природы, и глубины мысли, и силы таланта, и сердечной теплоты, и внешней ласковой обходительности, что всякий, кто к нему приближался, не мог не привязаться к нему всей душой.
Когда преждевременная смерть похитила его в ту самую минуту, как он готовился, при изменившихся условиях, выступить с обновленными силами на литературное поприще, Николай Филиппович Павлов с грустью говорил мне: «И вот он ушел от нас, и все, что от него осталось, не дает об нем ни малейшего понятия. Чем он был, знаем только мы, близко его видевшие и слышавшие, а умрем и мы, о нем останется только смутное предание, как чего-то необыкновенного, как о Рубини, о Малибран[121]121
Джиованни-Батиста Рубини (1795–1854), известный итальянский тенор. Мария Малибран (1808–1836), не менее знаменитая итальянская певица.
[Закрыть].
Да, кто не знал его близко, тот не может иметь о нем понятия. В предыдущих строках я старался передать незабвенные черты этого человека, который на всей моей жизни оставил неизгладимую печать, представляясь мне даже на старости лет идеалом высшей нравственной красоты. Но может ли слово выразить могучее обаятельное действие живого лица?
Жалким соперником Грановского был Шевырев. И этот человек когда-то был блестящим молодым профессором, новым явлением в Московском университете. Вернувшись из Италии, полный художественных впечатлений, страстным поклонником Данте, образованный, обладающий живым и щеголеватым словом, он произвел большой эффект при вступлении на кафедру после устаревшего и спившегося Мерзлякова. Его погубило напыщенное самолюбие, желание играть всегда первенствующую роль и, в особенности, зависть к успехам Грановского, которая заслужила ему следующую злую эпиграмму, ходившую в то время в университете:
Преподаватель христианский
Он в вере тверд, он духом чист;
Не злой философ он германский,
Не беззаконный коммунист,
И скромно он, по убежденью,
Себя считает выше всех,
И тягостен его смиренью
Один лишь ближнего успех.
Искренно православный и патриот, он, в противоположность представляемому соперником западному направлению, все более и более вдавался в славянофильство. Поэзию Запада он прямо называл поэзиею народов отживающих. Курс его был переполнен нападками на немецкую философию, а так как он никогда ее серьезно не изучал, то возражения выходили самые поверхностные. Так, например, он говорил, что немецкие философы признают грехопадение началом развития разума, воззрение действительно вытекавшее из системы Гегеля, по которой развитие разума от первоначального единства идет к раздвоению, с тем чтобы снова подняться к высшему единству. В опровержение этого взгляда Шевырев приводил, что в библии Адам прежде грехопадения дает имена животным, из чего видно, что разум был уже у него развит. Меня поразила такого рода научная аргументация; когда я сообщил это Грановскому, он рассмеялся и сказал: «В Германии об этом уж давно перестали толковать».
Иногда Шевырев на кафедре потешался над современным слогом Герцена и других, и это было для нас не бесполезно, ибо обращало наше внимание на правильность речи. Второе полугодие было все посвящено преподаванию церковнославянского языка, что также было не бесполезно, хотя вовсе не соответствовало университетскому курсу. Но главную пользу он приносил тем, что задавал студентам сочинения. По этому поводу у меня произошло с ним маленькое столкновение. Темою было задано изложение какого-нибудь события русской истории по летописям, при чем профессор сам продиктовал список тем. Я выбрал борьбу Новгорода с Иваном III. В пылу юношеского либерализма, я выставил новгородцев рыцарями, отстаивающими свою вольность, и, помнится, выразил даже сожаление о падении их республиканских учреждений. Шевыреву это не понравилось, и он сделал довольно резкое замечание. Я, по примеру некоторых других, подал ему объяснение, которое еще больше его рассердило, и он отвечал замечанием еще более резким. Это был первый повод к охлаждению прежних хороших отношений. В объяснение надобно сказать, что Шевырев, в отличие от собственно славянофильской партии, не искал свободы не только на Западе, но и в древней России, а строго держался тогдашней казенной программы: православие, самодержавие и народность. Иногда он для эффекта позволял себе маленькие либеральные выходки. Так, например, на одной из публичных лекций, читанных им в зиму 1846 – 47 года, он вдруг закончил чтение переложением псалма Ф. Н. Глинки:
Немей, орган наш голосистый,
Как онемел наш в рабстве дух,
Не опозорим песни чистой,
Чтобы ласкать тиранов слух;
Увы! Неволи дни суровы
Органам жизни не дают;
Рабы, влачащие оковы,
Высоких песен не поют.
В аудитории произошел взрыв неумолкающих рукоплесканий. Но подобные выходки были редкостью, и чем старее делался профессор, тем он становился раболепнее. В Крымскую кампанию он стал по всякому случаю писать патриотические стихи, и притом в такой пошлой и неуклюжей форме, которая обличала полный упадок не только таланта, но и вкуса. Образцом может служить следующее сохранившееся у меня в памяти четверостишие из стихотворения, написанного по случаю бомбардирования Одессы:
И адмирала два, Дундас и Гамелен,
Громили пушками ряды домов и стен,
И перещеголял их прапорщик отважный,
Наш чудо Щеголев, артиллерист присяжный.
Шевырев писал подобные же стихи и в честь невежественного и тупоумного генерала Назимова, который назначен был попечителем Московского учебного округа, с целью введения в нем военной дисциплины. Он читал эти стихи на обеде, данном профессорами этому удивительному представителю русского просвещения. Но вскоре после этого карьера его кончилась весьма печальным образом. На каком-то смешанном заседании, происходившем в стенах университета, граф Василий Алексеевич Бобринский разглагольствовал о тогдашнем положении дел, бранил Россию и все русское. Шевырев, тут присутствовавший, возражал очень резко и упрекнул Бобринского в недостатке патриотизма. Тот отвечал дерзостью. Тогда Шевырев, как рассказывали, воспламенившись, подскочил к Бобринскому и дал ему пощечину. Бобринский был человек атлетического сложения, он бросился на Шевырева, повалил его на пол и так его отколотил, что тот слег в постель. И что же? Не только не произошло дуэли, но публично исколоченный профессор писал и пускал по городу самые пошлые письма, в которых, рассказывая происшедшее с ним несчастье, объяснял, что чувствует себя вполне удовлетворенным тем вниманием, которое ему оказывали: граф Закревский присылал узнать о его здоровье, а попечитель сам приезжал его навестить. При этом, восторгаясь сочувствием общества, он восклицал: «О, какая музыка!» После этого, однако, он подал в отставку и уехал за границу, где через немного лет и умер.
Наконец, я должен сказать о том весьма важном для моей внутренней жизни значении, которое имел для меня не в положительном, а в отрицательном смысле, слушанный в университете курс богословия. Очевидно, что если требуется читать в университете богословие, то надобно устремить главное внимание на ученую критику и стараться доказать, что она не в состоянии поколебать существенных основ христианства. Сделать это может только человек вполне просвещенный, знакомый с европейскою наукою и с философиею. Между тем, читавшийся тогда в университете курс был самый сухой и рутинный, какой только можно представить. Всякое догматическое положение подкреплялось множеством текстов, после чего преподаватель замечал, что то же самое подтверждается и разумом, в доказательство чего приводилось несколько совершенно младенческих соображений, которые только вызывали опровержения. Самая личность профессора, университетского священника Петра Матвеевича Терновского, не внушала никакого сочувствия. Он имел строгий вид, говорил в нос, своими маленькими, хитрыми глазками беспрестанно осматривал аудиторию, замечая, кто ходит на лекции, а иногда делал резкие выговоры студентам. Я очень усердно следил за курсом и знал его отлично. Когда на экзамен опять приехал митрополит, и меня в числе некоторых других вызвали вне очереди, я так хорошо отвечал на попавшийся мне весьма трудный билет, что Филарет сделал мне комплимент, а Терновский поставил мне пять с крестом, дело в университете неслыханное. Но результатом этого изучения было то, что я внутри себя к каждому вопросу относился критически, и скоро все мое религиозное здание разлетелось в прах; от моей младенческой веры не осталось ничего.
Знакомство с европейской литературой и, в особенности, с ученою критикой могло только подкрепить зародившийся во мне скептический взгляд. Одно уже чтение «Всемирной истории» Шлоссера показывало мне предмет совершенно в ином свете, нежели в каком я привык смотреть на него с детства. Еще более я утвердился в своих новых убеждениях, когда прочел разбор библейских памятников Эвальда в его «Истории еврейского народа», и на все это наложило окончательную печать чтение Штрауса. К тому же вело, с другой стороны, и изучение философии, которому я вскоре предался. Передо мною открылось совершенно новое мировоззрение, в котором верховное начало бытия представилось не в виде личного божества, извне управляющего созданным им миром, а в виде внутреннего бесконечного духа, присущего вселенной. И хотя в своей философии истории Гегель признавал христианство высшею ступенью в развитии человечества, однако это меня не убеждало, и я отвергал подобное построение как непоследовательность.
Молодой человек, вступающий в университет, обыкновенно находится в этом положении. Здесь он в первый раз знакомится с наукой, которая имеет свои самостоятельные начала, которая ничего не принимает на веру и все подвергает строгой критике разума. Вместо господствующей в младенческие годы первобытной гармонии разума и веры, перед ним открываются две противоположные области, между собою не примиренные. Он вполне понимает, что религия не может иметь притязания на то, чтобы наука слепо ей подчинялась. Пример славянофилов показывал мне, к какому извращению научной истины ведет насильственное подчинение ее религии. Но наука, с своей стороны, следуя собственным началам, развиваясь самостоятельно, не указывала мне путей примирения. Она раскрывала историческое, а не догматическое значение христианства. И это происходило не от какой-либо односторонности или недостатка преподавания. При данных условиях такая постановка вопроса совершенно неизбежна. Примирение всех высших областей человеческого духа составляет верховную цель развития, а не принадлежность каждой преходящей ступени. Пока не выработались в ясной для всех форме непреложные начала истины, к выяснению которых стремится все развитие человеческого разума, каждому лицу приходится примирять противоположности по своему, испытуя умом весь доступный ему материал и следуя указаниям своей совести. Весьма немногим, вкусившим плодов науки, удается сохранить неприкосновенными свои религиозные убеждения, и надобно сказать, что это сопровождается всегда некоторою узкостью взгляда. Надобно пройти через период безверия, чтобы вполне понять, что может дать одна наука, и чем нужно ее восполнить для удовлетворения высших потребностей человеческой природы. Только собственным внутренним опытом можно понять смысл отступления от установленных догматов и правил; только этим путем можно выработать в себе истинную терпимость и приучиться не смешивать безверия с безнравственностью; наконец только прошедши через отрицание, можно вполне сознательно возвратиться к религиозным началам и усвоить их с тою шириною понимания, которая способна совместить в себе требования разума и стремления веры. Впоследствии я к этому и пришел, убедившись по собственному внутреннему опыту в глубоком смысле изречения великого мыслителя: «Немного философии отвращает от религии, более глубокая философия возвращает к религии». Каким путем это совершилось, расскажу ниже; но на первых порах я, конечно, был от этого весьма далек. Мне предстоял выбор между двумя видами убеждений, религиозными и научными, и я со свойственною юношам решимостью и уверенностью в собственных силах, сбросил с себя все свои вынесенные из младенческих лет верования, как устарелый балласт, и смело вступил на путь чисто научного познания, доводя отрицание до крайности, со всем пылом неофита. Я даже с Грановским вел спор о будущей жизни. Он говорил, что никогда так не чувствовал потребности загробного существования, как на могиле друга, когда невольно думаешь: «Неужели эти останки для тебя все равно, что эта бутылка?» Но я все это отвергал как фантазии и утверждал, что совершенно достаточно одних воспоминаний. До чего доходила моя юношеская самонадеянность, можно видеть из памятного мне разговора с Магзигом. Однажды мы вместе с ним гуляли по караульскому парку, который он разбивал. Вдруг, среди разговора, он остановился и сказал мне: «А знаете ли, Борис Николаевич, какая это высокая мысль: у меня есть покровитель!» Я немедленно отвечал ему: «Такая же высокая мысль: у меня нет покровителя; я стою на своих ногах и опираюсь только на себя». Боже мой! как скоро жизнь научает человека, что он сам по себе не более как прах, который может быть снесен всяким случайным дуновением ветра, и убеждает его, что одна только надежда на высшую помощь дает ему силы для совершения своего земного пути! Нельзя, однако, не сказать, что это сознание юной мощи имеет в себе что-то увлекательное. Борг говорил, что он невысокого мнения о человеке, который не был республиканцем в двадцать лет и который остался республиканцем в сорок. Почти то же можно приложить и к религиозным убеждениям. Человеку, по крайней мере, нашего времени естественно быть неверующим в молодости и снова сделаться верующим в зрелых летах.
Научный интерес поддерживался и возбуждался в нас постоянными сношениями с любимыми профессорами. С Грановским мы виделись часто; он бывал у нас в доме на дружеской ноге, и мы нередко у него обедали. Он любил собирать у себя за обедом студентов, которые его интересовали. Он беседовал с ними, как с себе равными; разговор всегда был умный и оживленный, касающийся и науки, и университета, и всех вопросов дня. У него, между прочим, мы познакомились с Бабстом, который был тогда словесником 4-го курса, а также с весьма умным и образованным юристом 4-го курса Татариновым, впоследствии профессором Ярославского лицея, к сожалению, рано погибшим от излишнего кутежа. Грановский сам повез нас к Редкину и Кавелину. С Редкиным я особенно сблизился к концу курса, когда он пригласил меня приехать к нему для составления программы по юридической энциклопедии. В личных беседах он еще более, нежели своими лекциями, сообщал мне свое философское одушевление, и я тогда же решил, что непременно, при первой возможности, займусь философией. У Кавелина по воскресеньям всегда собиралось много студентов, которым он задавал разные работы по истории русского права. В этих разговорах с собиравшеюся около него молодежью всего более проявлялся собственный его юношеский пыл, нередко увлекавший его в крайности. Друзья называли его «вечным юношей», а противники «разъяренным барашком», вследствие курчавой его головы. Хотя он и подчинялся влиянию Грановского, но по своей натуре он скорее готов был следовать за более радикальными увлечениями Герцена и Белинского. «Какое дело французскому народу, будет ли Гизо или Тьер первым министром? – говорил он нам однажды, – французская демократия имеет совсем другие требования и цели». От Грановского мы никогда не слышали ничего подобного; сочувствуя демократическим стремлениям, в которых он видел будущее, он понимал однако серьезное значение политических вопросов дня. Но именно эти увлечения Кавелина возбудительно действовали на молодежь, тем более, что они подкреплялись большим сердечным жаром и безукоризненною нравственною чистотою.
Профессора руководили и нашим чтением, ибо слушание лекций считалось только пособием к настоящим серьезным занятиям. Времени для чтения было достаточно, ибо я скоро приучился записывать лекции, так что не нужно было даже их перечитывать дома, а писец свободно мог списывать их для товарищей. Таким образом, все вечера были свободны. По части истории я прочел «Всемирную историю» Шлоссера. На вакацию Грановский дал мне Нибура, которого я изучал, читая в то же время по-латыни Тита Ливия. Прочел я также «Юридическую энциклопедию» Неволина, а по истории русского права почти все, что тогда было написано: Эверса, Рейца, «Речь об Уложении» Морошкина, диссертацию Кавелина[122]122
«Основные начала русского судопроизводства в период времени от Уложения до Учреждения о губерниях». М., 1844.
[Закрыть], появившуюся именно в этот год первую диссертацию Соловьева[123]123
«Об отношениях Новгорода к великим квязьям». М., 1845.
[Закрыть]. Вместе с тем я знакомился с самими памятниками, начиная от Русской Правды и до Уложения. Последнее было в сущности не по силам студенту первого курса, но я приучился рыться в источниках и видеть в них первое основание серьезного изучения науки.
С первого курса завязались и те товарищеские отношения, которые составляют одну из главных прелестей университетской жизни и которые сохраняются навсегда, как одна из самых крепких связей между людьми. Из наших однокурсников самым близким мне приятелем остался сын тогдашнего московского генерал-губернатора, князь Александр Алексеевич Щербатов, человек, которого высокое благородство и практический смысл впоследствии оценила Москва, выбрав его первым своим городским головою при введении всесословного городского управления. Недаром она на нем остановилась; она нашла в нем именно такого человека, который способен был соединять вокруг себя все сословия, русского барина в самом лучшем смысле, без аристократических предрассудков, с либеральным взглядом, с высокими понятиями о чести, неуклонного прямодушия, способного понять и направить практическое дело, обходительного и ласкового со всеми, но тонко понимающего людей и умеющего с ними обращаться. Знающие его близко могут оценить и удивительную горячность его сердца, в особенности редкую участливость ко всему, что касается его близких и друзей. Его дружба – твердыня, на которую можно опереться. Когда мне в жизни приходилось решать какой-нибудь практический вопрос, особенно требующий нравственной оценки, я ни к кому не обращался за советом с таким доверием, как к Щербатову. Неизменно дружеские отношения сохранились и с добрейшим, невозмутимо спокойным Петром Талызиным, неразлучным моим товарищем в следовавший за университетом период светской жизни, а также и с умершим уже, тихим и кротким Михаилом Полуденским, сделавшимся впоследствии известным некоторыми библиографическими трудами. Но всего более я сошелся в то время с Алябьевым, братом известной красавицы Киреевой. У него умственные интересы были живее, нежели у других; он меня очень полюбил, и мы скоро с ним сблизились. Он умер в первый же год по выходе из университета. На одном курсе с нами был и Капустин, с которым я впоследствии был товарищем по кафедре. Сблизился с нами и матушкин сынок Благово, над которым, несмотря на дружеские отношения, мы нередко потешались. Товарищеские отношения завязывались и с студентами других курсов и даже факультетов. В особенности брат мой сошелся с вступившим одновременно с нами на математический факультет Корсаковым. Он был малый пустой, но не глупый, очень живой, веселый, отличный товарищ, любивший покутить, потанцевать, петь цыганские песни.
На нашем курсе по совершенно ничтожному случаю образовался как бы отдельный кружок. Лекции длились иногда часов пять сряду, и мы голодали. Для утоления аппетита мы бегали есть пирожки в находившуюся против университета кондитерскую Маттерна; но, наконец, это нам надоело, и мы согласились человек шесть или семь, в промежуточное между лекциями время, по очереди приносить для всей братии пирожки от Маттерна в самое здание университета, в так называемый гербариум. Тотчас пошла молва, что у нас образовался аристократический кружок, держащий себя особняком. Грановский счел даже нужным нас об этом предупредить, говоря, впрочем, что это больше относится к моему брату, нежели ко мне, хотя правду сказать, я никогда не замечал, чтобы мой брат держал себя иначе, нежели другие. Люди с одинаковым воспитанием естественно сходились друг с другом скорее, нежели с другими, но мы скоро перезнакомились со всем курсом и до конца были со всеми в добрых, товарищеских отношениях.
Через товарищей мы несколько познакомились и с московским большим светом. Корсаков ввел нас в дом своих родителей, которые в то время часто давали балы и вечера. Это была семья совершенно на старый московский лад, никогда не прикасавшаяся к умственной сфере, но радушная, гостеприимная, безалаберная, любившая прежде всего веселье. Дом их у Тверских ворот, ныне принадлежащий Строгановскому училищу, был всегда полон родными, гостями, приживалками. Постоянно были танцы, а на святки хозяева задали огромный маскарад, на котором ими устроена была большая кадриль: человек с тридцать, мужчины и дамы, одетые в старое русское боярское платье, с песнями вели хоровод. Мы с братом участвовали в этой кадрили. На следующую зиму опять был такой же маскарад, в котором мы также участвовали. На этот раз устроена была ярмарка, где всевозможные лица продавали всевозможные вещи. Все эти непрестанные веселья, эти происходившие в доме затейливые празднества привели, наконец, к тому, что, при полной беспечности стариков, довольно значительное их состояние ушло сквозь пальцы, и они кончили жизнь в совершенной бедности.
Нас в это время приласкала и другая московская семья, гораздо высшего разбора. На Малой Дмитровке, в прелестном доме, с большим садом, жили Соймоновы, которые со старым московским радушием соединяли утонченное изящество форм. Балов они не давали, но каждый вечер в их гостиную съезжались и светские люди, а иногда ученые и литераторы. Ласковость и приветливость хозяев делали то, что все у них чувствовали себя свободными; разговор всегда был оживленный; все в этой гостиной дышало какою-то сердечною теплотою. Старик Александр Николаевич, отец известного С. А. Соболевского, был совершенный маркиз XVIII века, с утонченными манерами, всегда веселый и живой. Он до 70 лет каждый день ездил верхом по московским улицам. Жена его Марья Александровна, рожденная Левашова, высокая, стройная, до старости носившая печать прежней красоты, была олицетворением сердечной чистоты и невинности. Умною и приятною собеседницею была замужняя дочь Сусанна Александровна Мертваго. Но красой семьи была другая, незамужняя дочь, уже довольно пожилых лет, Екатерина Александровна, женщина умная и образованная, с отличным сердцем, с приятным светским разговором, прекрасная певица. Зато в семье был и урод, именно сын, который в одно время с нами вступил в университет, на словесный факультет. Он был от природы слабоумный, что выражалось в его завостренной голове и только неусыпным попечением родителей мог кое-как протащиться через университет. Родителям хотелось сблизить его с нами, почему они нас особенно ласкали; но нам он ужаснейшим образом надоедал. Дело доходило до того, что иногда, когда он приезжал к нам вечером, мы тушили свечи и от него прятались; но он не унимался и шел в гостиную разговаривать с матерью. Волею или неволею приходилось идти на помощь и по целым вечерам выслушивать его глупую болтовню.
Алябьев ввел меня и в дом своей сестры, известной своею красотой и ухаживанием за нею государя. В это время она уже была не первой молодости и довольно полная; ее красотою я никогда не пленялся. Но она любила в своей гостиной соединять ученых и литераторов и сама желала блистать своим образованием. Однако, это ей мало удавалось, ибо ум далеко не соответствовал претензиям. Были, конечно, литераторы и светские люди, которые охотно падали к ногам великосветской красавицы, пользовавшейся милостями царя. При мне на одном из ее вечеров Загоскин читал какое-то свое произведение. Но, вообще, она больше была предметом забавных анекдотов. Про нее говорили, что сотворивши ее, бог сказал: «Tu seras belle, mais tu parleras geologic».[124]124
«Ты будешь красавицей, но ты будешь толковать о геологии».
[Закрыть] Рассказывали, как она описывала свое путешествие в Германию «avec Shelling a ma droite, Schlegel a ma gauche et Humboldt devant moi»[125]125
«С Шеллингом с правой стороны, с Шлегелем с левой, и Гумбольдтом впереди меня».
[Закрыть].