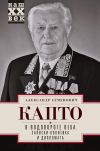Текст книги "Воспоминания. Том 1. Родители и детство. Москва сороковых годов. Путешествие за границу"
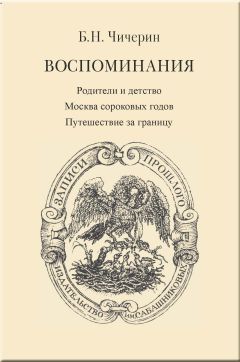
Автор книги: Борис Чичерин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 42 страниц)
Не могу не упомянуть и о весьма хорошем учителе Закона Божьего Якове Петровиче Бондарском. Он был преподавателем в гимназии, человек умный, несколько хитрый и строгого вида. Нравственного авторитета он не имел, но учил ясно и толково, без излишних подробностей и разглагольствований. Воспитанные в благочестии, мы внимательно следили за его уроками и прошли весь гимназический курс так, что по приезде в Москву мы могли ограничиться повторением. И эти уроки не остались только достоянием головы, они становились правилами жизни. Мы с глубокою верою исполняли обряды церкви. Неделя говения в особенности посвящалась благоговейному чтению Евангелия и Библии, значительную часть которой я прочел в эти годы.
Отличный также у нас был учитель физики Феоктист Яковлевич Смирнов, назначенный в тамбовскую гимназию из воспитанников Петербургского педагогического института. Преподавание его было живо и ясно, по учебнику Ленца. Я хорошо знал физику, вступая в университет. Что касается до математики, то эту науку преподавал нам приезжавший к нам на лето студент Московского университета Василий Григорьевич Вязовой, человек, близко стоявший к нашей семье от самых ранних лет и до своей смерти.
Он был сын тамбовского извозчика, отлично учился в уездном училище и вышел первым учеником. Николай Федорович Стринев-ский, который ездил с его отцом, заинтересовался мальчиком, брал его к себе на лето в деревню и рекомендовал его моему отцу, на иждивение которого он вступил в гимназию. С тех пор он стал ходить к нам почти ежедневно по вечерам, по окончании гимназических уроков. Он был несколькими годами старше меня, но мы скоро сделались товарищами. Его живой и восприимчивый ум, его чистая и благородная натура, его веселый нрав и мягкий характер так нас к нему привязали, что, когда Вася Вязовой не приходил вечером, мы все были в огорчении. Особенно я, как старший и более подходящий к нему по летам и по вкусам, жил с ним душа в душу. Можно сказать, что он был первым и главным другом моего детства. Пока мы были малы, он тешил нас всякими играми, сам с нами забавлялся и очаровывал нас, рассказывая сказки, которых он знал множество. Особенно ласкало мою детскую гордость, когда он рассказывал сказку мне одному и никому другому. Мы с ним забивались в какой-нибудь темный угол, и тут мое воображение услаждалось рядом фантастических образов, которые уносили меня в волшебный мир. Когда же он был недоволен какою-нибудь детскою шалостью, он из сказкорассказца превращался в несказкорассказца, и это было самое чувствительное для нас наказание. Позднее, когда я стал уже подрастать, любимейшими минутами были для меня те, когда нас отправляли спать, а он, бывало, сядет на мою кровать и начнет мне рассказывать о гимназии, об учителях, о товарищах, о науках, которые они проходили. Это называлось у нас новыми свиданиями. Мы вместе с ним читали русских поэтов: Жуковского, Пушкина, Батюшкова; у него было живое чувство и поэзии и природы. Когда же я познакомился с латинскими классиками, которыми он восторгался так же, как и я, мы сообщали друг другу свои впечатления. Особенно он любил Горация. Когда он по окончании гимназического курса поехал в Москву для вступления в университет, он оставил мне на память свой экземпляр стихотворений этого поэта.
Отец мой дал ему средства и для продолжения учения. Сперва он вступил в Медицинскую академию, имея в виду зарабатывать себе впоследствии кусок хлеба, но по своей нервной натуре он не мог выносить разрезывания трупов, да и в медицине, как она тогда преподавалась, он видел больше шарлатанства, нежели научных оснований. Вследствие этого он перешел в университет на математический факультет. В эту пору он стал приезжать к нам на лето в деревню для преподавания математики. Прерванная наша детская дружба возобновилась. Он был нам и учителем и товарищем. Преподавал он превосходно: живо, ясно, последовательно. Математика сама собою укладывалась нам в голову. А между тем он возбуждал наш интерес рассказами про университет и был постоянным участником всех наших прогулок и забав. Ему самому было привольно в деревенской жизни, среди ласкающей его семьи. Когда же к этому присоединялся приезжавший к нам на лето Измаил Иванович Сумароков, которого Василий Григорьевич также любил и ценил как своего бывшего гимназического учителя и который сам по своему настроению был еще полустудент, то тут составлялась уже такая веселая товарищеская компания, что лучшего нельзя было желать. Мы все гурьбой после завтрака отправлялись в вишни, наедались досыта, вместе купались, вместе ездили верхом. Одним словом, удовольствие было полное.
Как и многим другим, жизнь не дала Василию Григорьевичу того, что обещала молодость. Первым препятствием было плохое здоровье. Оно мешало ему держать экзамены как следует, и он окончил курс действительным студентом. Однако он этим не довольствовался, держал затем на кандидата и выдержал блистательно. Пристрастившись к химии, он в пятидесятых годах добился наконец места помощника лаборанта в химической лаборатории Московского университета, но прямая, благородная его натура никак не могла примириться с теми порядками, которые господствовали в то время в университете. Гибкости у него вовсе не было; подлаживаться он никогда не умел, а приходил в негодование от равнодушия и невежества состарившегося Геймана, от мелких проделок лаборанта Шмидта, от пошлости Гивартовского, от претенциозной слащавости Лясковского. Анекдотам не было конца, и он рассказывал их даже с некоторым остервенением. Наконец он оставил свое место и кинулся в педагогию, к которой всегда чувствовал большую наклонность. В нашей семье учить было уже некого, ибо все мы тогда были взрослые. Он поступал домашним учителем в разные дома, но и для этого требовалось более гибкости характера, нежели сколько у него было. Он бросил и это поприще и уже после смерти моего отца приехал к нам в деревню с целью заняться сельским хозяйством, надеясь тут найти приложение своим знаниям по естественным наукам. Он снял у нас клочок земли на аренду и предался этому делу со всем увлечением своей пылкой и вместе усидчивой и трудолюбивой натуры. Заведенное им табачное производство, доселе приносящее отличный доход и помещику, и работающим на нем крестьянским подросткам и бабам, осталось памятником тогдашней его деятельности. Но ему она не пошла впрок. В сельском хозяйстве мало иметь общие теоретические знания, мало даже хлопотливого труда; нужен еще расчет, а именно в этом у него был полный недостаток. Вся деятельность уходила на разные выдумки и затеи, не приносившие никакой пользы. Наконец он отказался и от сельского хозяйства и снова обратился к педагогии, сделался учителем в тамбовской женской гимназии и в институте, пока плохое здоровье не принудило его выйти в отставку.
В это время он приютился в семье моего второго брата Василия и с нею переехал на жительство в Петербург, когда старший сын поступил в университет. По своей впечатлительности он сначала пришел в восторг от петербургской жизни, от господствующих всюду чистоты и аккуратности, неведомых в провинции и даже в Москве. Он пользовался тут и научными пособиями, несколько лет сряду постоянно ездил в Публичную библиотеку и рылся в книгах. Но и эта фаза его жизни не была продолжительна. Петербургская сфера, в которой вращалась семья брата, слишком мало приходилась ко всем его понятиям и привычкам; на молодых людей его естественно-историческая проповедь не оказывала никакого влияния, да и делать, в сущности, было нечего, а ему деятельность была необходима. Он вернулся в Тамбов, где на свои трудом нажитые сбережения купил маленький домик в захолустье. Там он окончательно поселился, намереваясь заняться выделкой пшеничного крахмала и продажею молока от приобретенных им коров. До конца, однако, его продолжали преследовать всякие неудачи. Администрация запретила крахмальный завод под предлогом, что это нездоровое производство, которое не может быть допущено в черте города, хотя он доказывал, что все отбросы пойдут у него на корм коровам. Тогда он вместо крахмала вздумал делать медовые пряники и усердно занялся изучением этого ремесла, но оказалось, что для приобретения права на производство нужен экзамен в Ремесленной управе, а экзаменовать в Тамбове было некому, кроме какого-то пьянюшки из золотой роты. Василий Григорьевич принужден был ходить с ним в самые грязные трактиры и поить его водкой, и все-таки это ни к чему не повело. Хотя тот предлагал ему прямо подписать экзаменационный лист, но добросовестный ученик не хотел слышать о таком беззаконии. Тогда странный экзаменатор начал выкидывать такие штуки, что Василий Григорьевич наконец махнул рукой и отказался от производства медовых пряников, довольствуясь обработкой своего огорода и продажею молока.
Все эти неудачи в жизни значительно изменили его характер. Чистая и благородная душа осталась, но он несколько озлобился. Прежняя веселость исчезла и заменилась вынесенною из педагогической деятельности страстью читать наставления. К этому присоединилось ложное направление ума. Я на нем воочию увидел весь вред, который может принести человеку одностороннее занятие естественными науками. Страстный к своему предмету, он вообразил себе, что естественные науки представляют начало и конец всей человеческой мудрости, а естествоиспытатель – верховный судья всех человеческих отношений. От этого, разумеется, мог произойти только совершенно превратный взгляд на весь духовный мир. Все, что не подходило под точку зрения чистого и голого внешнего опыта, отвергалось как невежество и предрассудок. Самую математику, наперекор очевидности, он старался подвести под опытную методу – нелепость, в которую впадают, впрочем, и великие современные ученые. Вследствие этого ум, прежде открытый самым разнообразным впечатлениям и мыслям, сузился и покорился исключительной точке зрения, совершенно верной в известных пределах, но бросающей ложный свет на все то, что выходит из этой области. Самые педагогические его способности исказились: вместо даровитого преподавания, основанного на живом отношении к предмету, явилась искусственная теория, построенная на выводах современной опытной психологии, представляющей невообразимый хаос самых смутных и даже диких понятий. Отсюда произошло то, что ученики иногда перестали даже его понимать. А так как все эти странные и крикливые измышления представлялись ему высшим плодом новейшей науки, то к односторонности присоединилась необыкновенная самоуверенность. Он стал громить весь мир с точки зрения современного естествоиспытателя, что, разумеется, вызвало постоянные возражения, а это еще более его озлобляло, ибо он в несогласии с его взглядами видел упорное сопротивление высшим требованиям разума. Он ушел в себя, сделался угрюмым, нелюдимым, чудаком, сохраняя неизменное сердоболие только к животным, которых он любил воспитывать и с которыми всегда обращался с самою ласковою нежностью.
Уверившись в пустоте и суетности света, он к внешности стал питать полное презрение. Увлекаясь иногда видом опрятности и порядка в окружающей среде, он в собственной особе и в своей комнате доводил пренебрежение к этим качествам до крайних пределов. При этом, будучи химиком, он всегда возился с какою-нибудь стряпней, от которой порой воняло ужасно, и сердился на тех, кто не находил его противных фабрикаций превосходными. Маленького роста, исхудалый, с глубоко впалыми светло-серыми глазами, временами бросающими острый взор, с длинными всклоченными волосами и огромной бородой, доходившей почти до пояса, он своею наружностью и приемами напоминал образ сказочного колдуна, проникающего в самые сокровенные таинства природы и вечно занятого приготовлением чародействий.
При таких переменах в человеке наша юношеская дружба не могла сохраниться в прежнем виде. Между нами происходили постоянные, а нередко и раздражительные споры. Под старость, однако, и это сгладилось. Наученный опытом, я убедился, что споры совершенно бесполезны там, где люди не сходятся в основаниях, и перестал возражать. Приехавши случайно в Петербург летом, когда он оставался там один, я нашел его кротким, ясным, любящим, внимательным, каким он бывал в свои светлые минуты, когда отпадала нажитая кора и являлся вновь прежний Василий Григорьевич. Когда же он окончательно переехал в Тамбов и мне случалось останавливаться там проездом или по случаю земского собрания, я ежедневно навещал его в захолустье, из которого он почти не выходил. Мы мирно беседовали о естественных науках, которыми я занялся в последние годы, вспоминали иногда о старине. Он продолжал нести всякий вздор о психологии, которою он усердно занимался до конца, воображая, что, исследуя ее по естественно-историческому методу, он откроет в ней новые истины. Вместе с тем он рассказывал бесчисленные домашние хлопоты, наполнявшие весь его день, и с услаждением показывал свои маленькие изобретения. Мои посещения, видимо, были ему приятны. В своем добровольном затворничестве, при первобытной простоте обстановки, он похож был на какого-то древнего мудреца, который удалился от мира, постигши всю глубину премудрости и всю бездну человеческой глупости. Это имело бы даже некоторый вид величия, если бы в основании не лежали крайне односторонние научные взгляды, исказившие его от природы живой и открытый ум и обрекшие его на бесплодие.
Осенью 1891 года проездом через Тамбов я по обыкновению пошел его посетить и нашел его лежащим ничком на лежанке в полном расслаблении. Я убедил его лечь в постель, тотчас послал за доктором и навещал его каждый день. Доктор не находил ничего опасного, приписывая слабость господствующей инфлуенции. Он прописывал лекарства, которые Василий Григорьевич, полагаясь на свои медицинские сведения, выливал вон. Уговаривать его было напрасно, это значило только его сердить. Но так как опасности, по-видимому, не было, то я ехал спокойно, не воображая, что несколько дней спустя получу весть о его кончине. Служивший при нем дворник, вошедши в комнату вскоре после посещения врача, нашел его уже мертвым. Невыразимо больно было мне это известие о смерти первого друга моего детства. С ним как бы порывалась живая связь со всем прошлым, с самыми заветными преданьями семьи. Не могу без сердечной скорби вспомнить и о его одинокой кончине, в добровольном отдалении от любившей его семьи, с которою он прожил весь век, без утешений дружбы и религии, в мелочных хлопотах о хозяйстве и в пустых занятиях фантастической психологией. Он жил и умер жертвою одностороннего естествознания.
Из бесед и споров с Василием Григорьевичем я вынес некоторое знакомство с взглядами и приемами естественных наук, к которым и сам в молодости чувствовал большое влечение. Любя природу всем своим существом, я любовался бесконечно разнообразными ее произведениями и жаждал их изучить. Одно время у меня развилась страсть к птицам, и я несколько лет только ими и бредил. Затем появилась страсть к жукам, и я в свободные часы только и делал, что ловил их, накалывал на булавки, расправлял, определял и составлял коллекцию, которая поныне у меня существует. Одною из блаженнейших минут моей молодости была та, когда я, будучи уже студентом в Москве, на свои небольшие деньги купил ящик с бразильскими жуками. Я не мог наглядеться на этих никогда еще не виданных мною животных, сияющих удивительным блеском, с самыми разнообразными и причудливыми формами. Эта страсть сохранялась у меня довольно долгое время, до самого отъезда за границу, когда другие занятия окончательно увлекли меня в иную сторону. Но и в зрелые лета я с наслаждением занимался изучением животного мира.
Любовь к птицам соединялась у меня с страстью к рисованию, которою я одержим был с самых малых лет. Я постоянно что-нибудь чертил или копировал карандашом. Видя мою охоту, родители во время поездки в Петербург в 1838 году пригласили рисовального учителя, и эти уроки были для меня источником бесконечных наслаждений. Меня возили также в Эрмитаж и Академию художеств, где в то время стоял «Последний день Помпеи». Один из приятелей Брюллова, Дмитрий Васильевич Путята повез нас в мастерскую знаменитого художника, который работал тогда над своим «Распятием». Всем этим я наслаждался от души. Картины Брюллова произвели на меня такое глубокое впечатление, что оно не изгладилось и поныне. Я весь погрузился в этот совершенно новый для меня мир и почти ни о чем другом не думал, как о рисовании. Однажды у меня навернулись слезы, когда при мне Д. В. Путята сказал, что со временем мне надобно приехать учиться в Академию.
С выездом из Петербурга эти впечатления несколько ослабли. Я перестал думать об Академии и потерял из виду своего учителя. Но сорок лет спустя однажды Григорович, показывая свой музей, предложил мне съездить посмотреть их школу, сказав, что ее покажет мне заведующий ею Михаил Васильевич Дьяконов. «Как, Михаил Васильевич Дьяконов! – воскликнул я. – Да это был мой учитель рисования около сорока лет тому назад». Я, разумеется, немедленно туда полетел и нашел старика, уже совершенно белого, но с весьма памятными мне чертами. Он обрадовался бывшему ученику, которого имя было ему хорошо известно из литературы. Мы вспомнили с ним старые годы и юношескую мою страсть к рисованию.
Эта страсть не прекратилась, впрочем, и по возвращении в Тамбов. Здесь приглашен был учитель рисования Семен Львович Шубин, и я всегда с радостным трепетом ожидал этих уроков. Я все боялся, как бы Семен Львович по нездоровью не манкировал, и когда приближался час, высматривал в окно, не показываются ли издали знакомые дрожки на столбиках, без рессор. Мое нетерпение увеличивалось еще оттого, что именно в это время с страстью к рисованию соединилась зародившаяся во мне охота к птицам. Мне непременно захотелось нарисовать всевозможных птиц с натуры акварелью. Сначала я составил себе альбом в маленьком виде, но потом это показалось мне слишком ничтожным, и я завел себе большой альбом, в который срисовывал маленьких птиц в натуральную величину, а больших в уменьшенном виде. В течение нескольких лет я нарисовал их около сотни; они поныне у меня еще целы, как памятник моих юношеских увлечений. Отец выписал мне книгу о птицах в издании «Jardin des Plantes»[100]100
Ботанический сад.
[Закрыть]; я жадно изучал ее и старался всячески добывать птиц не только живых, но хотя бы и мертвых. У меня всегда было их множество, и в клетках, и на свободе. В базарные дни, особенно весною, с каким волнением выглядывал я в окно в ожидании, не принесет ли мне посланный на рынок человек какую-нибудь новую птичку в клетке! Каким я исполнился восторгом, когда мне однажды принесли подстреленную сизоворонку! Я не мог наглядеться на ее красивые зеленовато-голубые перья и тотчас же принялся рисовать ее во всех подробностях. По целым часам любовался я и ласточками, которые вили гнезда в окнах кабинета моего отца. Но никогда я не испытывал такого душевного трепета, как однажды, когда, сидя весною за городом на берегу реки, я вдруг увидел две летящие совершенно неизвестные мне птицы: большие, красные, с полосатыми белыми с черным крыльями. Федор Иванович сказал мне, что это удоды, и я с тех пор все мечтал о том, как достать и нарисовать удода. Я увидел их опять в Карауле, гонялся за ними, стараясь поймать их в сети, но, увы, все мои старания остались напрасны: так-таки я удода не получил и мог только издали любоваться его красивыми перьями и великолепным хохлом.
Семен Львович поддерживал во мне эту страсть, ибо сам был большой охотник до птиц. Но у него была страсть специальная: он был отчаянный любитель петушьих и особенно гусиных боев. С этой целью он держал у себя и воспитывал отборных петухов и гусей. Во время битвы, на которую всегда собиралось множество охотников, он впивался взором в своих любимцев и тогда уже забывал и себя и все на свете. Нам он с увлечением рассказывал об их подвигах. Гусь в особенности был для него первою птицею в мире; он с негодованием говорил о людях, которые, ничего не понимая, предпочитают ему лебедя, тогда как лебедь по красоте стана в подметки гусю не годится. Он привозил мне своего любимого петуха, а также знаменитого гусака – победителя во многих битвах, и я обоих срисовал в свой альбом.
С удовольствием вспоминаю я эти невинные восторги, которые наполняли мою душу в блаженные годы детства. От страсти к птицам осталось у меня то, что я издали, по полету и по голосу, узнаю почти каждую птицу, обитающую в наших краях, а когда слышу пение или крик, мне неизвестные, мне непременно хочется узнать, от какого существа они происходят. Я люблю, чтобы всякий звук в природе был мне знаком.
Страсть к живописи также оставила по себе следы. По вступлении в университет я бросил рисование, потому что время поглощалось другими занятиями. Впоследствии я не раз опять за него принимался, но всякий раз видел, что для того, чтобы достигнуть хотя несколько удовлетворительного результата, нужно употребить гораздо более времени, нежели скольким я мог или хотел располагать. Не сделавшись сам художником, я стал любителем и собирателем гравюр и картин, а это доставило мне много приятных минут в жизни. Жемчужников говаривал отцу, что у него в доме недостает двух хороших картин на стенах гостиной. Ныне в этой гостиной висит их двадцать, да и в других комнатах более сорока, большею частью старинных мастеров, некоторые первоклассных: Веласкес, Веронезе, Рибера, Ливене, ВанТойен. Живя в деревенском уединении, я брожу по дому, любуясь этими произведениями и услаждаясь мыслью, что они служат новым украшением отцовского жилища. Сколько отрады доставило мне и собирание гравюр первоклассных художников: Марк-Антония, Дюрера, Рембрандта, Бергема и других! Составленное в течение многих лет драгоценное собрание не мне одному служило и будет служить источником самых чистых и возвышенных наслаждений.
Одержимый с младенчества страстью к рисованию, я не имел ни малейшей наклонности к музыке. Однако меня учили и этому искусству. Лишенный от природы тонкого слуха, я тем не менее старательно стучал по фортепьянам и приобрел даже в этом отношении некоторую легкость. Учился я тем охотнее, что любил своего музыкального учителя. Это был маленький старичок, плешивый, с ввалившимися вследствие потери зубов губами и выдающимися по той же причине носом и подбородком. Звали его Карлом Федоровичем, или, правильнее, Карлом Венцеславичем Пеликаном. Он был поляк и католик, родной брат того известного доктора Пеликана[101]101
Пеликан Венцеслав Венцеславович (1790–1873), будучи ректором Виленского университета (1826–1830), усилил надзор за подозреваемыми в либерализме студентами и профессорами через открыто поощряемое доносительство и полицейскую слежку. Это было одной из причин широкого участия польского студенчества в восстании 1830–1831 гг.
[Закрыть], который во время виленской истории был ректором Виленского университета и потом занимал видное место в Петербурге. Карл Федорович одно время ездил даже в Петербург и жил у брата; но там ему не полюбилось, и он вернулся в свой милый Тамбов, где поигрывал на скрипочке и учил музыке одно поколение за другим. Он был учителем моей матери, а затем учил и всех нас, не только в городе, но и приезжая на лето в деревню. Добродушия он был непомерного, боялся всего и всех, но с этим соединялась детски наивная веселость: он всегда отпускал самые невинные шуточки и рассказывал все те же повторяющиеся анекдоты. Тенкат своими яростными выходками в особенности нагонял на него страх. В Карауле его комната приходилась как раз против классной, а так как Тенкат выходил из себя, когда не было сквозного ветра, то во время его урока Карл Федорович, хотя это был час его собственного отдохновения, заранее отворял настежь двери и окна, а сам убегал в лес.
Мы с ним жили друзьями, постоянно подшучивая и с ним и над ним. Особенно в позднейшее время, когда я уже был студентом и перестал брать у него уроки, а он продолжал приезжать к нам на лето для младших братьев, я часто над ним потешался, и он всегда принимал это с величайшим благодушием. Поводом к обличениям обыкновенно служило его чтение, во время которого он нередко спал, но ни за что не хотел в том признаться. Главною же темою острот была страсть, которую будто бы питали к нему, с одной стороны, его толстая и старая хозяйка госпожа Малина, у которой он жил и которой он смертельно боялся, а с другой стороны, столь же толстая и старая прачка по имени Варвара Савельевна, которая мыла ему белье и тоже держала его в руках. Я рисовал с него карикатуры, составлял его жизнеописание в лицах, а иногда устраивал даже целые комедии в нескольких действиях.
Однажды, по прибытии почты из Тамбова, я на клочке грязной серой бумаги первобытным почерком написал ему любовное письмо от означенной прачки. Свернув кое-как и запечатав пальцем, я послал ему то письмо с братом Андреем, как будто оно было привезено почтарем. Я думал, что старик тотчас догадается, но вижу: мой Карл Федорович ничего не говорит, а только ходит ухмыляясь. Я к нему с вопросом: «Чему Вы так радуетесь, Карл Федорович?» – «Так я получил письмо из Тамбова». – «Верно, от Варвары Савельевны?» – «Нет, нет, это письмо от Брандта, который зовет меня играть квартет. Я смеюсь разным его штучкам». Видя, что он не догадался, я научил Андрея, чтобы он после обеда, когда все были собраны, вдруг выступил и сказал: «А Карл Федорович получил сегодня письмо от Варвары Савельевны». Тот был совсем ошеломлен этим неожиданным открытием. Сначала думал было отнекиваться, но Андрей, наставленный мною, объяснил, что письмо было плохо свернуто, и, взглянувши в щелку, он увидал подпись. Я тогда на него накинулся: «Как же Вы мне сказали, что получили письмо от Брандта? Вот какие у Вас квартеты! Это Вы переписываетесь с своею прачкою! Верно, какое-нибудь сердечное послание, если Вы не хотели признаться?» – «Нет, я не хотел Вам говорить, потому что она просит у меня денег, а я не желаю, чтобы об этом знали». – «Как же она Вам пишет? Наверное: «Мой милый Карлуша!» (так действительно было написано в письме)? – «Как это можно, она пишет ко мне, как к какому-нибудь сеньору». – «Не может быть, покажите письмо!» – «Я письмо изорвал, потому что не хочу, чтобы после моей смерти знали о моих благодеяниях». Постой же, подумал я, я тебя обличу. Подразнивши его немного, я замолчал, и Карл Федорович начал уже шутливо журить Андрея за то, что он подсматривает чужие письма. Но ему готовился новый сюрприз. На следующий день я написал совершенно такое же письмо, на такой же бумаге и тем же почерком и, гуляя с ним, вдруг вынул из кармана этот дубликат и показал ему, говоря, что я у него письмо утащил. Он в ужасе хотел вырвать бумагу из моих рук, но я не дал и начал громко кричать: «Мой милый Карлуша!» Тут мой старик совсем растерялся и отчаянным голосом возопил: «Я не понимаю, что с нею сделалось!» Я и сам смутился при виде такого совершенно неожиданного действия моей шалости и стал его успокаивать, объясняя, что письмо писано вовсе не его прачкою, а мною, но он уже ничего не слушал и продолжал только восклицать: «Я не понимаю, что с нею сделалось!» Насилу я мог ему втолковать, что все это было моею собственной выдумкой. А на следующий день он сам добродушно подшучивал над моею проказою. «Ведь что он придумал, – говорил он ухмыляясь. – Эта старая чертовка Малина! Точно в самом деле от Варвары Савельевны!» И он был прав, что на меня не сердился, ибо, давая волю своему ребячеству, я все-таки его искренно любил за его доброту и писал ему иногда в шутливом тоне дружеские письма, на которые он отвечал выражением сердечной благодарности.
Таким образом, если уроки музыки не послужили мне в пользу, то они были поводом к проявлению юношеской веселости, от которой спустя много лет не осталось и следа.
Наконец, в нашем воспитании не была забыта и физическая сторона. Отец настаивал на том, чтобы мы приобрели ловкость во всех телесных упражнениях. Нас рано посадили на лошадь, и мы в деревне ежедневно делали по десяти, по пятнадцати верст верхом. Тенкат выучил меня порядочно плавать, что для меня всегда было большим удовольствием. Фехтованию мы стали учиться уже в Москве, ибо в Тамбове не было фехтовального учителя. Но танцклассы начались с двенадцатилетнего возраста, и это был единственный урок, который, особенно на первых порах, был для меня истинным мучением. Я танцы считал ниже своего достоинства и ни за что не хотел учиться: на это я положил всю свою душу. Потому, когда я узнал, что приглашен был танцмейстер француз Коломб, я несколько дней ходил в мрачном унынии, так что мать, заметив это, старалась меня урезонить. Но я не внимал никаким увещеваниям; покоряясь внешним образом воле родителей, я внутренно возмущался против учиненного надо мною насилия. Я никак не мог понять, зачем меня хотят так тиранить, ибо я тут же решил, что никогда в своей жизни не буду танцевать.
Наконец настал роковой день, когда назначен был первый урок. С утра уже я был сам не свой, и чем ближе придвигался урочный час, тем более росло во мне тоскливое ожидание. С затаенным волнением смотрел я на все приготовления, которые имели для меня вид торжественности: на уборку и освежение комнаты, на зажигание стенных ламп, которых яркий свет возвещал что-то праздничное, в особенности же на приготовленные для нас легкие танцевальные костюмы, нарядную курточку, канифасные летние панталоны с розовыми и белыми полосками и с застегивающимся сзади лифчиком, длинные белые чулки, и, к довершению всего, низенькие, на тонких подошвах без каблуков башмачки с бантиком, непременная принадлежность танцклассов. Последние более всего приводили меня в смущение. Я глядел на них как на какое-то орудие пытки. Однажды в Петербурге меня хотели в них нарядить, но я так против них взбунтовался, что меня пощадили. Теперь же для трех братьев стояли тут рядом три пары, приготовленные для ненавистных танцев, и я с трепетом думал, что вот уже приближается минута, когда в этой, так мне казалось, приличной только для девочки обуви будут щеголять мои собственные злополучные ноги и я, как балетный плясун, должен буду выкидывать в них разные антраша. Множество разных образов роилось в моей голове. Мне живо припоминалось, как я недавно еще на летнем спектакле видел знакомого мальчика, сына тамбовского вице-губернатора, танцующего балетный pas de deux в каком-то пастушеском вестончике без рукавов, в желтых штанах по колена и в таких же точно белых чулках и маленьких башмачках, какие были тут приготовлены для меня и в которые через несколько минут мне предстояло облекаться. Меня ужасала мысль, что, как скоро я выучусь танцевать, пожалуй, и меня могут нарядить пастушком и заставить перед всеми плясать балет. Я тем более был уверен, что это непременно так будет, что я крепко помнил историю детского маскарада, на который, по наущению мадам Манзони, меня хотели везти одетого баском, в коротких штанах телесного цвета и башмачках с помпончиками. В то время беда миновала, но во мне засело неодолимое отвращение ко всем подобного рода костюмам, и теперь, когда приглашен был танцмейстер и мне предстояло наряжаться к уроку, все мои прежние страхи воскресли с новою силой. Я уже видел перед собою повторение детского спектакля: танцующую с шалью девицу и за нею себя в костюме балетного пастушка, с выставляющимися напоказ белоснежными икрами, с бантиками на плечах и в башмачках с помпончиками, порхающего на сцене и вместе со своею дамою становящегося в разные плясовые позы перед полным театром. Все это представлялось мне неизбежным последствием танцкласса, и я содрогался при мысли, что меня готовят к такому позору.