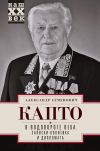Текст книги "Воспоминания. Том 1. Родители и детство. Москва сороковых годов. Путешествие за границу"
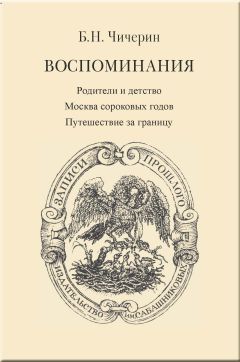
Автор книги: Борис Чичерин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 42 страниц)
Турин, как город, построенный совершенно в новом вкусе, разбитый на квадраты, однообразный и пошлый, представлял немного любопытного; но прогулки по окрестностям были очаровательны. Мне памятна особенно одна. В компании разных молодых дипломатов мы отправились с вечера пешком на близлежащую гору, где стоит монастырь Суперга; мы хотели оттуда смотреть на восхождение солнца. Самое уже ночное шествие представляло нечто волшебное. Вверху, на глубине прозрачно-темного южного неба, ярко сияли звезды, а внизу миллионы светящихся жучков, как живые бриллианты, летали во все стороны и садились на деревья, озаряя мрак своим фосфорическим блеском и придавая какое-то таинственное оживление упоительной неге итальянской ночи. Все это, однако, было ничто в сравнении с тем, что ожидало нас наверху. Когда мы после легкого отдыха взошли на крышу монастыря, нам представилось зрелище, какого я другого не видал. С одной стороны солнце вставало в полном блеске над расстилающейся вдали цепью снежных Альп, а с другой стороны надвигалась гроза. На темной туче блестела яркая, совершенно круглая радуга, которая прерывалась внизу лишь тенью от колокольни монастыря. Молнии зигзагами поминутно сверкали на заключенной в радуге черной пелене, гром грохотал непрерывно и после всякого удара на железной кровле слышался свист, подобный шипению воды, брошенной на раскаленную плиту. И все это: и небо, и монастырь, и окрестность, как бенгальским огнем освещалось красными лучами восходящего солнца. Мы стояли и любовались этою величественною и грозною картиною, пока дождь не заставил нас скрыться в монастырь. Когда же гроза миновалась и мы опять поднялись на крышу, мы увидели у ног своих всю равнину Пиэмонта, облитую светлыми лучами весеннего солнца; после живительного дождя в прозрачном воздухе носилось благоухание прелестного майского утра, а вдали, на синем небе рисовались снежные вершины величественных Альп. Я вернулся в полном восторге. Впечатления были так сильны, что даже общество дипломатов не могло им помешать.
Из Турина я через Геную поехал в Ниццу. После скучной, построенной по линейке столицы Пиэмонта, Генуя снова представила мне старый оригинальный итальянский город, с великолепными дворцами, полными картинных галерей, где особенно выдавались писанные Ван Дейком фамильные портреты старинных генуэзских вельмож. Я взобрался на крышу Кариньянской церкви[220]220
S. Maria di Carignano, построенная в 1552–1603 гг.
[Закрыть], и оттуда опять открылся передо мною очаровательный вид: сзади весь амфитеатр покрытых зеленью гор, на котором расположена гордая Генуя, спереди заставленная сотнями кораблей гавань, а за нею расстилающееся вдаль ярко голубое Средиземное море, которое тут в первый раз представилось моим взорам. Долго я любовался этим видом, и в другой раз вернулся, чтобы насладиться им снова.
В Ниццу я ехал для свидания с Дмитриевым, который в это время путешествовал за границею с великою княгинею Еленою Павловною. Когда был поднят вопрос об освобождении крестьян, и правительство еще колебалось насчет способа, как совершить это преобразование, великая княгиня захотела показать благой пример, освободивши крестьян в купленном ею малороссийском имении Карловке. Для этого ей нужен был секретарь, который бы понимал дело и мог вести переписку. Она обратилась к Кавелину, и он рекомендовал ей Дмитриева. Великая княгиня этот год зимовала в Риме; весною же она переехала в Ниццу, в то время принадлежавшую Пиэмонту[221]221
Впечатления от пребывания в Италии и в Ницце описаны Б. Н. Чичериным в письме к Л. Н. Толстому из Турина от 19 июня 1 июля 1858 г. (Письма Толстого и к Толстому, стр. 270–272).
[Закрыть].
Приехав поутру на пароходе, я отправился на виллу Бермон, где стояла Елена Павловна со своею свитою. Мы с Дмитриевым очень друг другу обрадовались; но после кратких расспросов о московских друзьях он объявил мне, что я тотчас должен идти к великой княгине, которая приказала, чтобы меня представили ей немедленно по приезде. Я извинялся своим утренним костюмом, но Дмитриев сказал мне, что на это у них не обращается никакого внимания, и я в летнем жакете и цветном галстуке отправился на первую в своей жизни аудиенцию у августейшей особы. Я так далек был от придворных сфер и так мало знаком был с господствующими в них обычаями, что, побеседовав около часа с великой княгиней, я сам встал и раскланялся. Уже после заметив некоторую неловкость, я догадался спросить, и тогда только узнал, что я показал себя совершенным невеждой в придворном этикете. Но несмотря на это, меня тут же пришли звать к обеду, потом удержали весь вечер, а когда я собрался уехать, мне объявили, что великая княгиня приглашает меня переехать к ней в пустой флигель на вилле Бермон на все время моего пребывания в Ницце. На следующий день я перебрался и тут прожил недели две. С тех пор я сделался близким человеком при дворе великой княгини, которая до самой своей смерти сохранила ко мне неизменно доброе расположение. Это тоже одно из хороших воспоминаний моей жизни.
Впоследствии я видел много дворов, но ничего подобного тому, что я нашел здесь, я не встречал. Великая княгиня одна умела воспользоваться всеми принадлежащими ей по положению средствами, чтобы сделать из своего двора умственный центр, где всякая придворная атмосфера исчезала, и где с изяществом форм сочетался живой обмен мыслей при полной непринужденности отношений. Чтобы достигнуть этого, без сомнения, нужно было обладать весьма высокими качествами. Елена Павловна была женщина необыкновенно ясного и твердого ума, с которым соединялись широкое образование и самые возвышенные чувства. Воспитанная в доме Кювье, где все было полно умственных интересов, она прибыла в Россию еще в царствование Александра I, когда образование высоко ценилось даже при дворе. К несчастью, ее просвещенные наклонности не сходились со вкусами ее мужа. Великий князь Михаил Павлович был человек весьма неглупый, добрый, любимый детьми; но его грубоватая натура не понимала и не ценила утонченных потребностей жены. Он предпочитал фронт и маршировку литературным занятиям и давал это чувствовать на каждом шагу. Случалось, что великая княгиня устроит у себя литературный вечер; великий князь придет, подсядет к какой-нибудь фрейлине, и вдруг так ее ущипнет, что та вскрикнет от боли; происходит всеобщее смятение, и чтение прерывается. Или он притворялся слушающим, и вдруг как будто засыпал от чтения и сваливался со своего стула. Разумеется, подобные выходки, повторяемые ежедневно и ежечасно, оскорбляли великую княгиню. Она раздражалась, и это отражалось на самом ее характере.
После смерти мужа она могла уже предаться своим наклонностям без всякого стеснения, устроить свою жизнь, как она хотела, и тут она явилась тем, чем была на самом деле, в спокойном величии возвышенной природы, чуждой всему мелочному, ищущей в жизни единственно то, что в ней есть высокого и привлекательного. Куда бы она ни приезжала, она тотчас приглашала к себе всех сколько-нибудь выдающихся людей. Государственные деятели, ученые, литераторы, артисты – всё собралось около нее, и все находили тут умственную пищу и удовольствие. Со всяким она умела говорить о том, что его интересовало, всякого умела поставить так, что ему было свободно и приятно. В маленьком кружке, в интимной беседе и в больших собраниях, она была одинаково приветлива, умна и занимательна. Я не раз любовался, с каким неподражаемым искусством она исполняла трудные обязанности высокопоставленных особ при больших приемах: с своею величавою осанкою она обходила всех и каждому говорила приветливое слово, никогда пошлое, а всегда умно и уместно. Никто также не умел, как она, устраивать большие вечера. В великолепных апартаментах Михайловского дворца происходили блестящие празднества и представления, о которых долго говорили. Тут соединялось самое разнообразное общество, являлись и царственные особы, и всякому она знала, чем угодить. И все это не было только поверхностным искусством светских людей, которые внешним блеском и умением ловко говорить обо всем часто прикрывают крайнюю бедность содержания.
Великая княгиня, действительно, живо и глубоко интересовалась всем: и наукой, и литературой, и искусством. Она любила и понимала музыку и часто устраивала у себя музыкальные вечера. Нередко она на досуге заставляла себе читать стихотворения Гете. Ученого она расспрашивала о его специальности, с тем, чтобы извлечь из него какое-нибудь полезное знание. Но главное, что ее привлекало, и это составляло предмет ее внимания, были вопросы политические. Ум ее, открытый для всего, был, однако, по преимуществу практический. Беседы о важных вопросах текущей политики составляли для нее высшее наслаждение. Со всем пылом горячей благородной души следила она и за происходившими в России преобразованиями, особенно за освобождением крестьян, которому она отдавалась вся и которое она считала жизненным для нас вопросом. Ее упрекали в честолюбии, в желании вмешиваться в государственные дела. Но для этого она была слишком умна. Она весьма хорошо понимала, что в ее положении всякое неуместное вмешательство могло бы только испортить дело и подорвать ее кредит. Вся ее политическая деятельность ограничивалась тем, что она умных и даровитых людей старалась сблизить с власть имущими. Она говорила, что у нас весьма важно, чтобы царствующие особы привыкали видеть известную физиономию, и она на своих вечерах производила такого рода сближения. Либеральная по убеждениям, разумеется, в весьма умеренных размерах, она старалась этим способом выдвигать стоящих на втором плане деятелей, от которых она ожидала пользы для России. Таковы были Н. А. Милютин, Черкасский.
Она и меня хотела выдвигать, но это был напрасный труд. «Я хотела бы, чтобы Вы сделались государственным деятелем», – сказала она мне однажды. «Нет никакого риска, чтобы я им стал», – отвечал я. При моих научных наклонностях и привычке к независимой жизни, я вовсе не желал менять ученое поприще, которое при всяких условиях могло наполнять жизнь человека, на зависящую от чужой милости и обуреваемую всякого рода интригами служебную карьеру. Общественная деятельность в широкой сфере могла мне улыбаться, но никак не восхождение по чиновной лестнице. Невозможность сделать из меня влиятельное лицо в государстве не ослабило, однако, всегдашнего благосклонного внимания великой княгини. В человеке для нее важно было не положение, а внутреннее содержание. И, со своей стороны, те, которым доводилось подходить к ней близко и узнать высокие качества ее души, ее постоянную доброту, ее готовность на всякую помощь, ее горячее участие к судьбе других, не только пленялись ее умом, но привязывались к ней сердечно.
Зато, с другой стороны, ее глубоко ненавидели все знатные пошляки, для которых способные и либеральные люди были бельмом на глазу. Не было грязных клевет, которые бы не распускались на ее счет из петербургской аристократической среды. Эта ненависть питалась и поддерживалась тем, что великая княгиня, насквозь понимая этих господ, сама их не жаловала. Обладая глубоким практическим смыслом, она имела удивительное знание людей. Как сильные, так и слабые их стороны не были от нее скрыты; она умела каждого оценить по достоинству и определить истинный его уровень. При этом она ценила не только ум и способность, но, главным образом, нравственную сторону, благородство убеждений, независимость характера. Живым примером ее взглядов на людей может служить сцена, которой я был свидетелем. Мне случилось быть в Петербурге в начале 1867 года, когда Замятин вышел из министерства юстиции, и граф Пален был намечен на эту должность. Палена сильно поддерживал Шувалов, который в то время был на вершине могущества и хотел окружить себя клевретами. Государь любил графа Палена и сам настойчиво уговаривал его принять должность министра; но последний отказывался, зная, что он вовсе к ней не подготовлен и считая себя неспособным ее занимать.
В это время великая княгиня, утомленная петербургскою светскою жизнью, вздумала поехать на несколько дней отдохнуть в Ораниенбаум и пригласила меня с собой. Однажды мы обедали втроем: великая княгиня, баронесса Раден и я. Баронесса Раден пришла к обеду с открытым письмом и с торжествующим видом. «Могу объявить вашему высочеству, – сказала она, – что граф Пален решительно отказался от должности министра юстиции». При этой вести великая княгиня вдруг залилась в три ручья. «Слава Богу! – воскликнула она, – еще один порядочный человек!» «Вы можете гордиться своими Балтийскими провинциями», – прибавила она, обращаясь к баронессе Раден. «Да, вчера я была унижена, а сегодня горжусь», – отвечала последняя. И когда на моем лице, по-видимому, выразилось некоторое удивление по поводу этой внезапной вспышки радости и этих слез, великая княгиня сказала мне: «Не удивляйтесь тому, что я это известие принимаю так к сердцу. Вы живете вдали от петербургских высших сфер и не имеете понятия о той степени низости, которая в них господствует. Когда случайно встретишь порядочные чувства, душа так и радуется». Слово: еще, которое вырвалось у нее при известии о благородном поступке графа Палена, относилось к тому, что незадолго перед тем Черкасский вышел в отставку, несмотря на настойчивые просьбы государя. Но Черкасский был независимый человек, а граф Пален чиновник, и на следующий день пришло известие, что он должность министра юстиции принял. Слух о том, будто в петербургских высших сферах случайно встретился порядочный человек, оказался ложным, и слезы радости были напрасны.
Из этого рассказа можно видеть, с каким горячим и благородным участием великая княгиня относилась к интересам своего русского отечества. Она глубоко скорбела о господствующем у нас раболепстве, о постоянной розни, о мелких интригах, наполняющих, как высшие, так. и низшие сферы. В этом отношении она иногда говорила, что русскому обществу полезна примесь немцев, которые лучше умеют за себя стоять и крепко сплочаются вместе. С сердечною болью отзывалась она и о господствующей у нас на вершинах любви к пошлости и рутине, о презрении к людям, о неумении ценить истинные заслуги. В последние годы ее жизни, при водворившейся у нас реакции, эти впечатления делались все сильнее и сильнее, и она с горечью отворачивалась от внутренней политической жизни, видя унижение всего, что ей было дорого, и чувствуя полное свое бессилие помочь чем бы то ни было.
Тем с большею горячностью принялась она за то дело, которое было у нее в руках, за устройство благотворительных заведений. Тут она была полная хозяйка и могла проявлять весь свой практический смысл. Она внимательно изучала всякое дело, вникала во все подробности, расспрашивала специалистов, осматривала за границею учреждения, подобные тем, которые она хотела основать в России, выбирала людей, умела их направлять, и сама, наконец, была вдохновляющим элементом всего предприятия. И ум, и энергия, и сердечное участие, все тут соединялось для достижения успеха. Ее учреждения останутся после нее памятником для потомства; но еще лучшим памятником остается воспоминание об этой возвышенной, изящной, благородной, горячей, истинно царственной личности в сердцах всех, кто знал ее близко. С памятью о великой княгине неразрывно связано имя верной ее фрейлины, баронессы Эдиты Федоровны Раден. Без нее двор Елены Павловны не мог бы быть тем, чем он был. Чтобы сделать из него умственный центр, чтобы сохранить в нем всегда возвышенную атмосферу, недостаточно одной владычествующей особы; надобно, чтобы и подчиненные лица умели поддержать общее настроение, а баронесса Раден разумела это вполне. Я скоро с нею сблизился, и между нами завязалась неизменная дружба, которая с годами только крепла и крепла. «Ваша дружба была и будет одной из радостей моей жизни», – писала она мне много лет спустя. С грустным и вместе сладостным чувством привожу эти драгоценные для меня слова.
О баронессе Раден никто, ни знавшие ее близко, ни даже только слышавшие о ней, не говорили иначе, как с глубочайшим уважением. Это была одна из самых чистых и возвышенных душ, каких я встречал на своем веку. Удивительно даже, как в петербургской придворной атмосфере могла сохраниться такая неизменная искренность и прямота побуждений, такое полное самозабвение, такое отсутствие всего мелочного. Она вся жила в какой-то возвышенной нравственной сфере, откуда она взирала на жизнь и людей, стараясь всегда уловить их лучшие стороны, и никогда не прикасаясь иначе, как с чувством негодования, к мелким человеческим дрязгам и суетным побуждениям. Во всяком ее слове выражалась спокойная обдуманность и глубокая задушевность; всякий ее поступок проникнут был чувством нравственного долга, который был неуклонным руководящим началом всей ее деятельности. С летами в особенности, эти внутренние, незыблемые основы ее нравственного бытия выступали все ярче. Все ее мысли были устремлены к вечному и неизменному.[…][222]222
Здесь опускаются выдержки из писем Э. Ф. Раден к Б. Н. Чичерину.
[Закрыть]
При таком глубоко-религиозном настроении, она в родном протестантизме усвоила себе лучшие его начала: жадное искание истины и пламенное стремление личной души к верховному источнику всего сущего, помимо всяких церковных установлений. Эти чувства она выражала иногда с удивительным красноречием. Это были звуки, вырывающиеся из глубины души и возлетающие к небу. […][223]223
Опускается отрывок из письма Э. Ф. Раден по поводу книги Б.Н. Чичерина «Наука и религия», в которой он «по ее мнению, недостаточно выяснил значение протестантизма для внутренней жизни человека».
[Закрыть]
Но проникнутая насквозь духом родного протестантизма, баронесса Раден понимала и другие стороны религиозной жизни. Ей совершенно чужды были протестанская узкость и исключительность. После зимы, проведенной в Риме, ее даже подозревали в наклонности к католицизму, до такой степени она горячо принимала к сердцу возвышенные черты католической религии, тот чистый энтузиазм и то радостное самозабвение, которые она умеет возбуждать особенно в женских душах.
«Я человек чрезвычайно терпимый, – писала она. – …Я испытываю искреннее и часто умиленное восхищение перед земным великолепием католических церквей, не когда касаются существа моей веры, то я чувствую в себе опять гугенотку и не боюсь никакой арке-бузады». Это была немецкая протестантская натура, расширенная русскою средою, в которой она провела всю свою жизнь, а также и постоянным общением с тою высокою личностью, которой она была предана всею душою. Она любила приводить весьма характеристические слова великой княгини: «Я благодарю бога за то, что была воспитана в протестантизме и затем вступила в религию, которая ставит человеческий разум на свое место».
Огромное влияние на баронессу Раден имел слишком рано умерший ее старший брат, которого она страстно любила. Он был главным деятелем во II отделении, при графе Сперанском, и по всем отзывам был человек весьма замечательный. От него она с ранней молодости получила любовь к мысли и живое участие ко всем умственным интересам. Образование у нее было разнообразное и обширное. Она много читала и умела ценить всякую книгу. Сила и возвышенность мысли и разнообразные оттенки чувства были ей равно доступны. Чуждая философским вопросам, она с участием следила за чисто логической аргументацией. Но особенно развит у нее был эстетический вкус. Все отрасли искусства: музыка, живопись, ваяние, поэзия, были ей поняты, не только внешнею, но преимущественно внутреннею своею стороною. Глубоко прочувствованное и изящно выраженное стихотворение приводило ее в восторг, и наоборот, всякое неверное чувство, всякое пошлое или резкое выражение оскорбляли ее чуткую душу. Сама она писала прелестно. Приведенные выше отрывки из ее писем могут служить тому доказательством. По ясности и изяществу слога, по глубине и возвышенности мыслей и чувств, по благородству тона, который в них господствует, иногда по меткости выражений, немногое может с ними сравниться. Ей случалось войти в письменные состязания с людьми не рядового ума и мастерски владевшими пером, как Ю. Ф. Самарин, и она не только им не уступала, но и возвышалась над ними. Я уже сказал, как она, вступившись за свои родные, близкие ее сердцу Балтийские провинции, с такою неподражаемою тонкостью и силою обличила всю его односторонность и пристрастие, что он должен был перед нею умолкнуть и протянул ей дружескую руку. Не менее любопытна ее переписка с ним по религиозным вопросам. Он излагал православную, а она протестантскую точку зрения, и это она делала с такою глубиною и задушевностью и в такой изящной форме, что невольно сочувствие становилось на ее стороне. Во многом они, впрочем, сходились, особенно в начале внутреннего освящения, которое Самарин ставил так же высоко, как она.
Столь же привлекателен был и ее разговор, не отличавшийся живостью, но всегда умный, спокойный, разнообразный, касающийся возвышенных сторон жизни и затрагивающий глубокие струны человеческого сердца. Она умела говорить со всеми, и, как подобало ее званию, всегда приветливо и с участием. Но особенно она раскрывалась в интимной дружеской беседе. Когда я бывал в Петербурге, я почти каждый вечер проводил в ее маленькой гостиной во флигеле Михайловского дворца и всегда жалел, когда тут присутствовал кто-нибудь посторонний, кроме самых близких друзей. День, когда я ее не видал, мне казался пустым: такое сердечное удовлетворение доставляла мне эта задушевная, полная прелести беседа. Здесь вполне высказывалось ее горячее, любящее сердце, ее сдержанный пыл, ее удивительная чуткость ко всему высокому, ее благородное негодование против человеческих низостей. И кого она раз полюбила, перед тем она раскрывалась с полным доверием, вызывая такое же доверие и к себе. Она была непоколебимо верным другом. И радости, и горе друзей, их успехи и их неудачи, возбуждали в ней самое теплое и глубокое участие. «Вы давно знаете, что счастье моих друзей – это солнечный луч в моей жизни», – писала она мне.
В своих привязанностях, так же как в своих помышлениях, она искала вечного и неизменного.
Не во всем, однако, мы с нею сходились. Со своим высоким нравственным строем она витала в какой-то идеальной сфере, из которой она не всегда могла разглядеть человеческую пошлость и судить правильно о жизненных отношениях. Особенно после смерти великой княгини, которая со своим ясным, практическим умом всегда трезво смотрела на вещи и низводила на землю идеальные стремления своей спутницы в жизни, в баронессе Раден развилась наклонность видеть в слишком благоприятных красках окружающую ее среду. Этому способствовали и те страшные события, которыми ознаменовались последние годы царствования Александра II. Они усилили в ней и без того чрезмерно консервативный образ мыслей. Ей представлялось, что надобно всеми силами поддерживать новое правительство, водворившееся среди этих ужасов, и она не замечала, что это новое попечительство вовсе не нуждается в поддержке независимых людей. Особенно я сетовал на нее за то, что она не удержала Дмитриева от того пути, по которому он пошел. Она одна могла это сделать, ибо он был к ней привязан так же как и я. Мы составляли нераздельное трио. Имея в виду одно неуклонное чувство долга, исполненная и идеальных понятий о рыцарской преданности престолу, она не видела низменных путей и подводных камней чиновничьей карьеры. Оказалось, что мы на многое смотрим с совершенно противоположных точек зрения: она осуждала то, что я считал необходимым и должным и, напротив, поддерживала то, что я сильно осуждал. Мне памятен последний наш разговор о современном положении, при прощании во время коронации. Это был и вообще, последний наш разговор. Я поехал провожать ее на железную дрогу, и здесь, сидя с нею наедине в вагоне еще раз высказал ей все свои мрачные предчувствия насчет общего хода дел. Я говорил, что невозможно приехать короноваться при таких смутных обстоятельствах и не сказать народу ни единого слова об ожидающем его будущем. «А не думаете ли Вы, – оказала она, – что может водвориться управление, хотя не высокого строя, но проникнутое самыми чистыми нравственными стремлениями?»«Какая тут нравственность? – отвечал я. – Посмотрите, кто окружает престол, каких государственных людей нам привезли из Петербурга. Ведь это – настоящий зверинец. Мы топчемся в грязи; а что ж далее?» Это были последние слова, с которыми я с нею расстался.
Не долго, однако, она могла сохранить свои иллюзии. В последние годы жизни ей волею или неволею пришлось погрузиться в практическую деятельность и видеть вещи вблизи. После смерти великой княгини, она всю свою душу положила на поддержание основанных ею учреждений. Затем, во время войны, ей поручено было заведывание центральным складом Красного Креста. Наконец, в новое царствование, императрица призвала ее к содействию, помощью и советом, в управлении женскими заведениями. Всюду она вносила воодушевлявшее ее чувство долга, и все, что она делала сама, было безупречно. Но, не созданная, в сущности, для практического дела, она приходила в отчаяние от постоянных столкновений с всеохватывающим господством житейской пошлости.
Когда она призвана была к императрице, она писала мне: «Я ничего не искала, это ведает бог, меня страшит та ответственность, которую я на себя принимаю, я вижу, как вокруг меня громоздятся целые горы инертности, рутины, пошлых чувств (самое большое, по-моему, зло, так как оно непоправимо), сложных интересов, а мне всему этому противопоставить нечего, кроме своей слабости и своего одиночества. И однако, в наши дни, каждый должен браться за плуг – не оглядываясь назад».
Но эта постоянная борьба была ей не по силам. Уже в 1876 г. она писала мне: «…Ах, мой дорогой друг, печальна жизнь! Ее выносишь так или иначе, но пройдя две трети обычного пути, уже чувствуешь себя утомленным».
С увеличением деятельности эта усталость все усиливалась В 1884-м году она писала: «Моя деятельность сопряжена с неприятностями, даже огорчениями, ибо возраст не притупляет некоторых чувств негодования и изумления, которые я испытывала с детства. Я бываю иногда так грустна и так утомлена, что мне хотелось бы бежать в пустыню. Господь помогает мне побороть мою слабость: показывая мне, как близка конечная цель, он помогает мне быть стойкой до конца».
В это время меня постигло глубокое горе, которому она показала живейшее участие[224]224
Смерть дочери Ульяны Борисовны (род. 1877 г.) в сентябре 1884 г.
[Закрыть]. У нее самой открылся рак; она была при смерти. Ей сделали опасную операцию, которая, однако, удалась. Едва вставши, она тотчас опять принялась за работу. В декабре 84-го года она писала:
«Я едва освободилась от своих физических страданий, как на меня нахлынули бесчисленные огорчения. Иллюзия ли верить в то, что их легче переносить у входа в вечность? Я молю бога, чтоб я не слишком быстро привыкла к порочному воздуху равнины, и больше всякого другого зла, опасаюсь своей слабости».
А в январе 1885-го года: «Здоровье мое поправилось, я на ногах и исполняю все свои обязанности служебные и семейные, но не могу преодолеть жажды уединения вдали от света, которая растет с каждым днем. Три месяца тому назад я приготовилась к смерти без сожаления и без страха. Бог продлил мне жизнь, он этого хочет; следовательно, это нужно для моей бедной усталой души, а все-таки я не могу заставить себя с радостью творить его волю! Я чувствую себя утомленной и грустной, я боюсь соприкосновения с миром, чувствительно понижающим моральный уровень; боюсь и личного эгоизма, проявляющегося во мнимом уединении, так как мир внутри нас со всеми его соблазнами тщеславия, более опасными даже, чем соблазны внешние […]».
Летом она поехала лечиться за границу, но перед возвращением в Россию снова открылась опухоль. Она поняла, что все было кончено. Опять сделали операцию, но на этот раз это только ускорило конец. В октябре 85-го года, в то время, как я ехал из деревни в Москву, я вдруг получил телеграмму, извещающую меня, что она умирает и желает меня видеть. Я тотчас полетел в Петербург и застал ее уже в безнадежном состоянии, но еще крепкую духом, и ни словом, ни даже стоном не обнаруживавшую тех невыносимых страданий, которые она испытывала. Прямо с железной дороги сестра повезла меня к ней, говоря, что она ждет меня с нетерпением. Я вошел в комнату умирающей. Она посмотрела на меня своим глубоким взглядом, крепко пожала мне руку и с трудом, тихим голосом проговорила последние слова: «Вчера вечером я чувствовала себя очень плохо, но я молилась богу, если необходимо страдать всю ночь, чтобы Вас видеть, то продлить мои страдания. Я хотела пожать вам руку в последний раз». Она меня благословила и просила передать ее благословение моей жене. После этого я еще раз входил к ней по ее желанию, но она уже не могла говорить. На следующий день она скончалась, оплаканная всеми. Вылившийся из глубины сердца образ этой чистой и высокой души пусть сохранит о ней память для будущих поколений. Такие женщины редко встречаются на свете.
Другая фрейлина Елены Павловны, жившая в то время на вилле Бермон, баронесса Сталь, сестра нынешнего посла в Лондоне, была женщина совсем другого рода. Это была девушка в полном цвете молодости, красивая, изящная, умная, образованная, с некоторым талантом к живописи, но очень себе на уме. В семнадцать лет она откровенно говорила, что нельзя доверяться никому, и что надобно самому пробивать себе дорогу. Пути, которые она для этого избирала, были, однако, не совсем надежны. Пока она была еще очень молода, она сдерживалась и вела себя скромно: но впоследствии она сбросила всякую узду и выказала всю свою холодную, страстную, своенравную и лживую натуру. Великая княгиня принуждена была удалить ее от себя, и тогда, разъяренная, она пустилась на всякие каверзы, интрига и клеветы. Все это, однако, не послужило ни к чему. Она уехала за границу и вышла замуж за какого-то француза, виконта де Отерива, с которым потом, говорят, разошлась. Я потерял ее из виду.
Но все это оказалось уже много лет спустя. В то время, о котором я теперь говорю, м-ль Сталь была привлекательным центром для молодых людей, живших на вилле Бермой. Дмитриев, Сергей Абаза, секретарь великой княгини, и я, все немного за нею ухаживали. Абаза за ужином поднимал бокал шампанского и говорил:
Пью за здравие Стали!
Милой Стали моей!
А Дмитриев к этому прибавлял:
Но, признаться, едва ли
Нам понравиться ей!
Конечно, она искала выгодной партии, а не пустого волокитства. Если юная и красивая девица Сталь была предметом любезностей, то при дворе было два лица, которые были предметом неистощимых шуток и острот Дмитриева, одно тайных, другое явных. Первый был гофмаршал великой княгини, барон Розен, честный и недалекий немец, добродушный, но весьма чопорный, исполненный важности своего положения, своих отличий и своей должности. Он любил, чтобы все при дворе происходило в совершенно чинной форме, и когда мы с Дмитриевым однажды вздумали за гофмаршальским столом говорить стихи для удовольствия дам, он после обеда с негодованием отзывался: «Это не гофмаршальский стол, а какая-то академия!». Точно так же негодовал он, всякий раз, как великая княгиня не соблюдала тех обрядов, которые, по его мнению, были совершенно необходимы. Он был очень недоволен моею первой аудиенцией: «вот молодой человек, который хочет представиться, как все порядочные люди, и вдруг его принимают в утреннем костюме! На что это похоже?» Когда же дело касалось его самого, то он выходил из себя. Дмитриев очень забавно рассказывал, в какое неистовство однажды пришел барон, когда великая княгиня, перед отъездом из Рима, послала его к папе просить извинения, что она по нездоровью не может сама приехать проститься. «Что это сталось с этой великой княгиней! – восклицал он в бешенстве, – посылать меня, протестанта, на поклон к этой рухляди – папе!» Но оттуда он вернулся, как шелковый. «Да он очень приличен – папа! – говорил он. – Представьте себе, что он пригласил меня обедать. Это первый раз, что протестант обедает у папы». Дмитриев рассказывал про него бесчисленные анекдоты. Перед моим приездом в Ниццу барону ко дню именин великой княгини, была прислана телеграмма с известием, что ему жалуется Анна первой степени, а, между тем, самая лента еще не была доставлена. Барон пришел в большое затруднение, не зная, что ему надеть в этот торжественный день: Анна еще не пришла, а Станислав уже сделался ему противен. Он решил «сотше interime», надеть итальянскую ленту и с гордостью рассказывал всем о своем тонком изобретении.