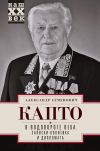Текст книги "Воспоминания. Том 1. Родители и детство. Москва сороковых годов. Путешествие за границу"
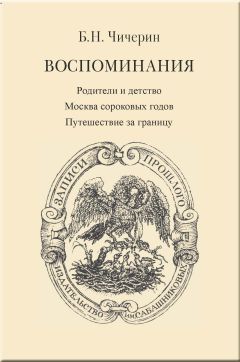
Автор книги: Борис Чичерин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 42 страниц)
Предметом явных острот был доктор Арнот, высокий, сухощавый, с еврейской физиономией австриец, которого Дмитриев все дразнил тем, что Австрия составляет помеху человеческому развитию и непременно должна разрушиться. Доктор приходил в ярость и не понимая, что над ним издеваются, пресерьезно старался убедить всех и каждого в необходимости существования Австрии. Я вспомнил свои старинные подвиги и начертал его жизнеописание в карикатурах. Между прочим, изображено было, как они вдвоем купаются: Дмитриев, в виде бесенка, показывает ему нос с берега, а долговязый доктор, погруженный по пояс в море и, поднимая свою костлявую руку, кричит ему: «Нет Австрия необходима!»
При таких элементах время на вилле Бермон протекало в полном удовольствии. Мы проводили целые дни вместе, сменяя шутливую болтовню серьезными разговорами, иногда делали в компании прелестные прогулки по окрестностям. По вечерам у великой княгини обыкновенно бывала музыка; пела жившая у нее в то время красивая девица Штуббе, впоследствии вышедшая замуж за Александра Аггеевича Абазу. Однажды мы с Дмитриевым и с Сергеем Абазой ездили в Монако, куда их притягивала рулетка, а меня привел в восторг переезд через горы, который в раннюю летнюю пору представляет нечто совершенно идеальное. Мы были молоды, веселы, беззаботны. Перед нами в радужных цветах открывалось заманчивое будущее. В отечестве настала давно желанная пора свободы, и нам предстояла плодотворная деятельность. А пока мы проводили беспечные дни, в обществе изящных и привлекательных дам, в очаровательной обстановке, под сияющим небом юга, у берегов глубокого Средиземного моря в тени померанцев и олив. Даже в воспоминании все это представляется мне как листок из волшебной сказки, где в садах благодетельной феи встречаются странствующие принцы и заколдованные принцессы и проводят дни в невинных увеселениях. Грустная минута настала только тогда, когда пришла пора разъезжаться; но мы твердо надеялись увидеться вновь и зажить прежнею жизнью.
В половине июня мы с Дмитриевым и доктором поехали через Col di Tenda в Турин, куда вскоре должна была прибыть и великая княгиня, проездом в Германию. Во все время нашего 24-часового путешествия Дмитриев потешался над доктором. Бедная Австрия разрывалась на клочки. И днем и даже ночью это был непрекращающийся поток шуток и острот. Через несколько дней мои спутники отправились далее, а я намеревался ехать в Лондон, чтобы повидаться с Герценом. Мне хотелось переговорить с ним о настоящем положении дел в России и о той политике, которой надобно было держаться при существующих условиях. Затем я думал, побывав в Лондоне и Париже, походить по горам в Швейцарии, а зиму провести в Италии, преимущественно в Риме. Вообще, этот первый год моего заграничного путешествия посвящался осмотру достопримечательностей Европы, после чего я уже хотел засесть за работу.
Однако в Лондон я попал не скоро. Брат задумал жениться и убедил меня ехать с ним в Ишль, где в то время находилась занимавшая его особа, дочь родной сестры графа Штакельберга, баронессы Мейендорф. Мы отправились через Швейцарию и Тироль, кой-где по железной дороге и пароходом, но большею частью в открытой коляске, что много способствовало полноте и свежести ощущений. Это было одно из самых очаровательных путешествий, какие мне доводилось делать. Я был увлечен, вознесен, отуманен целым роем совершенно новых для меня впечатлений, беспрерывно меняющимся рядом восхитительных картин. Первое, что меня поразило, было великолепное Лаго Маджоре, самое величественное из итальянских озер. К сожалению, погода была не совсем благоприятная. Облака обвивали горы, порою шел дождь. Под зонтиками мы осматривали Борромейские острова. Но когда прорывался солнечный луч и озарял эту дивную панораму гор, окаймляющих широкие воды озера, вокруг которого живописная крутизна альпийских скал украшается всею роскошью итальянской природы, можно было придти в полный восторг. Я обещал себе возвратиться сюда еще раз, чтобы видеть итальянские озера во всем блеске их красоты, что мне и удалось впоследствии. Взявши веттурино[225]225
Извозчик в Италии, меняющий лошадей в пути.
[Закрыть] в Беллинцоне мы поехали по долине Тичино. Тут я впервые увидел вблизи, можно сказать ощутил, горную природу в ее суровом величии, во всех переходах от приютных человеческих жилищ до возносящихся к небу голых утесов: внизу разбросанные хижины, окруженные зеленью каштанов и орехов, выше еловые леса, еще выше живописные скалы самых причудливых форм, грозно вздымающие свои головы, а внизу клубящийся поток, с ревом прорывающийся через теснины. В Айроло, где мы ночевали в самой простой, но необыкновенно чистой гостинице, со стенами украшенными изображениями подвигов Телля, на меня пахнуло духом мирной республиканской свободы. Рано утром мы переправились через СенТотард, частью идя пешком, и там, на вышине, среди голой каменистой пустыни, я увидел на скале надпись: Suworowus victorus[226]226
Должно быть: «Suworowus victor», т. е. «Суворов победитель».
[Закрыть], обличающую плохое классическое знание проходивших тут русских героев. Затем мы спустились в долину Рейссы, и здесь, одно за другим, представились нам Андерматт со свежими, ярко зелеными, нисходящими в долину пастбищами среди грозных утесов, клубящееся и пенящееся стремление Рейссы, смело перекинутой через нее Чертов мост, наконец Люцернское озеро, живописнейшее из швейцарских озер. Мы проплыли на пароходе мимо часовни Телля, которая вызывала в воображении целый рой исторических и поэтических картин, и остановились в Веггисе, откуда я совершил свое первое значительное пешее восхождение. Мы пошли с братом на Риги, чтобы оттуда любоваться восходом солнца. Вечер был прелестный; Люцернское озеро, облитое теплыми лучами заката, представляло нечто совершенно волшебное; мне казалось, что я перенесен в какой-то очарованный мир. Однако, после первого часа пешего хождения, я с непривычки почувствовал такую усталость, что с некоторым смущением думал, как я доберусь до вершины. Но тут оказалось маленькое пристанище, где продавалось пиво; я выпил кружку и остальные два часа прошел так бодро и легко, что мог бы идти еще столько же.
Утром нас ожидало разочарование. Перед восходом солнца звонкий альпийский рог разбудил массу народа, ночевавшего в гостинице в ожидании великолепного зрелища. Все тотчас вскочили, наскоро оделись и побежали на площадку. Увы! ничего не было видно. Был дождь, холод, ветер; облака покрывали равнину и горы. Наконец, в какую-то скважину на небе проглянуло подобие красного луча, и толпа, удовлетворенная тем, что видела восхождение солнца, вернулась назад доканчивать свой сон. Это был пошленький интермеццо среди поэтических восторгов. Когда утром туман и дождь рассеялись, мы увидали тоже немного хорошего: вместо ожидаемого восхитительного ландшафта, перед нами расстилалась географическая карта, не представлявшая, в сущности, ни малейшего интереса, хотя любопытные, конечно, могли разглядеть на ней даже весьма отдаленные места. Но когда мы стали спускаться обратно, вид Люцернского озера в теплое и ясное утро опять предстал нам во всей чарующей прелести. Я убедился, что не нужно лазать высоко, чтобы наслаждаться красотами природы.
Из Люцерна мы через Цюрих и Констанцское озеро проехали в Тироль. Здесь опять нас сопровождал целый ряд самых очаровательных видов: скалы еще величественнее и разнообразнее, нежели виденные мною в Швейцарии, приютные долины, великолепные деревья, вместо больших озер маленькие ярко-изумрудные озерца, затерянные высоко в горах и так причудливо отражающие покрытую лесами окрестность; наконец, мирные села, на которых лежит печать патриархальной простоты, большею частью исчезнувшей в Швейцарии. Так, через Инсбрук и Зальцбург мы приехали в Ишль.
При всем том, я остался неудовлетворенным. Этот ряд быстро сменяющихся картин представлял мне подобие волшебного фонаря, в котором одно впечатление вытесняет другое и ни одно не успевает запасть глубоко в душу. На родине я привык с природою жить, наслаждаться в полном спокойствии ее тихою красотою, чувствовать внутри себя ее проникновение; а тут я не успевал восхититься одним, как уже на смену спешило другое. На каждом шагу хотелось остановиться, вдохнуть в себя и усвоить окружающее очарование, а вместо того мы стремились все далее и далее, так что в душе водворялся, наконец, какой-то хаос, в котором я не мог разобраться. Пребывание в Ишле послужило успокоением.
Мы остались там дней десять. Дела брата шли на лад. Ничто так не содействует поэтическому сближению, как интимная жизнь среди красот природы. Мы делали совокупные прогулки по прелестным окрестностям. Окончательное объяснение произошло в виду величественного водопада Waldbachstruh. Брат выехал из Ишля женихом. Он отправился в Вену, навстречу родителям, которые в это время решились ехать на зиму за границу. Отец уже несколько лет недомогал; у него открылась брайтова болезнь, и доктора советовали провести зиму в теплом климате. Брат думал устроить их в Ницце, где он мог жить вместе с ними и с невестою, не отлучаясь от своего места служения. Я же, со своей стороны, направился в Лондон, и уже оттуда, через Париж, хотел приехать в Ниццу и повидаться с семейством.
Я ехал большею частью пароходом, любуясь живописными берегами величественного Дуная и прелестного Рейна. Но вдруг, на одной из пристаней тогдашнего великого герцогства Нассауского, на пароход, совершенно для меня неожиданно, вступила великая княгиня Елена Павловна со всею своею свитою. С ними был и князь В. Ф. Одоевский, с которым я тут в первый раз познакомился. Некогда московский архивный юноша и писатель с некоторым дарованием, он впоследствии обратился в весьма добродушного придворного, но продолжал серьезно заниматься всякими безделушками, что приобрело ему прозвание: великий человек на малые дела. Узнавши, что я направляюсь в Лондон, он тотчас поручил мне отыскать для него книгу сигналов, которой я, впрочем, не нашел и никогда не узнал, на что она была ему нужна. Великая княгиня ехала в Остенде купаться в море перед возвращением в Россию. Меня пригласили погостить там некоторое время, и я, разумеется, охотно согласился.
Опять пошли завтраки и обеды за гофмаршальским столом, прогулки с дамами по набережной, долгие вечерние разговоры у баронессы Раден, иногда беседы с великою княгинею. На поклон к ней приезжали и посторонние лица. Был тогдашний принц-регент прусский, впоследствии император Вильгельм, с которым мне довелось тут обедать. Как нарочно, перед самым столом у великой княгини сделалась сильная мигрень, так что принимала баронесса Раден. Весь разговор шел о разного рода салонных играх (petits jeux). Меня, разумеется, это очень мало интересовало; но баронесса Раден объяснила мне, что страсть к этим играм составляет специальность всех царственных особ и что она даже по этому признаку заключила, что
Людовик-Наполеон действительно царственного происхождения, а не просто выскочка, как он сам себя величал.
Был также бельгийский король Леопольд I; но я его не видал. Однажды барон после завтрака выпрямился во весь рост и важным тоном произнес: «Теперь я должен идти принимать короля». Мне рассказывали, что в разговорах с великою княгинею, король Леопольд все сетовал о том, что после смерти Николая Павловича всякая международная полиция в Европе прекратилась. Это не дало мне весьма высокого понятия о его столь прославленном уме.
Из русских, приезжал тогдашний посол в Париже, граф Киселев, один из самых близких друзей великой княгини. В то время я мог только любоваться его красивою и величественною фигурою; но приехав в Париж, я узнал его ближе и нашел в нем некогда умного и тонкого, в то время уже значительно опустившегося старика, обратившегося в придворного, но сохранившего свои приветливые и аристократические манеры. По этому поводу я убедился, до какой степени придворная жизнь, даже при самых лучших условиях, налагает свои путы на человека. Когда я, побывавши в Париже, в первый раз свиделся с великою княгинею, она стала расспрашивать меня о графе Киселеве. Я откровенно сказал ей, что нахожу его опустившимся и думаю, что его друзья оказали бы ему услугу, если бы посоветовали вовремя оставить свой пост. Когда я, после этого, на вопрос баронессы Раден, сообщил ей свой разговор с великою княгинею, она так расхохоталась, как будто я совершил нечто чудовищное. «Как, вы в самом деле сказали это великой княгине? – воскликнула она. – Да разве вы не знаете, что граф Киселев один из самых близких ей людей?» «Потому-то я и сказал, – отвечал я; – она одна может дать ему полезный совет». Но моя приятельница продолжала хохотать над моею наивностью. Я до сих пор думаю, что я был прав, и что Елена Павловна не была бы тою высокою женщиною, какою я ее знал, если бы ей нельзя было говорить подобных вещей. К сожалению, совет графу Киселеву дан был слишком поздно, когда министерство наделало ему неприятностей, стараясь всячески его выжить.
Как контраст с величавою осанкою графа Киселева, в одно время с ним приехал маленький, горбатый Александр Васильевич Головнин, с рыбьим ртом и в тщательно приглаженном парике. Он имел репутацию огромного ума и считался вдохновителем великого князя Константина Николаевича, при котором он был тогда секретарем. «Ришелье едет», – возвестила нам однажды баронесса Раден. Я спросил, правда ли, что он так умен. «Он вовсе неумен, – отвечала она. – Я назвала его Ришелье, потому, что он считает себя великим государственным мужем. Но он честный и хороший человек, всею душою преданный своему великому князю». При первом же свидании с Головниным я мог убедиться, до какой степени это суждение было верно. Приехав в Остенде, он пришел знакомиться со мною, не застал меня, и я на следующее утро отправился к нему. Он тотчас начал мне с важностью излагать подробную программу государственных преобразований, одним из двигателей которых был великий князь. Я, разумеется, со всем этим вполне соглашался, но заметил, что при громадности предстоящей задачи, когда все надобно перевернуть вверх дном и поставить на новых основаниях, меня пугает одно, именно недостаток подготовленных к такому делу людей. «Это не беда, – возразил Головнин. – Правительство само может создавать людей. Вот, например, великий князь Константин Николаевич послал человек сто за границу; они вернутся и будут у нас хорошо подготовленные люди». Я сказал, что на мои глаза, отправление чиновников за границу составляет весьма недостаточное подготовление для внутренних преобразований. Таким способом можно получить порядочных исполнителей, которые будут делать то, что им приказано, а у нас требуется совершенно иное: нужны люди, не только искусившиеся в государственных делах, но и хорошо знающие Россию, и притом независимые, способные не только быть орудиями, но и служить задержкою, если правительство пойдет по ложному пути. «Отчего же, и это легко сделать, – отвечал Головнин. – Надобно только, всякий раз, как проявляется дух независимости, давать награды. Вот, например, граф Путятин заключил трактат с Японией[227]227
В 1855 г. адмирал Ефимий Васильевич Путятин подписал так называемый Симодский трактат, первый договор между Россией и Японией о дружбе и торговле. История этого посольства подробно описана И. А. Гончаровым в книге «Фрегат «Паллада», которым командовал И. С. Унковский, сын упоминаемого ранее С.Я. Унковского.
[Закрыть], не имея на то никакого полномочия; за это ему пожаловали Александровскую ленту». Услыхав такой удивительный способ поощрять дух независимости, я не выдержал, немедленно обратился в бегство и полетел рассказывать этот прелестный анекдот баронессе Раден и Дмитриеву. Приехав в Лондон, я сообщил его Герцену, и он говорил мне, что они с Огаревым, вспоминая о моем рассказе, валялись от хохоту по дивану, до такой степени мысль давать награды за дух независимости казалась им восхитительной. Действительно, редко приходится наткнуться на более типический анекдот.
Головнин был идеал петербургского либерального чиновника. У него был готовый рецепт на все: на всевозможные государственные преобразования, на устройство мест и приготовление людей, на воспитание наследника, на путешествие царственных особ, и – доходя до последних подробностей придворных церемоний. Он с одинаковою важностью, отчетливостью и расстановкою излагал первоклассные государственные меры и повторял от слова до слова телеграмму, извещающую о здоровье императрицы или об образе жизни великой княгини. Если у него случайно спрашивали: когда он едет? он тотчас с величайшею подробностью начинал объяснять, в котором именно часу со сколькими минутами он со своим великим князем приедет на железную дорогу, где они будут завтракать, где обедать, и именно со сколькими минутами остановки, когда, наконец, они прибудут на место, и сколько дней и часов там останутся. Также чрезмерно подробен он был и в делах. Первою и важнейшею задачею администрации он считал собрание целых фолиантов никому не нужных мнений и справок. А, между тем, он, в качестве либерала, свысока говорил о нашей бюрократии, о петербургском чиновничестве, не подозревая, что он сам насквозь проникнут их духом. Чтобы не навлечь на себя подозрения в бюрократических наклонностях, ему казалось совершенно достаточным призвать изредка какого-нибудь легенького журналиста, побеседовать с ним важно, как подобает государственному мужу, и сочинить что-нибудь ему в угоду, дабы этим приобрести популярность. Так он именно поступал впоследствии, когда сделался министром народного просвещения. Но при всей узкости и ограниченности своего ума, он действительно был по-своему человек честный. Великому князю он оставался предан до самого конца, был всегда верным другом своих друзей, даже впавших в немилость, хотя и для них он изобретал иногда удивительные рецепты. Когда, после издания Положения 19-го февраля Н. А. Милютин уехал за границу, Головнин вздумал пристроить его к Публичной Библиотеке.
Впоследствии, уже в новое царствование, когда Д. А. Милютин удалился в Крым на покой, Головнин постоянно извещал его обо всем, что происходило в Петербурге. Сам он в это время, оставаясь членом Государственного Совета, не играл уже никакой политической роли, но продолжал изредка давать тонкие обеды для избранного круга высокопоставленных особ, в том числе для великого князя Константина Николаевича. После каждого такого обеда он аккуратно присылал Дмитрию Алексеевичу, который всего менее был гастрономом, не только подробный меню, но при этом и рисунок стола, с означением мест, где кто сидел. Эта черта характеризует человека.
Среди всех этих старых и новых знакомств я в Остенде несколько зажился и насилу вырвался оттуда. Я поехал в Лондон пароходом через устье Темзы, и тут я в первый раз испытал все громадное впечатление современной промышленности. По обоим берегам реки тянулись бесконечные и разнообразные суда, верфи, фабрики и заводы; везде, шум, стук, свист; везде движение, жизнь, суета; повсюду облака угольного дыма, а внизу широкая Темза, несущая к морю свои мутные воды, загрязненные всякими промышленными и людскими отбросами. Все это производило на меня впечатление какой-то гигантской машины, работающей без устали, но руководимой разумом, неуклонно идущим к своей практической цели. Самый Лондон поразил меня контрастом серых домов, дымных улиц с толпящимся народом, с несметным количеством экипажей, и великолепных парков, которые кажутся как бы пустырями среди многолюдной столицы. Я не только усердно осматривал все достопримечательности Лондона, но ездил и по окрестностям, в Виндзор, Ричмонд, Кью, Гэмптон-Корт, где в то время находились еще картоны Рафаэля, объехал весь остров Уайт, сидя на верху дилижанса с своим старым московским приятелем, графом Алексеем Васильевичем Бобринским, который был тут моим чичероне. Как страстный садовод, я особенно любовался английскими парками, великолепными деревьями, бархатными газонами, хотя находил несколько однообразным отсутствие всяких мелких произрастений. Я видел в этом образ самой Англии, где старая, ветвистая аристократия как бы выжила и вытеснила в город все остальное. Этому аристократическому величию, взлелеянному веками, я предпочитал более скромную русскую природу, где все растет на приволье.
Я виделся и с представителями в Лондоне русской дипломатии: с умным, но совершенно ко всему равнодушным бароном Брунновым, которому я был рекомендован великою княгинею; с Сабуровым, в то время первым секретарем посольства, впоследствии послом в Берлине, которого я знал с детства, и который встретил меня весьма дружественно. Он был тогда очень милый малый, неглупый, но прочного образования и серьезной подготовки у него не было, и он сам признавался, что совершенно выветрился в дипломатической карьере. Это он и доказал, когда был призван к настоящему делу. Руководствуясь в своих поступках не зрелыми убеждениями, а мелкими честолюбивыми целями и налету схваченными мыслями, он скоро сломал себе шею.
Все это, однако, представляло для меня лишь второстепенный интерес. Главною целью моей настоящей поездки в Лондон был Герцен. Я слегка знал его в Москве, еще будучи студентом; но у нас были общие друзья, общие воспоминания и общие интересы. Мне хотелось основательно с ним переговорить о современном положении и посмотреть, нельзя ли направить его в смысле полезном для России. Его «Колокол» имел тогда громадное значение. Это была первая свободная русская газета, не стесненная никакою цензурою. Его жадно читали в Петербурге и в Москве. Каждый тайно привозимый из-за границы номер ожидался с нетерпением и передавался из рук в руки. Здесь в первый раз обличалась царствующая у нас неправда, выводились на свет козни и личные виды сановников, ничтожество напыщенной аристократии, невероятные дела, совершающиеся под покровом тьмы, продажность всех облеченных властью. Назывались имена; рассказывались подлинные события. Перед обличением Герцена трепетали самые высокопоставленные лица. С подобным орудием в руках можно было достигнуть того, что было совершенно недоступно подцензурной русской печати. Можно было действовать на недоумевающее правительство, сдерживать его и направлять на правильную стезю. Но именно в этом отношении «Колокол» был более чем слаб. Он скорее мог сбить с толку и правительство и общество, нежели указать какой-либо определенный путь. В нем выражался весь Герцен, огненный, порывистый, нетерпеливый, раздражительный, полный блеска и ума, но кидающийся в крайность и не умеющий оценить существующие условия жизни. Уже в «Полярной Звезде» обнаружилась полная его теоретическая несостоятельность. Все восхищались художественною прелестью, живостью и теплотою его воспоминаний, которые останутся одним из лучших памятников русской литературы; но нелепые социалистические статьи, наполнявшие это издание, приводили в негодование его прежних друзей. В «Колоколе» он от теоретических вопросов перешел к практическим; условия были необыкновенно благоприятны; но несостоятельность оказалась та же. Статьи печатались без всякой общей мысли, под влиянием совершенно случайных побуждений или присылаемых неверных известий. Издатель то писал восторженное письмо государю, под заглавием «Ты победил, Галилеянин!» – и обещал быть верным слугою царю, если будут отменены крепостное право, телесное наказание и цензура, то вдруг без всякого серьезного повода, он забывал сказанное вчера, начинал бесноваться, ругал все и всех, печатал статьи с воззванием к топору. С умеренною и трезвою Москвою у него не было постоянных сношений; зато с Петербургом была непрерывная связь. Чернышевский с компанией шпиговали его всякими ложными известиями, всеми подобранными на улице сплетнями, всеми раздутыми новостями; они раздражали его впечатлительные нервы, и он приходил в негодование, раздражался потоком брани и становился слеп ко всему остальному. Я думал, что говоря с ним от имени его старых московских друзей, можно хоть сколько-нибудь умерить его неуместное раздражение и показать ему вещи в истинном свете.
Скоро я убедился, что это был совершенно напрасный труд. Я нашел прежнего Герцена, оставившего по себе столько воспоминаний в старой Москве, общительного, живого, бойкого, остроумного; разговор был блестящий и разнообразный; он лился потоком, переходя от одного предмета к другому, пересыпанный то живыми рассказами, то игривыми шутками, то острыми замечаниями. Это была неудержимая сила, сверкающая и пышущая во все стороны. Но под всем этим ослепительным фейерверком скрывалось полное отсутствие серьезного содержания. Даже то, что было вынесено из России, погибло в крушении европейской революции. Еще живя в Москве, Герцен от гегельянской философии перешел к точке зрения реализма, с которою он по странному, но весьма распространенному смешению понятий, соединял самые крайние социалистические утопии. С этим умственным багажом он переехал в Западную Европу; но тут с первых же шагов, на его глазах, все его мечты рассеялись как дым. И демократия, и социализм, в который он верил, как в новую религию, оказались несостоятельными. Герцен совершенно растерялся и не знал, где искать точки опоры. Вера в европейскую революцию исчезла; к революционерам, которых он видел вблизи, он питал глубокое презрение. В самом Прудоне, он, к великому своему прискорбию, замечал упадок. Как утопающий хватается за соломинку, он принялся возвеличивать русскую общину, в которой усматривал смутный зародыш какого-то социалистического будущего, тем самым сближался со славянофилами; но сам он ей не верил и в откровенные минуты признавался, что кидает пыль в глаза своим европейским друзьям. Он потерял даже веру в прогресс. Когда я заговорил с ним о развитии человечества, он мне сказал, что этим занимается Огарев, и молчаливый Огарев прочел мне какую-то белиберду о стадном чувстве и о движении по спирали. Я убедился, что в политических вопросах у Герцена подготовки не было ни малейшей и что он даже не способен их понимать. Я говорил ему о значении и целях государства, а он мне отвечал, что Людовик-Наполеон ссылает людей в Кайенну. Я говорил, что преступление должно быть наказано, а он отвечал, что решительно не понимает, каким образом учиненное зло может быть исправлено совершением другого, такого же зла. Все теоретические вопросы разрешались у него остроумными сближениями, юмористическими выходками. В сущности, у него был ум совершенно вроде изображенного им доктора Крупова, склонный к едкому отрицанию и совершенно неспособный постичь положительные стороны вещей. В практических вопросах дело обстояло еще хуже. Когда я указывал ему на необходимость трезвого и умеренного образа действий при предстоящих в России великих преобразованиях, он отвечал, что это чисто дело темперамента и ссылался на Лустало и Камилля Демулена, как будто французская революция имела что-нибудь общего с современным положением России. Ему казалось даже, что человеку с умеренным взглядом на вещи надобно поступать на службу, а стоящий вне правительственных сфер непременно должен обретаться в отрицании и крайностях. Я приходил в отчаяние.
Часто и всегда с большим удовольствием ездил я в Путней[228]228
Putney – пригород Лондона.
[Закрыть], где он тогда жил; но поболтавши с ним полдня, наслушавшись остроумных и занимательных речей, я возвращался опечаленный, ибо не видел в этом никакого добра для России. Весь этот крупный талант погибал в бесплодном бесновании, которое могло только сбить с толку неприготовленные и неокрепшие умы. Мне даже казалось иногда, что проповедуя умеренность можно ему повредить: он, пожалуй, лишится свойственного ему таланта, а серьезного слова все-таки не скажет. Но подобные опасения были напрасны. Никакая проповедь умеренности не могла на него подействовать: это было слишком противно его природе.
Мы расстались, однако, друзьями. При прощании он пошел проводить меня на железную дорогу, которая была недалеко от его дома, и уговаривал меня писать в «Колоколе», а он будет отвечать. Но я уже убедился, что всякие споры с ним будут бесполезны, и отказался. Однако я не выдержал. Я уехал в Париж, и он просил меня навести для него какую-то справку. В это время в Париже было получено известие о речи, сказанной государем московским предводителям дворянства, речи, в которой настойчиво выражалось намерение освободить крестьян. Посылая Герцену обещанную справку, я коснулся этой речи и сказал, что теперь ему опять придется воскликнуть: «Ты победил, Галилеянин!», после того, как он еще недавно печатал воззвание: «Крестьяне, точите топоры!» На это он мне написал, что ему с разных сторон делают подобные упреки и что он будет отвечать на них в «Колоколе». И точно, в следующем номере появилась статья под заглавием «Нас упрекают», в которой говорилось, что люди с горячим темпераментом увлекаются в разные стороны под влиянием ежедневных впечатлений, истощаются гневом и негодованием, падают и умирают в борьбе; доктринеры же не увлекаются, но и не увлекают других.
Меня это взорвало. Ссылаться на темперамент, отвечать легеньким издевательством, когда дело идет о благе отечества, о важнейших его интересах, о величайших преобразованиях, изменяющих весь его исторический строй, казалось мне недостойным не только возвышенного ума, но и благородного сердца. Под этим впечатлением я написал известное письмо, которое было напечатано в «Колоколе», в номере 1 декабря 1858 года, и которое было первым протестом русского человека против политического направления лондонской эмиграции. Я высказал тут Герцену все, что давно накипело на душе. Я говорил ему, что, как единственный свободный орган русской мысли, он сила и власть в русском государстве; а, между тем, он пользуется своим положением не для того, чтобы в незрелом и столь долго приниженном русском обществе развить политическое сознание и направить его к разумной цели зрело обдуманными средствами, а для того, чтобы самому волноваться по всякому пустому поводу и волновать других. Вместо того, чтобы содействовать образованию у нас такого общественного мнения, какое требуется в настоящую знаменательную пору, мнения независимого, стойкого, но умеренного, с трезвым взглядом на вещи, с крепким закалом политической мысли, он приучает нас к раздражительности, к нетерпению, к неуступчивым требованиям, к неразборчивости средств. Я с негодованием восставал против иронического его замечания, что революция – поэтический каприз истории, которому даже мешать неучтиво. «Существенный смысл упреков, которые вам делают, заключал я, состоит в том, что в политическом журнале влечения, страсти должны заменяться зрелостью мысли и разумным самообладанием. Если такое требование есть доктрина, пускай это будет доктринерством. Вам такой образ действий не нравится; вы предпочитаете быстро перегорать, истощаться гневом и негодованием. Истощайтесь! Таков ваш темперамент; его не переменишь. Но позвольте думать, что это не служит ни к пользе России, ни к достоинству журнала, и что во всяком случае нечего этим величаться»[229]229
Письмо Чичерина к Герцену появилось в «Колоколе» 1 декабря 1858 г. (№ 29); в сокращенном виде оно было напечатано Чичериным в книге «Несколько современных вопросов» (М. 1862).
[Закрыть].