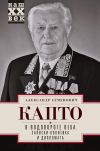Текст книги "Воспоминания. Том 1. Родители и детство. Москва сороковых годов. Путешествие за границу"
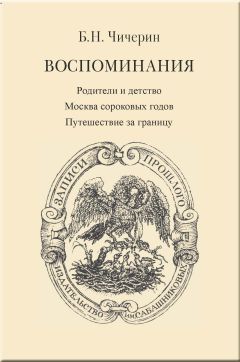
Автор книги: Борис Чичерин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 34 (всего у книги 42 страниц)
Но тут опять случилось обстоятельство, которое едва не привело к разрыву. Еще прежде, нежели я получил послание Кавелина, Мельгунов, который тоже был за границею, писал мне, что он, по поводу моего письма в «Колоколе», переписывался с Герценом, и, защищая меня против упрека, что я действовал под влиянием раздраженного самолюбия, указывал на то, что я совершенно те же мысли высказал в «Письме к издателю» в «Голосах из России». Я, со своей стороны, при случае написал Герцену, что Мельгунов не совсем точно назвал меня автором письма к издателю «Голосов», ибо мне принадлежит только вторая часть, первая же написана Кавелиным.
Когда вскоре после того Кавелин приехал в Лондон, Герцен показал ему мое письмо, и тот воспылал негодованием. Ему представилось, что я хотел, по его выражению, очернить его перед революционным комитетом. В то же лето я приехал на несколько дней в Остенде и тут узнал, что Кавелин находится в соседнем Бланкенберге, и злится на меня страшно. Мы отправились к нему с баронессой Раден и Дмитриевым, и после короткого объяснения наедине буря опять пронеслась. Я представил ему, что мне в голову не могло прийти, чтобы он захотел утаивать от Герцена свое участие в рукописной литературе и в «Письме к издателю». Мы принуждены скрывать это в России, чтобы не навлечь на себя жестокой кары, но в Лондоне нет причины не говорить об этом явно, не скрывая своих убеждений и не слагая с себя ответственности за высказанные мысли. Мы обнялись и опять расстались друзьями. На следующую весну он самым убедительным образом приглашал меня на кафедру в Петербургском университете, и когда вскоре после того мне случилось быть проездом в Петербурге, я навещал его каждый день, и отношения оставались самые дружелюбные. Окончательный разрыв произошел уже позднее, по поводу университетской истории[232]232
См. главу «Выход из университета» во II томе настоящего издания.
[Закрыть]. Об этом я расскажу ниже.
Что касается до Герцена, то с ним после письма в «Колоколе», прекратились всякие дальнейшие сношения. Он напечатал мое письмо целиком, но почувствовал себя уязвленным. Уведомляя меня о получении коллективного послания, он высказал, что отныне мы можем смотреть друг на друга только как два офицера стоящие в противоположных рядах и издали уважающие один другого. С тех пор я его не видал, но продолжал с любопытством и даже с некоторым сочувствием следить за его бесплодною деятельностью. Несмотря на раздражительное самолюбие, которое портило многие возвышенные черты его характера, я не мог не ценить благородства его побуждений и высокохудожественного его таланта. «Былое и думы» я всегда перечитываю с истинным наслаждением, так тепло, умно и изящно изображено в нем прошлое. Я даже не мог винить его за бестолковое беснование в «Колоколе», когда я видел, что в том его поддерживают люди, стоящие в первых рядах русской литературы. Но исход этого беснования мог быть только самый плачевный. «Колокол» падал более и более в общем мнении. Когда вспыхнуло польское восстание, Герцен вовсе не понял положения России и русских людей; он совсем потерял почву и должен был прекратить свое издание. С тем вместе порвалась живая связь с отечеством, которая одна его поддерживала и ободряла. Он остался грустным скитальцем, оторванным от родной земли и не нашедшим себе Приюта в чужой. Самая домашняя его жизнь подверглась глубокому расстройству. Жена Огарева перешла к Герцену, и друзья, под влиянием идей Жорж-Занд, нашли это совершенно естественным и законным. Но жить вместе они более не могли. Нельзя без грусти читать их переписку в последние годы, напечатанную в воспоминаниях Т. Пассек[233]233
См. Т. П. Пассек. Из дальних лет. Воспоминания в двух томах. М., 1963.
[Закрыть]. Видно, что над обоими тяготеет какая-то безотрадная судьба, что ни тот, ни другой не может найти покоя. Близкие с ранней молодости, они стремятся друг к другу, чувствуют, что на чужбине только один в другом они могут найти опору и утешение, а между тем, их разлучает роковая связь. Говорят, что в эту тяжелую пору своей жизни Герцен стал пить больше прежнего. Об этом свидетельствует портрет его, писанный художником Ге. Когда я увидел это произведение, я пришел в ужас. Неужели этот спившийся нахал тот самый Герцен, которого я знал полным силы, огня, благородства? Тем не менее, он не пал ни умственно, ни нравственно. Он не преклонялся, как Тургенев, перед русскою революционною дрянью, наводнившею Западную Европу, а, напротив, хлестал ее со всею силою своего могучего таланта, со всем пылом своего благородного негодования. Несмотря на все его крупные ошибки, которые в значительной степени объясняются диким произволом власти, тяготевшим над его молодостью, он остался в памяти всех знавших его людей, как один из чистейших, благороднейших и даровитейших деятелей поколения сороковых годов.
Также печальна была и участь Огарева. В тех же воспоминаниях Т. Пассек нельзя без сердечного умиления читать последнего ее посещения угасающего поэта, который, одинокий, надломленный, больной, свято хранит воспоминания своей юности и переносится мысленным взорам в свою далекую, любимую родину. Глубоко трогательны его последние, посвященные отечеству стихи, составляющие предисловие к недоконченной поэме «Радаев». Мечты его летят к столь близким душе его пустынным равнинам, к широким полям, к трудовой жизни русского мужика. Он всем сердцем приветствует восходящую для него зарю освобождения. Телом он прикован к чужбине, но душа его неизменно там, где протекли лучшие его годы, где он любил и страдал, в родной земле, с которою он связан всем своим существом. Так и умер бедный поэт, дважды женившийся в своей жизни и несмотря на свою мягкую и любящую натуру никогда не обретший семьи. Чужая рука закрыла ему глаза.
Возвращаюсь к своему путешествию.
Из Лондона в Париж я ехал через Гавр в компании с англичанином и французом, из которых последний очень меня забавлял. Он был владелец большого магазина в Париже и мог служить совершеннейшим типом современной французской буржуазии, со всеми ее мелкими сторонами, объясняющими ее покорность императорскому правлению. Он был необыкновенно словоохотлив, начал болтать уже в Лондоне, на станции железной дороги, и продолжал без умолку до прибытия на место. Началось сравнением между двумя столицами: Лондон нечист, Париж чист, там всегда метут; в Лондоне нищета, на улицах люди ходят в рубищах, в Париже все опрятны; в Лондоне домов не красят, в Париже велено красить. Затем он перешел к политике и выразил полное удовольствие существующие порядком: «Мятежей нет, к Франции относятся суважением. До остального мне дела нет». Он рассказывал, что видел императора в Лондоне, когда еще он был претендентом, и в то время считал его кретином: «Но тем не менее, я подал голос за него из ненависти к республике, и очень многие действовали также». Я спросил, почему он так не любил республики? «Что вы хотите? Не было у меня к ним доверия. Мои друзья говорили мне: но почему же Вы им не доверяете? Я им говорю: я и сам не знаю, но я не могу заставить себя доверять, когда у меня нет доверия. Это то же, что и в религии, – я не знаю, почему это пришло, не знаю, почему ушло?»
По поводу религии завязался любопытный спор с англичанином. Тот все твердил: «Вы читали библию?» А француз отвечал ему разными рационалистическими рассуждениями в роде того, что человек не создал ни своего ума, ни своего сердца, и даже не воспитал себя, а потому не может подлежать вечному наказанию за действия, которые проистекают от независящего от него источника; что богу, сотворившему мир, очень легко было вложить в человека, как неотъемлемую часть его природы, мысль о поклонении единому божеству, если бы это действительно было нужно для жизни, ибо всякое животное знает, что ему для жизни потребно. «Я думаю, Monsieur, что когда человек умер, то это надолго; он родится вновь в своих детях, они в своих – так оно и идет. Что ж – таково мое мнение». А мне он шептал на ухо: «Библия – это куча глупостей первого сорта. Я думаю, что один человек бывает религиозен так же, как другой бывает игроком, третий любит женщин. Это расположение ума. А что касается духовенства, то я его не осуждаю, но я себе говорю: они делают свое дело, они обязаны его делать, я им отдаю свои два су на похоронах, или на каком-нибудь торжестве».
Я у него спросил, зачем он при таком образе мыслей отдал своих детей на воспитание духовенству. Он воскликнул: «Но я не противник религии. Я считаю, что религия очень хороша для воспитания детей и потом для несчастных. Если бы я был несчастен, я также молился бы богу; но теперь я довольствуюсь тем, что исполняю свои обязанности и не совершаю нечестивых поступков». Любопытно, что он также воспитывался духовенством, никогда не читал Вольтера, никем не был совращаем, а просто вдыхал в себя окружающий воздух. Это подтверждало меня в мысли, что старая религия ушла, а новая еще не родилась. Впрочем, он и политику считал такою же специальностью, как религию: один – купец, другой – ученый, третий занимается политикой и т. д. Власть же прежде всего должна сама себя сохранять. Император умеет это делать, и за это он его хвалит. Когда мы прибыли во Францию, наш француз еще более развеселился. Он с восторгом показывал нам прекрасное небо Франции, прекрасное солнце Франции. А англичанин, переходя в Гавре мимо кучек навоза или оборванных работников, потихоньку меня толкал и шептал мне: «Посмотрите, это все должно быть в Англии».
Я не мог, однако, не согласиться, что в сущности француз был прав в своих восторгах и в своих сравнениях. После смрадного, дымного, суетящегося Лондона, с серыми домами, с уродливыми монументами и озабоченными лицами, Париж сделал на меня светлое и отрадное впечатление. Точно я из фабрики перешел в гостиную. Мне казалось, что здесь все наслаждаются жизнью. Бульвары, кофейные, театры, рестораны, магазинные выставки, все как будто нарочно устроено для удовольствия людей, и все, действительно, пользуются доставляемыми им удобствами, с умением и не спеша. Особенно поразил меня парижский блузник, всегда опрятно одетый, смело и бодро расхаживающий с своею трубочкою среди несметной толпы. Он представлялся мне царем этого мира, сознающим свою силу и свое призвание. Демократия, которой я в то время еще глубоко сочувствовал, считая ее призванною к великой роли в судьбах человечества, являлась тут вышедшею из первобытной грубости и достигшею той уже обшлифованной простоты форм, которая обличает присутствие высшего просвещения. Мне казалось, что в настоящем эта демократия, слишком рано и неожиданно вызванная на политическое поприще, выносит на себе естественные последствия своего неустройства, то что в будущем ей несомненно принадлежит первенствующее положение в стране. И при всем том, не к ней лежало мое сердечное влечение, а к прошлой истории Франции, к тому несравненному умственному и политическому движению, которым ознаменовалась первая половина XIX века. Это я живо почувствовал, когда меня однажды Каченовский повел в заседание Академии нравственных и политических наук. Я был совершенно ошеломлен и очарован при виде всех этих давно знакомых мне по имени знаменитых людей, собранных вместе. В тот же вечер я написал в Москву к Е. Ф. Коршу и занес в свою записную книжку, чтобы сохранить для себя память об этом впечатлении:
«Не могу не поделиться с Вами одним из лучших впечатлений, какие я имел со времени отъезда из России. Сегодня утром мы с Каченовским были в заседании Академии нравственных и политических наук. Читались довольно скучные мемуары, но я ничего не слушал, я весь превратился в зрение. Не могу сказать Вам, какое действие произвело на меня собрание всех этих знаменитостей, которых имена были мне так хорошо известны из книг, и к которым я издавна привык обращаться с уважением. Я подсел к одному из слушателей и стал его расспрашивать об именах, как Приам расспрашивал Елену о греческих героях; только моя Елена была плешивая и в очках. Председательствовал Ипполит Пасси; подле него на секретарском месте сидел Минье. Вы не можете себе представить, что это за прелестная физиономия, сколько в ней мысли, спокойствия, благородства, добродушия и тонкости! Мы с Каченовским все время на него любовались. Подле Минье – Бартелеми-Сент-Илер. На другой стороне зала старик Дюнуайе, с ним говорит Леон де Лавернь, далее Виллерме, Моро де Жоннес, Фаустин Эли, Лаферрьер. Я спросил об имени господина, который сидел поодаль, писал письма и все время ни с кем не говорил и не кланялся. Это был Корменен – физиономия очень умная, выразительная, но не симпатическая. Среди заседания отворилась дверь и вошел старичок с зонтиком в руках и с белою шляпою, которого все приветствовали с уважением. Я спросил: кто это? Господин Кузен. Опять отворяется дверь, входит высокий господин в синем фраке, застегнутый, лысый, с навислыми бровями, с величавой осанкой – Одилон Барро. Последний, впрочем, менее мне понравился, но у Кузена наружность чрезвычайно привлекательная: умная, подвижная, с французским добродушием, и необыкновенно приятною улыбкою. Ведь не важный, кажется, человек: когда о нем говоришь, то обыкновенно подтруниваешь; а между тем, вид его привел меня в умиление. Не знаю, отчего, но от него, еще более, нежели от других, повеяло мне старой Франциею, блистательною эпохою Франции, с парламентскими битвами, с красноречием профессоров, с бурной журналистикой, с живою общественною жизнью, в которой было столько увлечения, столько сочувствия ко всему прекрасному, такая страсть к мысли, такая любовь к свободе, такое участие ко всему человеческому. И на всем этом лежит поэзия погибшего безвозвратно. Большая часть этих людей отжили свой век; многие из них оказались несостоятельными; но каждый совершил в своей жизни что-нибудь серьезное, каждый из них посвятил себя мысли и труду, оставил по себе след, каждый из них принимал деятельное участие в этой обаятельной среде, и жизнь его полна, имя его нельзя произнести без участия и уважения. И теперь эти люди сходятся и жмут друг другу руку в святилище, которое не подлежит влиянию политической борьбы. Тут я понял, как им должно быть горько и больно. Чтобы дополнить впечатление, надобно сходить в Пер Лашез и там видеть гробницу Бенжамен Констана рядом с монументом генерала Фуа, и Беранже, погребенного вместе с Манюэлем, с которым он не хотел разлучаться даже после смерти. Много там и других.
Каченовский познакомил меня тут с Пасси и с Воловским, который очень любезно пригласил меня к себе и завел разговор о нашей сельской общине. Мы сошлись во взглядах. Это был словоохотливый, но основательно и разносторонне образованный поляк, весьма приветливый в обращении и склонный к примирению с русскими. Он пригласил нас с Каченовским на ежемесячный обед экономистов, и тут я опять наслаждался, как молодой скиф, который, приехав в Грецию, своими глазами увидел тех людей, чьи произведения приводили его в восторг. Воловский познакомил нас с Ренуаром, Лавернем, Гильоменом, Леймари. Нас посадили по обе стороны председателя, старика Дюнуайе, с которым я вел беседу во все время обеда. После обеда тут же за столом начались прения, и я с каким-то душевным умилением слушал спокойный обмен мыслей основательно знающих науку людей. Это было именно то, о чем я мечтал у себя на родине. Как неизмеримо высоко все это стояло перед самоуверенным невежеством и высокомерною нетерпимостью моих соотечественников, которые вместо того, чтобы смиренно учиться, вздумали презрительно смотреть на всю западную науку! Я ушел вполне очарованный всем, что я видел и слышал. Мне казалось, что в мире нет ничего лучше собрания замечательных людей.
Скоро, однако, я все это покинул и отправился на юг искать других впечатлений. Настоящее пребывание в Париже было только заручкою для будущего. Я остановился некоторое время в Ницце, где мои родители устроились на зиму. Радость свидания была большая; но отца я нашел не в хорошем состоянии. Непривычный к южному климату, он недостаточно остерегся, простудился и сидел большею частью в халате в своей комнате, откуда выходил только для катанья. Мы ездили с ним по прелестным окрестностям; он наслаждался южною природою, великолепием Средиземного моря, которые он тут видел впервые.
Ницца в это время была еще маленьким городком с довольно патриархальным характером, что придавало ей прелесть, ныне утраченную. Проживши здесь около месяца, мы с братом Сергеем поехали прямо в Рим, который был предметом самых пламенных моих стремлений. Я столько о нем наслышался, что ожидал обрести там все, что может наполнить душу человека и вознести ее в идеальные области искусства и поэзии.
Действительность превзошла все мои ожидания. Я увидел здесь воочию всю историю человечества: и древность, и средние века, и новый мир, как бы слитые воедино и представленные в живых образах и в чудной гармонии. Прежде всего я, разумеется, побежал на Форум. Я ступал по почве, гае волновались свободные граждане Рима, с их консулами и трибунами, где ратовали Сципионы и Гракхи, Цицерон и Цезарь. Передо мною лежал священный путь, по которому двигались триумфаторы, Фабриции, Фабии, Цинцинаты. Я стоял на Капитолии, в центре римского могущества и славы. Тут заседал Римский сенат, величайшее политическое собрание в истории, который в течение многих веков наполнялся славнейшими именами, руководитель политики, покоривший целый мир. Я видел Тарпейскую скалу, с которой сброшен был Манлий. Весь республиканский мир, с его суровыми доблестями, с его железною энергиею и все возрастающим величием, основанным на любви к свободе и на беспредельной преданности отечеству, восставал из пепла передо мною. Все мои классические воспоминания, мечты свободы и славы, целым роем воскресали в моей душе. В первый раз меня охватило и грустно величавое впечатление мира развалин, одинокие колонны, триумфальные арки, и этот дивный Колизей, которого изящные очертания рисовались на синем итальянском небе. Здесь каждый шаг ознаменован был историческими воспоминаниями, каждый камень говорил воображению. Я всходил на Палатин первое поселение древних римлян, и оттуда, с величественных развалин дворца цезарей, открывался очаровательный вид на холмы вечного города, на пустынную Кампанию, перерезанную красивыми арками водопроводов, на синие горы далекого Лациума. Со священным трепетом сходил я в Подземелье, где некогда хранились останки Сципионов, с почтением, подобающим древности, смотрел на квадратные камни укрепления, восходящего ко временам мифического Ромула, на стену Сеовии Тулия, на построенный Тарквиниями громадный свод Клоака Максима, поныне служащий главною артериею городской канализации. И, наконец, насмотревшись всех наполняющих вечный город вековых памятников, насытившись впечатлениями, я при захождении солнца шел на Понто Ротто, где подо мною струились мутные волны исторического Тибра, а кругом в вечернем зареве сияли холмы.
Но не один древний Рим воскресал в моем воображении. В нетленных памятниках восставала и древняя Греция, с ее богами, героями и великими людьми. Я шел в Ватикан, и здесь видел дивные создания греческого искусства, собранные в одно величавое и гармоническое целое. Не в первый раз мне доводилось осматривать музеи скульптуры, но нигде они не производили такого впечатления. В других странах музеи представлялись мне не больше, как музеями, то есть собраниями статуй, вырванных из своего родного места и перевезенных на чужбину для услаждения или поучения публики. Здесь же весь мир богов и героев являлся мне как бы в настоящем своем святилище; они казались поставленными тут не для осмотра, а для поклонения. С таинственным благоговением входил я в освещенные сверху капеллы, где недвижно стояли Меркурий. Лаокоон, Аполлон Бельведерский, всех более поразивший меня своею красотою. Колоссальный бюст Зевса Олимпийского, отца людей и богов, движением бровей потрясающего землю, давал смутное понятие о погибшем произведении Фидия, перед которым преклонялась вся древность. Великолепная голова Менелая воскрешала в памяти могучие образы героев Илиады; Силен, няньчащий младенца Диониса, грациозные фавны, улыбающиеся сатиры, пляшущие менады вызывали представления вакхических торжеств, упоительных праздников ликующей и возрождающейся природы. И рядом с этим я видел как бы живого Демосфена, сверкающего очами и говорящего пламенную речь афинскому народу; передо мною стоял изящный образ Софокла, полная правды и простоты статуя Еврипида, покрытая шлемом голова Перикла. В Риме в первый раз я почувствовал всю обаятельную прелесть классических форм, всю чистоту, возвышенность и изящество греческого искусства, развернувшегося, как преходящий цвет весны на заре исторического развития, и оставившего человечеству недосягаемые типы красоты.
Но стоило перейти в другое отделение Ватикана и перед очами открывался другой дивный мир, мир христианского искусства нового времени, достигшего высшей степени совершенства в произведениях Рафаэля и Микель-Анджело. Здесь в заимствованные у древности и никогда не стареющие формы вливалось новое содержание. С одной стороны, все библейское величие изображалось на потолке Сикстинской капеллы, в этих колоссальных пророках и сивиллах, в могучей фигуре бога, творящего светила или оживляющего тело человека; с другой стороны, вся евангельская чистота и возвышенность, соединенные с неподражаемою грациею и изяществом, выражались в фресках великого урбинского художника. Афинская школа на одной стене и Disputa[234]234
Афинская школа и Спор о таинстве евхаристии – фрески Рафаэля Санцио в Ватиканском дворце папы в Риме.
[Закрыть] на другой представляли как бы идеальную сущность всего языческого и христианского мира. Много раз ходил я любоваться и этим дивным Моисеем, единственною статуею нового времени, которая, несмотря на свою совершенно своеобразную форму, может по глубине и величине сравниться с отборными произведениями древности.
И как бы связью этих двух миров, древнего и нового, хранителем всех собранных тут сокровищ, являлось живое предание средних веков, римское папство, окруженное всем блеском и великолепием католического церемониала. Оно одно царило в Риме, еще не затронутом веянием новых идей и не опошленном натиском современности. Здесь все носило печать этой теократической власти, к подножию которой некогда склонялись земные цари и которая сохранилась непоколебимою среди всех превратностей истории. Здесь, в центре своего духовного могущества, она воздвигла себе как бы вселенский престол в величайшем произведении нового зодчества, в храме св. Петра, который по своим величавым размерам и по изяществу линий превосходит все, что мне доводилось видеть и прежде и после. В нем нет таинственной прелести готических соборов, где волшебный полумрак и глубокие звуки органа под стрельчатыми сводами призывают душу к благоговейной молитве и возносят ее в невидимый мир: это – храм, созданный для великих торжеств, для радостно настроенного народа; в нем есть что-то светлое, пышное и праздничное. Это – настоящий храм для католических церемоний, где папу несут на престоле, окруженного толпою кардиналов и епископов, в красных и фиолетовых мантиях, где происходит всенародное благословение города и мира. Я много видел этих церковных торжеств и любовался их великолепием, хотя должен сказать, что все в них казалось мне больше рассчитанным для глаз, нежели для души. Особенно чувствуется отсутствие наполняющей храм толпы великих и убогих, соединенных в общей молитве. Когда я в день Рождества христова вошел в базилику св. Петра, меня неприятно поразили ряды солдат, устраняющих чернь и впускающих в запретное место вокруг алтаря только одетых во фрак иностранцев, собравшихся тут для зрелища. Глядя на все эти художественно организованные процессии и службы, обставленные самыми высокими созданиями искусства, я всякий раз с любовью вспоминал иное, гораздо более скромное религиозное торжество, которое далеко не отличается такою пышностью и блеском, но гораздо сильнее действует на душу. Я вспоминал, как на светлый праздник в тишине собирается народ на Кремлевской площади, как при первом ударе колокола Ивана Великого, все молча снимают шапки и осеняют себя крестным знамением, и вслед затем по всей Москве пойдет неумолкающий гул бесчисленных колоколов. И после торжественного благовеста, призывающего всех православных к молитве, начинается ликующий, оглушительный трезвон, возвещающий великий праздник Воскресения. В благоговейном ожидании толпится на площади народ с зажженными свечами, и вот один за другим, идут вокруг соборов крестные ходы, с хоругвями, иконами, с облеченным в праздничные ризы духовенством и с радостным пением: Христос воскрес!
Полтора месяца, проведенные в Риме, были для меня событием в жизни. Я чувствовал себя как бы вырванным из земли и перенесенным в очарованный мир. Это было непрерывающееся восторженное состояние. Душа надолго насытилась возвышенными впечатлениями. Тут я впервые вполне понял высокий мир искусства и с тех пор сделался навсегда его поклонником и любителем. Мы с братом вставали рано и тотчас, напившись чаю, бежали осматривать музеи, церкви, развалины, ходили по Аппиевой дороге[235]235
Via Appia из Рима в Капую проведена в 312 г. до н. э. цензором Аппием Клавдием Цеком.
[Закрыть]. Окрестности ее возле Капенских ворот служили местом погребения знатных римских родов. Часть гробниц сохранилась до нашего времени, а по вечерам погружались в изучение книг по части древностей и художества. Так незаметно летели дни полные наслаждения.
Я познакомился в Риме с двумя людьми, которые могли быть руководителями и пособниками в этих занятиях, с Ампером и Грегоровиусом. Я был им рекомендован баронессою Раден. Ампер был прелестный тип старого француза, живой, тонкий, разносторонне образованный, со свойственною его народу учтивостью и общительностью, с поэтическим полетом мыслей и чувств, в высшей степени обладавший французским даром вести разговор разнообразный и привлекательный, затрагивающий все стороны человеческого духа. Он знал Рим, как свои пять пальцев, не только как археолог, но как историк и поэт. Я не раз совершал с ним большие прогулки, и всегда это было для меня истинным наслаждением. Он знал историю и предания каждого места, по которому мы проходили: вот народная Субурра, где поселился Юлий Цезарь, когда хотел угождать черни; вот тропинка, по которой плебей Марциал ходил к своему приятелю Плинию младшему, жившему в аристократическом квартале; вот где Сулла, сделав обход, разбил Мария; здесь Гораций встретил надоедалу. В галереях Ампер знал каждый бюст, объяснял характер лиц и выражение физиономий. И все это он пересыпал суждениями о современном порядке вещей. Он терпеть не мог ни древнего, ни нового цезаризма и всею душою скорбел о падении своего отечества.
Весьма приятен, хотя далеко не так привлекателен, был Грегоровиус, который в это время работал над своею «Историею города Рима в средние века». У него не было тонкости и изящества Ампера, но были солидные качества немца. Он был очень образованный человек, без национальных предрассудков, хотя исполненный патриотизма, с либеральным направлением, неутомимый архивный труженик, а вместе с тем одаренный чувством поэзии и художества. У немца, особенно молодого, эти различные свойства не всегда сочетаются в гармонической форме. У Грегоровиуса из этого проистекала некоторая манерность и претенциозность, которая усиливалась стремлением к светскому лоску и отражалась на самом его слоге. Оттого его история, при всех своих достоинствах, вышла каким-то странным произведением, полуученым и полухудожественным, отличающимся отсутствием простоты. Но в личных отношениях он был и поучителен и приятен. Мы также делали с ним большие прогулки за город.
Мы вернулись в Ниццу к свадьбе брата. От Рима во Флоренцию в то время не было еще железной дороги. Мы поехали в курьерской коляске, которая довезла нас до границы папских владений, а там должен был взять нас курьер из Флоренции. Но, по обыкновению, последний опоздал, и мы принуждены были провести несколько часов в Аквапенденте, в грязной гостинице, где нам дали отвратительную еду и морили холодом. Погода была скверная, кругом все сыро и грязно. Мы невольно вспомнили свой родной русский Ряжск, ненавистную нам станцию на полпути между Тамбовом и Москвой. Пошли бродить по городу и увидели, что все-таки это не Ряжск. Тут люди жили и понимали искусство. Кой-где встречались следы архитектуры, какой-нибудь изящный портик или старинные ворота, вделанные в новый дом. Зато в Ряжске можно было иметь теплую комнату и чай.
Но подобные впечатления возвышали только прелесть путешествия. Я был в таком упоении, что уговорил мать поехать с сестрою дней на десять в Рим, обещаясь быть их путеводителем. Отцу нельзя было двигаться; он их отпустил и остался с братом, а мы после свадьбы отправились по Корпишь, через Геную, Флоренцию и Сиену. Это был ряд самых очаровательных впечатлений. Мои спутницы были в полном восторге, и я рад был, что настоял на этой поездке. Показав им в Риме все наиболее замечательное, я посадил их на пароход в Чивита Веккиа, а сам отправился в Неаполь посмотреть на самую красивую природу, какая, может быть, существует на земном шаре.
Здесь в дивной гармонии соединяется все, что может пленить чувства человека: край, издавна манивший своею красотою, полный исторической и современной жизни, как бы лелеющийся на солнце под безоблачным нежным небом, при ярко голубом море; кругом ласкающий воздух, напоенный ароматами, плавные линии гор, померанцевые рощи и стройные пинии и над всем этим величественный и вместе удивительно красивый Везувий с дымящеюся вершиною, который, как одинокий великан, вздымается над равниною, словно любуясь расстилающеюся у ног его прелестью. Осмотрев Неаполь и его богатые музеи, посетив Помпеи, которые после величавых развалин Рима показались мне сохранившимся иод пеплом уездным городом древности, я поехал в Сорренто, где во всей своей волшебной роскоши представляется вид Неаполитанского залива. Сидя на висящей над морем скале, я вдыхал в себя этот упоительный воздух и любовался закатом солнца, тихо погружающегося в море и озаряющего своими золотыми лучами эту очаровательную картину. Рано утром я встал и пошел на Капо ди Манте. Там я долго сидел и не мог наглядеться на восхитительное зрелище, которое открывалось моим взорам: у подножия лежал гладкий, как зеркало, отражающий голубое небо, Неаполитанский залив; налево рисовались на горизонте дымчатые, очертания замыкающих его островов, величественного Капри и изящного Искиа; впереди расстилающийся полукругом Неаполь и весь усеянный виллами берег; справа поднимающийся плавными линиями высокий Везувий, увенчанный легким дымком, кругом яркая зелень апельсиновых рощиц с перемешанными между ними розовыми цветами персиков и блистающими на солнце каплями недавней росы, все это облитое тихим сиянием апрельского утра с носящимся в теплом и влажном воздухе весенним благоуханием. Это одно из тех впечатлений, которые не забываются ввек. Из Сорренто я поехал на Капри, любовался ярко голубой прозрачностью воды с серебристыми блесками в знаменитом Лазоревом гроте, затем въехал верхом на осле на высокую, отвесно вздымающуюся над морем скалу Тиберия, некогда любимый приют сумрачного деспота, отсюда правившего миром. Опять мне представился тот же вид, в меньшей прелести, но в еще большем величии: с одной стороны далеко внизу, весь окаймленный горами и поселениями Неаполитанский залив, а с другой стороны безграничная, бездонная лазурь и наверху и внизу, лазурь сияющая таким удивительным блеском и манящая к себе, такою чудною глубиною, что очарованный взор так в ней и тонет и не в силах от нее оторваться. Казалось, выше этого ничего уже нет; однако, еще больше впечатления произвели на меня Амальфи и вся дорога до Салерно по берегу моря. Я видел северную ривьеру от Ниццы до Спецции и думал, что в мире не может быть ничего красивее этого сочетания величественных скал и лазурного моря, с дорогою, извивающеюся по берегу, украшенному противоположною зеленью померанцев и олив, со всюду ползущими растениями по оградам, и с живописно раскинутыми местечками и городками, где самые простые постройки просятся на картину. То же самое я увидел и на южной ривьере, между Амальфи и Салерно, но в еще большем величии и красоте: здесь скалы еще живописнее, море сияет еще более яркою лазурью. Амальфи в особенности представляет такое очарование, с которым ничто не может сравниться. Внизу долина мельниц, с ревущим по ней потоком среди грозных теснин, у подножия которых тянутся покрытые фруктами апельсиновые рощи, пещеры, убранные лезущими отовсюду вьющимися растениями, живописные арки, перекинутые через клубящиеся воды, мельницы с крутящимися колесами, представляет как бы клочок Швейцарии или Тироля, перенесенный в роскошную природу юга и освещенный полуденным солнцем; наверху великолепное Ровелло с сарацинскими развалинами, вознесенное высоко над морем, откуда вид простирается в бесконечную лазурную даль: все это вместе является какою-то волшебною сказкою или поэтическим видением из другого мира.