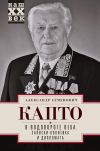Текст книги "Воспоминания. Том 1. Родители и детство. Москва сороковых годов. Путешествие за границу"
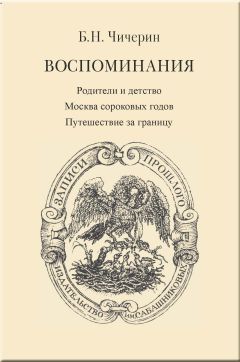
Автор книги: Борис Чичерин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 36 (всего у книги 42 страниц)
Я вернулся в Интерлакен в полном восторге. Отдохнув день, другой, я предпринял новое путешествие, еще более продолжительное. На этот раз я шел семь дней сряду. Из Интерлакена я через истоки и долину Роны прошел в Церматт и оттуда через Маттергорн спустился в Италию. Особенно поразило меня величие Альп в Церматте, удивительная панорама, раскрывавшаяся при вечернем освещении с Горнерграта, и, наконец, переход через Маттергорн на высоте 10500 футов над уровнем моря. Разумеется, на этот раз я шел с проводником и под вуалем, по снежной равнине, по бокам которой возвышались великаны, уступающие только Мон-Блану, Монте Роза, Маттергорн или Мон-Сервен, вдали, в бесконечной перспективе, вздымались вершины за вершинами, и над всем этим, при ослепительном блеске солнца, расстилалось такое темно-синее небо, какого я никогда и нигде не видывал. Из этой области вечных снегов я постепенно спустился в равнины Италии. За снежными вершинами следовали живописные утесы; за соснами и елями великолепные каштаны, и наконец внизу мне представилась вся роскошь итальянской природы.
Турин я нашел уже не таким, каким я его оставил. Тогда все было полно восторга, теперь все находилось в сдержанном выжидании. Виллафранкский мир ничего не решил; Италии приходилось добиваться своей цели собственными средствами, избегая всего, что могло бы задеть могучих соседей. И она сделала это с удивительным политическим тактом, употребляя то хитрость, то силу, никогда не вдаваясь в излишества и проявляя везде удивительную сдержанность. Кавур вышел в отставку, но оставался тайным руководителем всего движения. На этот раз мне довелось с ним обедать у графа Штакельберга. С напряженным любопытством смотрел я на этого человека, от которого зависела судьба отечества. Он говорил о положении Италии, о том, что нет причины европейским державам препятствовать ее объединению. Ясно было, что он скоро вернется к делам.
Я съездил на несколько дней во Флоренцию, чтобы поближе посмотреть на это изумительное самообладание недавно освобожденного народа, предоставленного самому себе при самых трудных обстоятельствах. Я нашел своих тамошних знакомых исполненными надежд и готовыми постоять за себя. Самые умеренные увлекались общим движением. Во главе стоял человек с железною волею, который направлял все. И как характеристическая черта изящного населения, эта политическая решимость украшалась цветами поэзии. Флоренция была полна патриотических песен с грациозными оборотами, с звучными стихами, какие умеют сочинять только итальянцы. Перелетную ласточку народный поэт расспрашивает о подвигах героев; возвещается появление к весне, в знак свободы, Савойского креста на знамени Италии. Тонкие насмешки над кодинами, которым режут хвосты, грациозные аллегории насчет национальных цветов, красного, зеленого и белого, изливались в гармонических строфах, которые, не имея прочного значения, служили украшением улетающего дня. Я привез их множество в Турин на обратном пути.
Осень стояла великолепная и мне хотелось воспользоваться ею, чтобы насладиться на досуге итальянскими озерами. Начал я с маленького, но прелестного Лаго ди Орта. Отсюда я ранним утром пошел пешком через Монтероне к Лаго Маджоре. Когда я при лучах восходящего солнца взошел на вершину этой горы, перед мною открылось дивное зрелище: у ног ясное и гладкое, как зеркало, расстилалось величественное озеро, окаймленное горами, с плавными линиями, с бесконечными переливами тонов, по берегам бесчисленные виллы и местечки, среди вод, как брошенные букеты Борромейские острова, а вдали, как панорама этой прелестной картины, вся снежная цепь Альпов, сияющая на голубом небе. Я долго сидел в полном восторге, потом спустился к озеру и нанял лодку, чтобы переехать на острова. Лодкою управляла женщина: я опросил ее, довольны ли они, что теперь стали подданными итальянского короля? Она наивно мне отвечала: «Господа довольны, а для бедных все равно, кто повелевает». Так, вековым гнетом искореняется народное чувство. Оно пробуждается сначала в высших слоях и только мало-помалу распространяется в массах.
Осмотревши в очаровательное осеннее утро прелестные Борромейские острова, с их редкими растениями и искусственными гротами, налюбовавшись озером, я проехал в Лугано, которое произвело на меня еще более чарующее впечатление: сохраняя тот же итальянский характер, оно уединеннее и живописнее других озер. Здесь я любовался и фресками Луини в Луганском соборе. Ранним утром я нанял лодку и из Лугано поехал к концу озера в Порлецца. Мне казалось, что я плыву в каком-то волшебном крае. Утро было совершенно тихое, но несколько туманное. Сквозь прозрачную мглу, освещенную лучами солнца, виднелось и гладкое зеркало озера и очертания окружающих гор и расстилающаяся у подножия их зелень деревьев. Из Порлеццы я пешком прошел к Комскому озеру и переправился в Белладжио. Тут опять представилось новое очарование. Я пробыл здесь два дня, то катаясь по озеру, то осматривая прелестные виллы, то любуясь открывающимися по обе стороны мыса волшебными видами. Все это путешествие завершилось Венециею, где я пробыл на этот раз дней десять. Я осмотрел ее уже не как новичок, у которого кружится голова от всего окружающего великолепия, а как человек несколько проникнувший в тайны искусства и способный оценить всякую подробность. Не было церкви, куда бы я не заглянул, не было картины, которой бы я не осмотрел с должным вниманием. На этот раз я понял и всю красоту древних мозаик, которые прежде казались мне уродливыми. Я увидел, что эти строгие византийские формы гораздо лучше вяжутся с архитектурными линиями, нежели более изящные образы новейших мозаистов. Собор св. Марка, с наполняющими его сокровищами, притягивал меня все более и более. Но не менее я любовался и пышными фресками Веронезе, изображавшими всю роскошь Венеции, достигшей вершины своего могущества и славы. Я видел и погибшую потом великолепную картину Тициана – Мучения св. Петра. Всего более, однако, привлекали меня мадонны Беллини, в которых строгость и чистота соединяются с удивительною нежностью и грациею. Я предпочитал их едва ли не всем мадоннам, которых я дотоле видел. Выше их я впоследствии ценил одну только Сикстинскую, которую вскоре потом увидел в Дрездене, и которая, после всех чудес Италии, представилась мне высшим перлом нового искусства, совершеннейшим сочетанием возвышенной и глубокой идеи с полной художественностью форм.
Утро посвящалось осмотрам, вечером же я садился в гондолу и при заходящем солнце наслаждался видом дворцов, церквей, каналов и лагун. И еще более нежели в первый раз все это сознательно производило на меня впечатление полного и гармонического целого, где разлитое всюду художество, с совершенно своеобразным отпечатком, выражало самобытный характер некогда роскошно развивавшейся здесь жизни. Это было вместе с тем и последнее мое прощание с Италией. После этого я не раз туда возвращался, но никогда уже с тою свежестью чувств, которая жадно вбирает в себя новые впечатления и наполняет душу неведомым дотоле восторгом.
От итальянской природы и итальянского искусства я разом перепрыгнул в совершенно иную область, в мир немецкой учености. Первая моя остановка, Вена, в этом отношении представляла немного. В сущности это было не более, как отражением Германии. Я познакомился с несколькими профессорами, слушая их лекции; но единственный человек, который произвел на меня впечатление, был все-таки Штейн. С ним я более и более сближался, и все более ценил этот тонкий, разнообразный, оригинальный, хотя и не всегда верный ум. Его беседы доставляли мне истинное наслаждение.
Отправляясь из Вены в Берлин, я не мог миновать Праги, центра славянского движения. Тогдашний наш посланник при австрийском Дворе, Балабин, дал мне письмо к Ганке, который принял меня с распростертыми объятиями, показывал все и знакомил со всеми. Он повел меня в новопостроенный театр, где на непонятном мне чешском языке давали шекспировского Кориолана. Меня уверяли, что грамотность у них так распространена, что даже земледелец, идя за плугом, читает Шекспира. Ганка ввел меня и в Чешскую Беседу, где по вечерам собирались политические люди и литераторы. Старик ходил туда всякий день ровно в 7 часов, спрашивал обычную кружку пива и ровно в 9 уходил домой. Однажды он стал рассказывать мне, как он, будучи еще мальчиком где-то в глуши, вдруг нечаянно увидел славянские письмена и воспламенился неодолимым желанием читать по-славянски; как он из своей деревни ушел пешком и пришел в Прагу к Добровскому, умоляя, чтобы тот его выучил. Старик так воодушевился этими воспоминаниями, что уже 9 часов давно пробило, и все с удивлением видели, что Ганка продолжает рассказывать. Наконец, он взглянул на часы, опрометью вскочил и побежал домой. Из чешских знаменитостей, Палацкого в то время не было в Праге, но я познакомился с Шафариком, Ригером, Эрбеном и другими. Должен сказать, что я получил глубокое уважение к чешскому движению. Меня поразил и умилил вид этого маленького народа, который, стесняемый со всех сторон могучими соседями, вооруженными всеми средствами, какие дают и физическая сила и умственное превосходство, отстаивал свою независимость чисто духовным оружием. «У нас сняли голову, – говорил мне Ригер, – и мы теперь принуждены все тело восстановлять из ног». И точно, когда я пришел в театр, я с изумлением увидел, что партер набит битком, а ложи первых ярусов совершенно пусты. Но в сущности возрождение произошло не из народной массы, а из небольшого кружка просвещенных литераторов и ученых, которые зажгли светоч, озаривший самые глубокие слои и соединивший всех около общего знамени.
Совсем иное впечатление произвел на меня Берлин. Холодный, правильный, разбитый на квадраты, он не затрагивал ни одной сочувственной струны в моей душе. Замечательная по художественному исполнению статуя великого короля возбуждала мысль о правителе, только умевшем грабить своих соседей. Рядом с этим статуи героев отечественной войны напоминали времена подъема народного духа; но что осталось от этого подъема? Столица северной Италии, Турин, также разбитая на квадраты, во многом напоминал Берлин; но там была широкая политическая жизнь, там я видел народный энтузиазм. Здесь же политическая жизнь была самая жалкая; парламент был совершенно бессилен.
Принц-регент по собственной инициативе призвал к управлению умеренных либералов, которых тогдашний наш посланник в Берлине, барон Будберг, характеризовал как собрание воинствующих посредственностей. Поднятый с таким шумом германский вопрос замолк, до тех пор пока за него, несколько лет спустя, не принялся государственный деятель, который, идя по стопам Фридриха II и сочетая глубокое коварство с железною энергиею, умел перевернуть всю Европу и сделать Пруссию могущественнейшею державою в мире, не возбуждая впрочем сочувствия в тех, которые не поклоняются силе, а ищут удовлетворения высших потребностей человека[244]244
Б.Н. Чичерин имеет в виду германского канцлера Бисмарка (1815–1898).
[Закрыть]. В то время, как я был в Берлине, самая умственная жизнь, некогда стоявшая столь высоко, не представляла ничего. В университете, где читали Фихте, Гегель, Шлейермахер, Ганс, Савиньи, теперь почти что некого было слушать. Я был на нескольких лекциях и ни одна меня не удовлетворила. К Гнейсту у меня было письмо от Моля; но при знакомстве с ним меня постигло такое же разочарование, как и тех, которые при вступлении его в парламент, ожидали от него многого и нашли очень мало. Знание английских учреждений в прошедшем и настоящем, действительно было громадное, но политического смысла не было никакого. Он, все носился с нелепою мыслью, над которою смеялся и Моль, что для упрочения парламентского владычества в Пруссии, король должен актом личной воли заставить прусских юнкеров взять в свои руки все местное управление. «Надо заставить этих господ», – повторял Гнейст, и я слушал с удивлением такое необыкновенное понимание существа и условий свободы. Гнейст уверял, что то же самое должна сделать и королева Виктория, чтобы предупредить искажение английских учреждений. Конечно, ни одному англичанину не мог пригодиться такой рецепт немецкого профессора.
Без сожаления покинул я Берлин и направился в Мюнхен. Мне очень хотелось познакомиться с Блунчли, к которому у меня также было письмо от Моля. Им я остался чрезвычайно доволен. У него, конечно, были свои недостатки. Лишенный основательного философского образования, явление в Германии довольно обыкновенное при тогдашнем упадке философии, он увлекся фантазерством земляка своего Ромера и стал развивать совершенно неприложимые к государственной жизни понятия об органических отправлениях, принимаемых в буквальном смысле. Это было тем удивительнее, что по натуре у него был ум трезвый, ясный и сильный. Лекции он читал превосходно. Мы много с ним беседовали и во многом сходились. Он выражал мне несбывшуюся уверенность, что я буду играть видную роль в моем отечестве. «У вас есть свои мысли, – говорил он. – Я живу в стране гораздо более образованной, нежели ваша, и вижу, как мало вообще людей, у которых есть собственные мысли. Большая часть повторяет только чужие». Он не знал, что в России собственные мысли менее всего требуются и менее всего терпимы. Лет десять спустя после австро-прусской войны я снова встретился с Блунчли в Берлине. На этот раз мы с ним поспорили насчет политики Бисмарка, которую он поддерживал и которой я не мог сочувствовать. Он занес этот разговор в свои записки, которые были напечатаны после его смерти, и заметил при этом, что для него всегда странно, когда русские говорят о праве и свободе. Он не понимал, что именно потому, что у нас так мало того и другого, мы особенно дорожим этими началами у других. Когда гораздо более образованные народы оказывают им презрение, то чего же нам требовать у себя? Блунчли напирал на то, что немцы народ негосударственный и что с ним без насилия ничего не сделаешь. Но, конечно, подобный довод не мог быть для меня убедительным. К чему привело это насилие, у всех на глазах? Оно произвело тот страшный милитаризм, который тяготеет над Европою и подавляет все духовные ее стремления.
Блунчли повез меня к Зибелю, который в то время был профессором в Мюнхене и произвел на меня также самое лучшее впечатление. Я познакомился я с Пёцлем, с Карьером, с Боденштедтом. Раз в неделю мюнхенские профессора собирались вечером в маленьком ресторане и за кружкой пива вели оживленные беседы. Меня приглашали на эти собрания, оставившие во мне самое приятное воспоминание. Здесь немецкая ученость соединялась с немецким добродушием, господствовало настроение, которое так хорошо обозначается словом Gemuthlichkeit. После Берлина, тут всего яснее представилось мне различие между южною Германиею и северною. В первой сосредоточивается все, что в немцах есть симпатического; вторая является представительницею отталкивающих сторон немецкого характера. Немец до сих пор остался тем, чем он был в средние века, носителем двойственного мира: с одной стороны – он добродушный идеалист, с другой стороны – он грубый варвар. Во времена политического бессилия преобладала первая сторона, представляемая преимущественно южными немцами, хотя в то время и север отчасти поддавался тому же направлению. Эта эпоха и произвела тот высший цвет немецкой поэзии и немецкой философии, который составляет неоценимый вклад в духовную жизнь человечества. В настоящее время, с переходом центра тяжести в Берлин, на первый план выдвинулась вторая сторона: добродушный мечтатель затмился, остался грубый варвар[245]245
Эти строки были давно написаны, когда разоблачения насчет истязаний, которым подвергаются немецкие солдаты, явились живым подтверждением высказанного здесь взгляда. – Прим. Б. Н. Чичерина.
[Закрыть].
Погостив в Мюнхене, осмотревши все его примечательности, я в начале 1860 года поехал в Париж, думая провести там остальную зиму. Но тут я получил ошеломившее меня известие из дому: отец скончался. Из Эмса он поехал домой, по-видимому, совершенно поправившись; но уже дорогой оказалось у него возобновление болезни. Он понял, что дело непоправимо, и не хотел более лечиться, а поехал доживать последние свои дни в любимый Караул. Однако он никому не говорил о своих предчувствиях и старался даже скрывать свое положение. В Вене я получил от брата письмо, которое несколько меня встревожило, но затем пришло другое, успокоительное. Первое мое движение было тотчас ехать в Россию; но я сообразил, что мое внезапное появление могло еще более раздражить больного, а потому решился подождать дальнейших известий. Вследствие моих постоянных переездов, я долгое время их не получал: телеграфов еще не было, и все письма из дому посылались в Париж. Приехав туда, я тотчас побежал на почту, и тут узнал, что все уже было кончено. Это был самый жестокий удар, какой я дотоле испытывал в жизни. Никогда я так живо не чувствовал, как сильно и глубоко я любил отца. Я решил тотчас вернуться в Россию к матери, и затем уже, побывши с нею некоторое время, докончить свое путешествие. Брат Сергей в это время слушал лекции Рошера в Лейпциге. Я написал ему о своем намерении, и он присоединился ко мне в Берлине. С глубокою скорбью в сердце поехали мы на родину.
Приезд наш в Россию ознаменовался целым рядом неприятных впечатлений, составлявших резкий контраст с тою свободою и теми удобствами, к которым мы привыкли в заграничной жизни. Первый казус встретился на границе. Все вещи путешественников были уже осмотрены и мы собирались продолжать свой путь, как вдруг с таинственным видом входит чиновник и спрашивает: «Кто из вас Борис Чичерин?» Я сказал, что я. «Где ваш чемодан?» «Вот он». Чиновник приказал отнести его в другую комнату и сам вышел. Затем он вернулся и с тем же таинственным видом спросил: «Кто из вас Сергей Чичерин?» Повторилась та же история и с чемоданом брата.
Оказалось, что мы оба были отмечены, как опасные либералы; ожидали, что мы можем провезти в Россию всякие революционные издания. Наши вещи тщательно перешарили и отобрали все, что у нас было печатного. Ничего, однако, не нашли, кроме невинных путеводителей, да газет, в которые была завернута обувь. Все это и было отобрано, переписано и отослано в тайную полицию. А между тем, в это самое время, мои книги, которых было не мало, под казенною печатью пересылались через русскую границу прямо в Петербург. Опасаясь притеснений на таможне, я в Берлине заехал в посольство и просил знакомых отправить мои книги с курьером в Петербург. Это и было сделано. Я получил тут живую иллюстрацию господствующих у нас административных порядков.
Затем начались неприятности дороги. От границы до Ковно не было не только железного пути, но даже и дилижанса; надобно было ехать в линейке. В Ковно мы прибыли вечером и нашли отвратительную гостиницу, с нетопленной и грязной комнатой. На следующее утро нужно было добыть подорожную, ибо отсюда приходилось ехать на перекладной. Для этого недостаточно было предъявление заграничного паспорта; требовалось еще свидетельство от местной полиции о беспрепятственном выезде, которое я должен был доставать сам. В этих хлопотах прошло почти полдня; наконец мы выехали уже санным путем. Подъезжая к маленькой речонке, мы увидели на ней окраины. Дорога шла вдоль берега и потом уже поворачивала на реку; но тут стоял небольшой обоз с лесом. Ямщик, не желая его дожидаться, прямо направился к реке. «Не езди, не езди, потонешь», – закричали ему стоящие тут мужики. Я, видя, что он не слушается, схватил его за руку и пытался его удержать; но он только хлестнул лошадей и бухнул нас прямо в воду. Лед, конечно, не выдержал; лошади и сани провалились; мы сами и наши вещи были насквозь промочены. Пришлось ехать обратно на маленькую станцию и там сушить платье и отогреваться. Это была уже иллюстрация не правительственных порядков; а народного характера: русское авось и ничего проявлялись во всей своей прелести. И при всем том я ощущал некоторое удовольствие, встречаясь с этими привычными мне с детства чертами. Переход от образованного благоустройства к первобытной дикости производил такое впечатление, как будто из тесной долины выезжаешь на простор. Кой-как добрались мы до Острова, откуда уже железная дорога, через Петербург, довезла нас до Москвы.
В Москве старые друзья и товарищи встретили меня самым радушным образом и проводили меня обедом у Владимира Самарина. И тут, после долгого путешествия, охватило меня отрадное чувство возвращения в родной город. Насмотревшись Европы, я оценил и всю живописность Москвы, особенно, когда вернулся в нее весною. Я все любовался холмистым местоположением, прелестным видом с кремлевских высот, множеством церквей, отдельно стоящими приютными домиками, а весною – обилием зелени их окружающей. Все это было так своеобразно и вместе так говорило сердцу, что я живо ощутил всю невозможность оторваться от родной почвы и переселиться в чужие края. Я чувствовал, что здесь я должен жить и умереть.
Затем предстояла дальнейшая, и притом ужасная, дорога. Снегу в эту зиму навалило необыкновенное множество, и ухабы были страшные. Как я ни привык к нашему зимнему пути, но ничего подобного я в жизни не испытывал; а тут пришлось это испытать после удобств заграничного путешествия. Из Москвы до Рязани мы ехали в тяжелом дилижансе. На каждом шагу он вваливался в ухаб, а если выбоина была порядочная, то и совершенно в ней застревал. Приходилось дожидаться, пока подъедет какой-нибудь обоз. Кондуктор сзывал людей, и они совокупными усилиями вытаскивали из ямы грузную громадину. А через четверть часа опять повторялась та же история. В Рязани мы пересели уже в легкие сани, и тут надобно было днем и ночью крепко держаться, чтобы не вывалиться из экипажа, который поминутно перебрасывало из стороны в сторону, из одной ямы в другую. О сне, конечно, нельзя было и думать. Когда же мы, наконец, въехали в свои степи, пришлось по глубоким сугробам ехать гуськом. Так добрались мы до Караула.
Здесь мы нашли всю семью под удручающим впечатлением недавней утраты. В первый раз караульский дом, прежде столь оживленный и веселый, постигнут был великим несчастием. В нем царствовала тишина, знак глубокого горя. К тому же и мать была больна; она не могла меня даже видеть. В самую минуту смерти отца у нее от внезапного прилива крови сделалось воспаление глаз. Ее лечили и мы надеялись, что она скоро поправится. Мы не подозревали, что выздоровления не будет; ей суждено было остаться слепою навек. Впоследствии доктора объяснили, что от накопления слез произошел разрыв сосудов. Надобно было тут же сделать операцию; но кто мог сделать это в деревне? Когда ее повезли в Москву, было уже поздно.
Не могу сказать, с какою сердечною болью увидел я комнату, где умер отец, слушал рассказы о его тихой кончине. Кроме неразлучной спутницы его жизни, которая до самого конца окружала его самыми нежными заботами, и пятерых из младших детей, тут были и старые друзья дома: Сергей Абрамович Боратынский, Антон Аполлонович Жемчужников, Петр Андреевич Хвощинский. Они вместе с детьми несли его гроб к последнему жилищу. Мне было горько и больно, что меня не было тут. Одно меня утешало, мысль, что отец жил и умер, как следует человеку, как можно пожелать всякому: он жил окруженный счастливою семьею, добрыми друзьями и общим уважением, разумно и честно устроил свои дела, поставил всех детей на ноги, наслаждался первыми их успехами на жизненном поприще, и тихо скончался в любимом, им самим созданном гнезде, где все говорило его сердцу, и где он с полным домом оставлял дружную семью, воспитанную в нравственных правилах и тесно соединенную вокруг матери.
Вернувшись опять за границу, я писал брату Василию: «Как ни печальны были обстоятельства, при которых я возвратился домой, мне было хорошо и тепло в своем гнезде. Все там напоминало отца, он там был близок и жив во всем, что он создал, и было что-то отрадное в сознании, что мысль его не погибла, что она жива в новом поколении, которое с новыми силами и новою любовью продолжает его дело. Посадки, заботы об украшении дома получают двойную цену вследствие этого предания о дорогом человеке. Правда, семья была в сборе и дом не казался пустынным. Но мне кажется, что если бы я даже жил в нем один или по крайней мере вдвоем, я и тут чувствовал бы себя счастливее, нежели где бы то ни было. Ты от Караула отвык, а для меня там сосредоточивается все, что я люблю больше всего на свете. Только там я дома, а всякое другое место для меня чужое».
Унынию, господствовавшему в караульской семье, которого не могла разогнать добродушная веселость милого Петра Андреевича, безотлучно остававшегося при матери в эти печальные дни, соответствовала и суровость внешних впечатлений. В начале марта был такой буран, какого я не видал в жизни. Девять дней сряду без перерыва несла ужасная вьюга; ветер врывался сквозь двойные окна, выдувал подоконники в дверях. Обращенная на восток передняя часть дома, всегда необыкновенно теплая, сделалась так холодна, что в ней нельзя было сидеть и мы держались в задней. Все сообщения были прерваны. Путешественники должны были девять дней сидеть на станции, где их застала погода. Крестьяне могли кормить свой скот, только проделавши дыры в крышах. Множество людей и животных погибло. Снегу нанесло столько, что когда утихла метель, во многих местах можно было ездить по кровлям. Это было страшное ополчение природы, перед которым человек чувствовал все свое бессилие.
Скоро, однако, первые лучи весеннего солнца внесли новую жизнь и в природу и в удрученные сердца людей, которые оттаяли вместе с землею. Именно в эти минуты затишья после сильного горя всего глубже западают в душу впечатления природы. Закрытая для всего остального, она раскрывается для вечного, установленного в мире порядка явлений. Каждый шаг новой весны, сливаясь с воспоминаниями всех прежних весен, с образом золотых дней детства, вызывал давно умолкнувшие ощущения. Живительное обаяние воздуха, согретого внешними лучами, первые проталины, пробивающаяся на них свежая травка, появляющиеся изнпод снега желтые и синие цветы, все более и более распространяющиеся по отталой земле, затем прилет птиц, пение жаворонка высоко в небе, крик собирающихся стадами гусей, журчание потоков, наконец, широкое половодье, затопляющее всю окрестность, то сверкая на солнце, то расстилаясь зеркальною гладью, отражающею синее небо; все это быстрое шумное, чарующее пробуждение и обновление природы повергало душу в какой-то неизъяснимый восторг. После всех виденных мною чудес, я приходил к убеждению, что лучше русской весны нет ничего на свете. И когда затем эта весна раскрылась в полной своей прелести, когда зазеленели деревья, зацвели луга, развернулась душистая черемуха, когда, как бы пушистою снежною пеленою покрылись вишни и яблоки, а вокруг дома все украсилось пышным цветом сирени, когда в рощах раздался громкий хор соловьев, сливаясь по ночам с криком коростеля и с гулом лягушек, я еще сильнее прежнего почувствовал все очарование мирной сельской природы, которая была мне несравненно ближе и сроднее, нежели волшебные картины Италии и живописное величие швейцарских долин. И впоследствии, не раз, когда я, налюбовавшись великолепными видами юга, приезжал в скромную русскую деревню, с ее расстилающимися вдаль полями, где никакая преграда не отделяет одного владения от другого, с ее патриархальною простотою и широким привольем, мне казалось, что я точно от светского общества разряженных и убранных дорогими каменьями красавиц возвращался в свой приютный домашний уголок к законной жене, не блистающей пышными нарядами, но гораздо более говорящей сердцу. Только в России, где земля так обширна, а население так скудно, где человек не наложил везде на природу свою руку, не покорил ее себе, а затрагивает ее только слегка, оставляя ее большею частью в первобытном виде, сохранилась настоящая деревня. И со своей стороны природа не подавляет человека своим величием и красотою, не уносит его в волшебные края, а живет с ним мирно и любовно, доставляя ему все нужное без усиленного труда и сохраняя над ним свое тихое обаяние. Чем старее я становлюсь, тем более по душе мне приходятся именно эти сельские впечатления. Великолепные картины оставляют меня равнодушным, а волнующаяся по широкому полю нива, мирная речка, с растущим по ней камышем, тенистая роща, солнечный луч, пробивающийся сквозь прозрачную зелень деревьев, затрагивают глубокие струны сердца и вызывают рой воспоминаний о давно прошедших и невозвратных днях молодости. До конца жизни человеку всего ближе и, всего дороже то, что запало ему в душу в ранние годы и что связано с впечатлениями детства.
Радостные ощущения весны были временно нарушены новою болезнью матери. У нее сделалось опасное воспаление в боку во время самого половодья, когда трудно было добыть доктора. К счастью, брат Андрей сам была медик; он принял решительные меры и ее спас. Когда же тревога миновалась, настала новая семейная радость. Брат Владимир задумал жениться на второй дочери С. А. Боратынского. Старая дружеская связь отцов переходила и на новое поколение. Он получил благословение матери, и мы с ним вдвоем поехали в Мару, оттуда он вернулся женихом. Однако, на свадьбу я не остался. Надобно было ждать три месяца, а у меня оставался всего год для изучения Англии и Франции. В конце мая я простился с семьей и поехал прямо в Лондон.
Я попал на Международный статистический конгресс, который сделал на меня впечатление огромной комедии. Я постоянно ходил на заседания юридического отделения, из которых я надеялся извлечь что-нибудь для себя полезное, однако напрасно. Председательствовал лорд Брум, который в статистике ничего не понимал и ею вовсе не интересовался, но очень доволен был разыгрывать важную роль председателя. Ни одного дельного прения я не слыхал. В числе говорящих отличался между прочим только что кончивший курс в Московском университете студент Куломзин, впоследствии управляющий делами Комитета министров. Нахватавшись кой-каких сведений в свое кратковременное пребывание в Германии, он ловко умел пускать ими пыль в глаза и производил впечатление особенно на невинного председателя. Я удивлялся, как его смелости, так и наивности слушателей; но высокого понятия о конгрессе я через это не мог получить.
Под конец все члены конгресса, то есть, записавшиеся на него лица были приглашены на огромный раут к лорду Пальмерстону, который тогда был первым министром. Все высшее английское общество можно было видеть в этой невообразимой толкотне. Тут я встретил молодую англичанку, с которою я познакомился в Риме, обедая с нею всякий день за табльдотом. Увидев меня, она воскликнула: «Неправда ли, как это мило быть на Статистическом конгрессе?» Этот эпитет показался мне тем более подходящим, что за несколько месяцев перед тем я встретил ее в Турине, на станции железной дороги, в сопровождении жениха и с чучелом лисьей головы на коленях, и когда я спросил, зачем у нее это чучело, она точно так же воскликнула: «Неправда ли, это очень мило, лисья голова?» Она зазвала меня к себе, объявив с самодовольною улыбкою, что теперь она принадлежит к палате пэров. Когда я пришел, мать ее таинственно и важно сообщила мне, что дочь ее замужем за помощником церемониймейстера палаты лордов, а отец ее зятя сам церемониймейстер палаты лордов. Тут же она поведала мне всю генеалогию и всю родню знаменитого рода Клиффорд. Дочь пригласила меня в церковь, посмотреть свадьбу дочери лорда Кларендона, сказавши, что там я увижу весь цвет английской аристократии. Церковь была приходская и у нее было свое место. Но тут произошел маленький инцидент: какая-то другая дама заняла место, принадлежавшее моей спутнице, а последняя старалась отстоять свои права. «Неправда ли, какая это неучтивая особа?» – сказала она мне при выходе. Чтобы немного ее поддразнить, я заметил, что она была даже несколько взволнована. «Неужели?» – воскликнула она в ужасе. «Ведь это очень вульгарно, быть взволнованной». Все это были для меня забавные черты английских нравов и понятий.