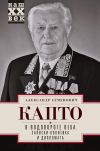Текст книги "Воспоминания. Том 1. Родители и детство. Москва сороковых годов. Путешествие за границу"
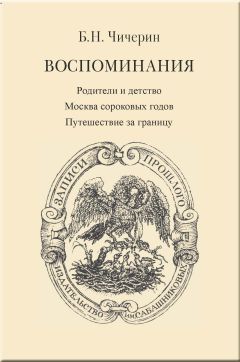
Автор книги: Борис Чичерин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 42 страниц)
Совершенно иное впечатление произвело на нас известие, неожиданно пришедшее из Москвы. Грановский внезапно скончался. Это был как громовой удар среди ясного неба. Со времени нашего переезда в Москву, Грановский сделался одним из самых близких нам людей. Для меня лично это был высший идеал человека; я был предан ему всею душою. И так недавно еще я видел его бодрым, здоровым, исполненным веры в будущее. После невыносимого гнета, под которым должно было умолкнуть всякое живое слово, он готовился с обновленными силами выступить на литературное поприще. Ему разрешено было издание исторического журнала, и он возвратился из деревни с тем, чтобы приняться за работу. И вдруг, нежданно негаданно, на заре новой эры, его сразила смерть. С невыносимою сердечною болью читали мы описание торжественных похорон и глубоко прочувствованные статьи, в которых воздавалась должная дань умершему. Трудно сказать, какую роль он мог бы играть при новом повороте русской жизни. Он один имел довольно таланта и авторитета, чтобы соединить вокруг себя все научные силы, чтобы направлять и умерять общее движение. Он один способен был высоко держать знамя мысли и науки и не дать ему погрязнуть в мелких распрях, в односторонних практических увлечениях, в пустозвонной журнальной болтовне. Можно думать, что если бы он остался жив, русская литература получила бы более благородное и плодотворное направление. Но этому не суждено было сбыться. Он остался в памяти всех, как лучший представитель людей сороковых годов, как благороднейший носитель одушевлявших их идеалов, идеалов истинно человеческих, дорогих сердцу каждого, в ком не иссякло стремление к свободе и просвещению. Чистый и изящный его образ был как бы живым воплощением этих идеалов. Как часто мы обращались к нему в последующее время, при постепенном упадке русской литературы, когда среди разыгравшихся страстей, узких взглядов и низменных интересов более и более иссякала в ней нравственная струя! Как часто мы говорили: что бы сказал об этом Грановский? То ли было бы, если бы жив был Грановский? Но он ушел, оставив после себя пустоту, которую ничто не могло наполнить. Заменить его никто не был в состоянии; председательское место осталось незанятым. Надобно было совокупными силами стараться как-нибудь возместить невознаградимую потерю.
Над свежею еще могилою произошло это соединение. Еще будучи в деревне, я прочитал в газетах объявление об издании «Русского Вестника». Все друзья и товарищи Грановского были тут. Во главе стояли Катков, Леонтьев, Кудрявцев и переехавший из Петербурга Корш. В числе сотрудников я увидел и свое имя, еще не появлявшееся в печати, но уж известное в литературном мире. Все, что примыкало к либеральному кружку московских профессоров, все так называемые западники, почитатели науки и свободы, соединялись для общего дела. Столько лет подавленное слово могло, наконец, высказаться на просторе.
Под этими впечатлениями я перед Рождеством приехал в Москву. Разумеется первая поездка была в столь знакомый мне флигель дома Фроловой в Харитоньевском переулке. Вдова Грановского после смерти мужа слегла в постель, и я мог видеть ее только несколько дней спустя. Но я вошел в опустевший кабинет; заливаясь слезами, увидел я хорошо знакомую мне обстановку, большое кресло, на котором он обыкновенно сидел, пюпитр на котором он писал. Образ умершего, с его умным взглядом, с его приветливою улыбкою, воскрес в моей душе, и я еще живее почувствовал всю горечь утраты. Вернувшись домой, я, можно сказать, с обливающимся кровью сердцем написал посвящение памяти умершего наставника своей магистерской диссертации, которую я собирался издавать и которая была им прочитана и одобрена.
Я остановился у младших братьев, которые были тогда студентами. Они квартировали в нижнем этаже так же хорошо знакомого мне дома Янишей, на Сретенском бульваре. На верху жили Павлов и Мельгунов. Этот дом, принадлежащий ныне Маттерну, после смерти старика Яниша, достался Каролине Карловне. Сама она после катастрофы постоянно жила за границею, а так как Мельгунов был одним из главных кредиторов, то он заставил ее дать доверенность мужу для окончательной ликвидации дел. Но о частных делах в то время всего менее думали. Какой-то электрический ток носился в воздухе. Все были полны надежд и ожиданий; все порывались к общественной работе. В редакции «Русского Вестника» меня приняли самым дружелюбным образом, и я обещал написать давно назревшую у меня статью о сельской общине в России, за которую тотчас и принялся. Затем я собирался в Петербург, чтобы отвезти Кавелину свои рукописи. На пути из деревни, а также и в Москве я тщательно их прятал, ибо история со статьею о восточном вопросе не была еще кончена, и я ежеминутно мог опасаться, что меня арестуют, так же как Мордвинова. Однако, еще в Москве пришлось вывести на свет свои тайные писания.
Однажды Мельгунов по секрету сообщил мне, что у него есть рукописная статья, которая ходит по рукам. Я тотчас же изъявил желание прослушать ее и снять с нее копию. Он прочел мне, сколько помнится, «Приятельский разговор», напечатанный впоследствии в «Голосах из России». Чтобы не остаться у него в долгу, я с своей стороны сказал ему, что и у меня есть подобная же рукопись, ходящая в публике, и прочел ему одну из своих статей. Во время чтения он взглянул на меня через свои очки и, усмехнувшись, сказал: «Мы с вами, кажется, как авгуры, понимаем друг друга». Дело тотчас выяснилось. Он открыл мне, что он автор «Мыслей вслух», а я сознался в своем сотрудничестве в рукописной литературе. Союз был заключен.
Признаюсь, я получил тут более высокое понятие о Мельгунове, нежели я имел до тех пор. Я знал его давно; он был одним из самых близких приятелей Павлова, и я со студенческих лет встречал его постоянно, бывал у него, и он бывал в нашем доме. Он был человек очень образованный, много читал, много путешествовал и полон был умственных интересов. Никто не сомневался в его безукоризненной честности и доброте. А между тем даже лучшие его приятели говорили о нем всегда с некоторою иронией. Во всем его существе была какая-то медленность, неуклюжесть и тяжеловатость, которые для посторонних заслоняли его прекрасные качества и делали его малопривлекательным в обществе. Он и сам это сознавал. Грановский рассказывал мне, что однажды Мельгунов его тронул, признавшись, что он сам чувствует себя непомерно скучным. Он объяснял это тем, что в детстве он как-то ушиб себе голову, и с тех пор в его мозгу все совершается необыкновенно медленно. Шутки он понимал и начинал смеяться, когда уже все давно стали говорить о другом. Когда же он сам принимался шутить, то выходило нечто весьма курьезное. Однажды в ту пору, как Павлов издавал «Наше Время», Мельгунов пришел к обеду с важным видом и объявил, что он принес статью для журнала. После обеда мы уселись слушать, но пришли в полное недоумение: статья начиналась с того, что теперь в Москве очень холодно; чтобы помочь этому горю, предлагалось провести подземные трубы из Сахары. Этот проект излагался необыкновенно пространно и подробно. Наконец, Павлов не вытерпел: «Да, ради бога, – воскликнул он – что же это, наконец, такое?» «Ну как же ты не понимаешь? – отвечал Мельгунов, – это шутка. Ведь нельзя же в газете печатать одни серьезные статьи, надобно иногда позабавить публику. Вот я для тебя и придумал». Ему с трудом могли объяснить, что шутка должна быть прежде всего смешна. Павлов, который в иронии был великий мастер, нередко потешался над своим приятелем и писал на него забавные стихи. Помню следующую пародию на песню Земфиры:
Старый друг, верный друг,
Режь меня, жги меня,
Фейербаха люблю,
Умираю любя.
Он зимы холодней,
Суше летнего дня,
Как он мыслью своей
Развивает меня!
Как читаю его
Я в ночной тишине,
Как смеюся тогда
Я родной стороне!
Но Мельгунов влюблялся не в одного Фейербаха. Под этою серьезною и холодною наружностью, под этою медленностью в манерах и речах скрывались пылкие страсти – к женщинам и к игре. Всякая женщина могла поймать его на удочку и вертеть им, как хотела. В тот год, когда мы вступали в университет и жили на даче около Петровского парка, вдруг из Германии пришло известие, что Мельгунов женился и едет в Москву. Павлов и Шевырев, которые оба были ближайшими его друзьями, отправились с букетами на первую станцию, чтобы встретить молодую чету На обратном пути они заехали к нам, как опущенные в воду. Оказалось, что Мельгунова подцепила какая-то в черных локонах еврейка, с которою он связался и которая женила его на себе. Можно себе представить, как она пришлась к московскому литературному кружку. Чтобы веселить свою супругу, Мельгунов давал маленькие балы, на которые приглашал всякого рода молодых людей. Но супруга все-таки скучала неистово и несколько лет спустя уехала обратно в Германию, бросив мужа, который дал ей порядочную сумму денег. На этом он не остановился; похождения продолжались до преклонных лет. От большого состояния не осталось почти ничего. Когда я поехал за границу, я навестил его в Гомбурге, где нашел его без гроша, но с француженкой и при рулетке.
Для поправления обстоятельств он принялся писать романы, ожидая от них большой прибыли. На этом поприще он подвизался еще в молодых летах. Мне однажды попалась в руки небольшая книжка его юношеских рассказов. Редко мне случалось читать что-нибудь более забавное по своей нелепости. Это были какие-то бесконечно запутанные сети самых невозможных интриг. Романы, писанные им в старости, кажется, никогда не появлялись в печати, по крайней мере, имя его оставалось неизвестным. Но об них ходили разные анекдоты. Однажды П. В. Анненков встречает его на улице, против обыкновения быстро шагающего с озабоченным видом. «Куда это вы так спешите, Николай Александрович?» – спросил он. «Бегу к Краевскому. Я пишу для него роман и хочу попросить его съездить к цензору и спросить, как лучше в цензурном отношении: чтобы мой герой утопился или чтобы он сделался счастлив? Для меня это безразлично».
К романам у него, очевидно, не было ни малейшего таланта. Но политические статьи, напечатанные в «Голосах из России», как то: «Мысли вслух об истекшем тридцатилетии», «Россия в войне и мире», «Приятельский разговор», показывают, что он вовсе не был лишен дарования. Они написаны умно, последовательно, живо, в умеренном тоне, местами даже с некоторым красноречием. Ясно, что это было настоящее его призвание. Если бы он ему последовал, то с его образованием и его основательностью, он мог бы занять довольно видное место в нашей литературе. Но он принялся за это уж на старости лет, и его хватило лишь на несколько статеек.
С нетерпением ожидали мы выхода первой книжки «Русского Вестника». Я с жадностью на нее накинулся, как только получил ее в руки. Но увы, какое было горькое разочарование! Более чем посредственная повесть Евгении Тур, скучнейшая статья Кудрявцева о Карле V и, наконец, статья Каткова о Пушкине, вот все существенное, что в ней заключалось. Я думал в последней, по крайней мере, встретить живое слово; читаю, читаю и нахожу только один бесконечный туман. В отчаянии я побежал наверх к своим сожителям и прочел им несколько страниц, в которых невозможно было отыскать какой-либо смысл. Мы повесили головы. Стоило ли собирать все наличные литературные силы, чтобы после долгого молчанья явиться перед публикой с таким результатом? Мы вспоминали первую книжку «Современника» 1847 года и сравнивали ее с первенцем нынешней московской редакции. Одна была надежда, что с появлением славянофильского органа, который тоже был разрешен, оживится полемика, и выдвинутся на первый план серьезные современные вопросы. Эта надежда нас не обманула.
Сдавши в редакцию статью о сельской общине, я поехал в Петербург и представил Кавелину свои рукописные произведения. Он выразил мне полное удовольствие и заметил только, как уже сказано выше, что о возможности перемены образа правления в будущем лучше пока умалчивать, а, напротив, следует напирать на то, что теперь этого никто не желает. Решено было послать всю нашу рукописную литературу для напечатания к Герцену, который в это время начал издавать «Колокол» и призывал всех русских к содействию. Однако направление Герцена, выразившееся в «Полярной Звезде» и в разных речах и брошюрах, было до такой степени противно нашим целям и убеждениям, что мы нашли вместе с тем нужным послать ему письмо с заявлением несогласия с его взглядами. Уже Грановский возмущался «Полярною Звездою» и перед смертью писал Кавелину, что у него чешутся руки отвечать Герцену в собственном его издании. Теперь, когда перед нами открывалось новое политическое поприще, по которому надобно было идти с крайнею обдуманностью и осторожностью, протест был вдвойне необходим. Я взялся его написать. Это было «Письмо к издателю», напечатанное в виде предисловия к «Голосам из России». Одобрив его вполне по существу, Кавелин счел однако нужным прибавить нечто от себя в более мягком тоне. Он приделал начало, так что письмо вышло писанное двумя руками. Первая половина, до 20-й страницы, принадлежит Кавелину, вторая половина мне. В таком виде оно и появилось в «Голосах из России»[161]161
«Голоса из России», в. I, Лондон, 1856 (подпись: «русский либерал»).
[Закрыть].
Вернувшись в Москву, я нашел первую половину своей статьи «О сельской общине»[162]162
«Обзор исторического развития сельской общины в России» («Русск. Вестник», 1856, т. I, стр. 373–386, 579–602, перепеч. в «Опытах по истории русского права», М., 1858).
[Закрыть] уже напечатанною в «Русском Вестнике». Вопрос был животрепещущий, и статья произвела эффект; все о ней говорили. Я с некоторым удовольствием увидел впервые свое имя в печати; однако, не полюбопытствовал даже просмотреть статью, чтобы удостовериться, нет ли в ней опечаток. И что же оказалось? Несколько дней спустя, приходит ко мне корректор «Русского Вестника» с листками второй половины, которая должна была явиться в следующей книжке. Он показывает мне два листка, которые не знает, куда приклеить. Я начинаю разбирать и к ужасу своему вижу, что эти листки принадлежат к первой половине. Они по ошибке были пропущены, а между тем заключали в себе самое существеннее. Я немедленно полетел к Каткову. Не могу и теперь без смеха вспомнить его сконфуженную и растерянную физиономию при этом известии. Пришлось всю статью перепечатать вновь в следующем номере. Любопытнее всего то, что никто из читавших не заметил этого пробела. Это показывает, каку нас тогда печатали и как читали.
Наконец, вышел и первый номер «Русской Беседы». Вслед за тем возгорелась полемика. Оба лагеря стояли теперь друг против друга, во всеоружии, каждый со своим органом. Опишу главных деятелей, как я их знал и понимал. Постараюсь по возможности отрешиться от чисто личных отношений, давно похороненных на кладбище прошлого, хотя, разумеется, могу передать только свои личные впечатления. В этом, в сущности, заключается вся цель и все значение воспоминаний. Пускай другие изобразят тех же людей с той стороны, с какой они их знали.
Во главе «Русского Вестника» стояли Катков, Леонтьев и Корш. Из них первенствующую роль играл Катков. Как сказано выше, я был его слушателем, но лично почти не был с ним знаком и тут в первый раз узнал его поближе. Он с самого начала произвел на меня неблагоприятное впечатление. Его маленькие, тусклые и блуждающие глаза, обличавшие что-то затаенное и недоброе, глухой его голос, его то смутная, то порывистая речь, то растерянные, то слишком решительные приемы, отсутствие той искренности и общительности, которые привлекают и связывают людей, все это несколько меня отталкивало. Я чуял в нем недостаток истинно человеческих чувств и спорил о нем даже с близкими людьми, которые подкупались его умом и талантом. Последствия показали, что мое чутье было верно.
Катков бесспорно был человек чрезвычайно умный и даровитый. Он обладал широким литературным образованием и умел выражаться ловко, изящно, иногда даже красноречиво. К сожалению, он в молодости подготовлялся специально к тому, что вовсе не было его призванием. Кончив курс на словесном факультете, он еще очень молодым человеком примкнул к кружку Станкевича и Белинского, в котором господствовали отвлеченные философско-литературные интересы. И он вступил в него именно в ту пору, когда главное лицо этого кружка, Станкевич, которого глубокая и изящная натура давала возвышенное направление всем окружающим, уехал за границу. Его влияние заменилось сухою диалектикою Бакунина, который остался главным толкователем немецкой философии в Москве. Он сбивал с толку Белинского; под его влиянием и Катков начал свои философские занятия. Затем он отправился в Берлин, где слушал лекции Шеллинга. Он сделался приверженцем его мистической мнимо-положительной философии, с которою соединял и поклонение реалистической психологии Бенеке. Уже это одно сочетание показывает, что философского смысла было мало. Непонятные лекции, читанные им в Московском университете, еще более обнаружили царствующий в голове туман, который переходил и на литературные взгляды. Об этом свидетельствует смутившая меня статья о Пушкине. Очевидно, Катков не в состоянии был давать философское и литературное направление журналу. Впоследствии выяснилось, что истинное его призвание была публицистика; но именно к этому он вовсе не был подготовлен. Историческое его образование было весьма скудное, юридическое отсутствовало совершенно, а политическое ограничивалось верхушками, хватаемыми из газет. Погрузившись в журнальную деятельность, он, конечно, не мог восполнить этого недостатка. При всем его уме, таланте и живом чутье общественных течений, всегда ощущалось отсутствие прочного основания. У него не было ни зрело обдуманных взглядов, ни выработанных жизнью убеждений. В течение всей своей публицистической деятельности он не высказал ни одной серьезной политической мысли. Постоянно ратуя во имя тех или других принципов, он никогда не касался применения, а если что предлагал, то всегда невпопад. Самые принципы менялись у него по воле ветра. Он отдавался одностороннему потоку с тем холодным увлечением, которое было свойственно ему, так же как и учителю его Бакунину; но лишенный твердой основы, он легко переходил от одной крайности в другую, сегодня покрывая позором то, что он возвеличивал вчера.
Такие повороты ничего ему не стоили. Это не было страстное искание истины, как у Белинского, который, будучи также лишен основательной подготовки, путем внутренней борьбы и мучений переходил от одного взгляда к другому, по мере того, как перед ними открывались новые горизонты. У Каткова повороты вызывались чисто практическими потребностями, к которым примешивались и личные расчеты. Они всегда клонились к его выгоде. И раз он эту выгоду узрел, он шел к ней неуклонно, не взирая ни на что и не допуская никаких возражений. Атак как при этом самолюбие было громадное, а уважения к чужому мнению не было ни малейшего, то все должно было подчиняться временно составившемуся у него убеждению. Мысль редакции должна была служить законом для сотрудников. Естественно, что при таком направлении, журнал не мог сделаться центром и органом для людей, обладающих самостоятельною мыслью. Тут требовались клевреты, а не сотрудники. Сначала, все что было мыслящего в Москве и что не принадлежало к славянофильскому направлению, собралось около редакции «Русского Вестника». Пока издание не упрочилось, в виду собственных выгод редакция воздерживалось. Но не прошло двух лет, как один за другим все сколько-нибудь самостоятельные люди были вытеснены, и «Русский Вестник» остался личным органом Каткова. Ниже я расскажу эту печальную повесть.
Однако у редактора было слишком мало собственного серьезного содержания, чтобы дать жизнь и направление периодическому изданию, которое должно было служить проводником всех разнообразных человеческих интересов, составлявших потребность современности. Истинное его поприще была ежедневная газета. Как скоро он получил «Московские Ведомости», «Русский Вестник» перешел в руки второстепенных агентов и потерял всякое общественное значение. Сам же Катков всецело отдался газете, в которой вполне проявились как его блестящие, так и его непривлекательные стороны. Тут он мог с чутьем истинного журналиста следить за каждым дуновением ветра, как снизу, так и сверху, играть страстями, возбуждать всякие темные инстинкты, прикрывая их возвышенными целями, вести самую задорную ежедневную полемику, в которой он был первый мастер. Чтобы выказался его талант, ему нужна была борьба, и он отдавался ей весь, забывая все остальное, кидаясь сам в противоположную крайность, и стараясь всячески забросать грязью противника. Никто не умел так ругаться, как он. Он делал это с тем большим успехом, что не стеснялся ничем. В нем было полное отсутствие всякой добросовестности, всякого нравственного чувства, даже всяких приличий. Уважающие себя люди перед этим отступали. Не было возможности вести полемику с Катковым, не замаравшись. Но на массу русской публики, не привыкшей к приличию и не вникающей в смысл печатного слова, это действовало тем более неотразимо, что самая площадная брань выступала во имя высоких чувств и потакала общественным страстям. Это проявилось особенно резко во второй период его журнальной деятельности, когда он от крайней англомании, которою он одержим был в первые годы издания «Русского Вестника», внезапно повернул к исключительному патриотизму. С верным практическим чутьем, Катков в критическую минуту ухватился за патриотическое знамя и с свойственным ему талантом поднял его так высоко, что даже порядочные люди могли ему сочувствовать. Но это было одно мгновение. Лишенный всякой нравственной основы, скоро он это знамя окунул в пошлость и грязь. Святое чувство любви к отечеству было низведено им на степень чисто животного инстинкта, в котором исчезало всякое понятие о правде и добре, и оставался один народный эгоизм, презирающий все, кроме себя. Это было явление новое в тогдашней литературе. Исключительный патриотизм славянофилов основывался на том, что они в русском народе видели носителя высших христианских начал, провозвестника новых, неведомых миру истин. Патриотизм настоящих западников состоял в усвоении для отечества высших плодов европейского просвещения. Катков разом откинул всякие человеческие начала и выступил защитником народности в самой низменной ее форме, с точки зрения чисто реальных интересов, понятых в совершенно материальном смысле. Все должно было безусловно преклоняться перед грубою силою русского государства, налагающего однообразную печать на все подчиненные ему жизненные сферы. Всякое самостоятельное проявление жизни считалось изменою, всякий возражатель объявлялся врагом отечества. Это была именно та форма патриотизма, которая ближе всего подходила к самым пошлым воззрениям масс. И толпа благоговейно внимала этому новому журнальному богатырю, ополчившемуся пером на защиту Русской земли. Вяземский метко характеризовал это настроение значительной части тогдашнего русского общества:
Все это вздор, но вот, в чем горе:
Бобчинских и Добчинских род,
С тупою верою во взоре,
Пред ним стоит, разинув рот;
Развесят уши и внимают
Его хвастливой болтовне
И в нем России величают
Спасителя внутри и вне.
О, Гоголь, Гоголь, где ты? Снова
Возьмись за мастерскую кисть
И, обновляя Хлестакова,
Скажи: да будет смех! и бысть.
Смотри, как он балясы точит,
Как разыгрался в нем задор,
Теперь он не уезд морочит,
Он всероссийский ревизор!
Катков был, однако, слишком умен, чтобы довольствоваться поклонением толпы; оно было ему нужно только как орудие. В сущности, он презирал русское общество и сам говорил, что для него не стоило бы даже писать. На общественные собрания он никогда влияния не имел. Он пробовал действовать в Московской городской думе, но весьма неудачно. Я присутствовал в числе публики на заседании, в котором он делал разные предложения и при голосовании вставал за них один одинехонек. Вследствие этого он тотчас вышел из гласных и с тех пор возненавидел выборные собрания, обзывая их пустыми говорильнями. В одной газетной болтовне он видел спасение, ибо это было его ремесло. Журналист, возбуждающий общественные страсти и с помощью их действующий на правительство, таков был его идеал. Скоро, однако, он убедился, что этого недостаточно. Он слишком возмечтал о своей силе и пересолил. Дерзость его дошла до того, что даже колеблющийся Валуев принужден был принять решительные меры: журнал был приостановлен. Тогда он обратился к другим средствам. Он написал государю письмо, вследствие которого выход «Московских Ведомостей» был снова разрешен до истечения срока. Е. Ф. Тютчева, которой императрица давала прочесть это письмо, говорила, что она никогда в жизни не читала ничего более подлого. Катков начинал с того, что он родился в один год с государем и считал себя призванным прославлять его царствование. Со своею проницательностью и полною неразборчивостью в средствах, он понял, что в самодержавном правлении грубая лесть составляет самое надежное орудие действия и с тех пор выступил рьяным защитником власти. Последовавшие затем покушения нигилистов могли только усилить его значение. Правительство видело в нем опору.
И эта лесть продолжалась до той минуты, когда государь, которого он рожден был прославлять, пал жертвою убийц. Тогда он принялся кидать в него грязью, позорить все славные дела его царствования. Началась лесть другого рода; проповедовалось возрождение павшего правительства: «Господа вставайте! Правительство идет, правительство возвращается!» И это бесстыдное каждение, в свою очередь, возымело свое действие. Катков из-за журнального стола сделался чуть ли не властителем России. Министры перед ним трепетали; второстепенных чиновников он трактовал, как лакеев. Несчастный Делянов, всегда трусливый и раболепный, делал все, что требовал его журнальный патрон. Граф Толстой, который терпеть не мог Каткова за то, что тот опрокинулся на своего прежнего союзника после его падения во времена Лорис-Меликова, считал все-таки нужным его поддерживать и с ним считаться.
В угоду Каткову, без малейшего повода и без малейшего смысла, все русские университеты были поставлены вверх дном. И на этот раз, однако, он зазнался и пересолил. Он вздумал быть такою же силою в иностранных делах, какою был в делах внутренних. С переменою царствования он и тут произвел внезапный поворот фронта, стараясь подладиться к новому направлению: из защитника союза с Германией он вдруг сделался поборником союза с Францией. Но не довольствуясь журнальной пропагандой, он захотел влиять на самый ход дел и дошел до того, что от себя посылал в Париж известного негодяя, генерала Е. В. Богдановича, чтобы вести переговоры с французским правительством. Рядом с этим он пытался обделать и свои денежные делишки: выхлопотать новые, значительные субсидии для основанного им и Леонтьевым на казенные деньги лицея, состоявшего в полном его распоряжении. Все это всплыло наружу и повредило ему при дворе. Перед смертью ему оказана была немилость, которая, говорят, ускорила его конец.
Немного людей в России, которые сделали столько зла отечеству. Он низвел русскую литературу с той идеальной высоты, на которой она стояла в начале царствования Александра II и потопил ее в болотную грязь. Выступив на журнальное поприще в то время, когда спали узы, стеснявшие русскую мысль, и когда именно журналистика получила преобладающее значение, он со своим умом и талантом занял в ней первое место. Но вместо того чтобы высоко держать благородное знамя, завещанное предшественниками, он отбросил всякие нравственные требования и даже всякие литературные приличия. Он русских писателей и русскую публику приучил к бесстыдной лжи, к площадной брани, к презрению всего человечества. Он явил развращающий пример журналиста, который, злоупотребляя своим образованием и талантом, посредством наглости и лести достигает невиданного успеха. И этот успех он обратил в орудие личных своих целей. Он поддерживал то, что доставляло ему выгоду, даже то, что ему хорошо оплачивалось. Железнодорожные деятели приносили ему крупные суммы. Мне подлинно известно, что учредители Моршанско-Сызранской линии дали ему из рук в руки 5000 рублей. По достоверным сведениям, он пользовался и приношениями евреев. После его смерти его наивная жена потребовала из Московская Поземельного банка на десять тысяч купонов с лежавших там бумаг ее мужа и не хотела верить, когда ей объявили, что никаких бумаг там не обретается: эти десять тысяч были ежегодным приношением Лазаря Соломоновича Полякова. Все расчеты университета по аренде «Московских Ведомостей», благодаря жалкому министерству, обращались к обогащению редакции. Но Катков не довольствовался приобретением крупного состояния; ему нужны были власть и влияние. Пока он думал, что можно получить их опираясь на общественное мнение, он был рьяным либералом; но как скоро он понял, что гораздо выгоднее опираться на правительство, он сделался главным проводником и глашатаем той тупой реакции, которая тяжелым бременем легла на Россию.
Прежде всего его деятельность проявилась в близкой ему сфере народного образования. Бывший профессор и защитник университетов, он, потерявши в них почву, предпринял против них поход, которого бесстыдство тем более поразительно, что ему хорошо были известны истинные отношения. Он сознательно и намеренно представлял все в совершенно превратном виде. Благодаря Каткову, в университетах водворился хаос, погубивший многие поколения. Об этом я ниже расскажу подробно. Такими же личными целями направлялся и его поход в пользу классического образования. Сам он был классический филолог, а друг его Леонтьев был профессор древних языков. Оба они задумали на заимствованные у казны средства основать классический лицей, который должен был служить центром, образцом всего среднего и даже высшего образования в России. В этих видах и печатно, и за кулисами они стали проводить крайнюю классическую программу, для которой и общество не было приготовлено, и правительство не имело надлежащих орудий. Но об этом никто не заботился. Начертать программу в кабинете, конечно, гораздо легче, нежели приготовить хороших учителей. Вместо того, чтобы соображаясь с практикою улучшить умеренно классический устав 1863 г., хотели произвести огромный эффект и разом перевернуть всю систему. Для достижения этой цели пускались в ход всякие средства. Невинных членов Государственного совета, не имевших понятия о классических языках, Катков успел убедить, что ничто так не способствует развитию консервативных идей, как зубрение латинской и греческой грамматики. На русские школы разом была наложена формальная схема, которая не могла иметь иных последствий, как возбуждение в русском обществе ненависти к классическим языкам. Истинные друзья классицизма не могли об этом не скорбеть. И когда в настоящее время, под напором вопиющей действительности, приходится, наконец, разделывать ту сеть бездушного классического формализма, которою Катков опутал и учреждения и умы, эта задача возлагается на тех же ничтожных клевретов, которыми он наполнил министерство. При таких условиях, о серьезном улучшении не может быть речи. Долго еще русское просвещение не в состоянии будет залечить те раны, которые нанес ему этот человек.