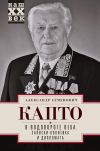Текст книги "Воспоминания. Том 1. Родители и детство. Москва сороковых годов. Путешествие за границу"
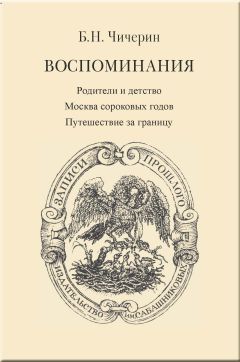
Автор книги: Борис Чичерин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 42 страниц)
В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена,
Безбожной лести, лжи тлетворной
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна.
Хомяков призывал Россию к покаянию:
О, недостойная избранья,
Ты избрана! Скорей омой
Себя водою покаянья,
Да гром двойного наказанья
Не грянет над твоей главой.
С душой коленопреклоненной,
С главой лежащею в пыли,
Молись молитвою смиренной
И раны совести растленной
Елеем плача исцели.
Но нужна была совершенно детская вера в спасительную силу молитвы и исповеди, для того, чтобы вообразить себе, что народ может в одно прекрасное утро покаяться, сбросить с себя все грехи и затем встать обновленным и разить врагов врученным ему божьим мечем. Те, которые глубже понимали исторические задачи, знали очень хорошо, что для истинного обновления нужны многие годы и много бескорыстного и самоотверженного труда. Положение русских людей, которые ясно видели внутреннее состояние отечества, было в то время трагическое. Тут дело шло уже не о внешних победах, а о защите родного края. Русское сердце не могло не биться при рассказах о подвигах севастопольских героев. А между тем, нельзя было не видеть, что победа могла только вести к упрочению того порядка вещей, который с такой горечью и с такою силою бичевал Хомяков, к торжеству того бездушного деспотизма, который беспощадно давил всякую мысль и всякое просвещение, уничтожал всякие благородные стремления и всякую независимость. Мудрено ли, что Грановский писал в одном письме, что он хотел бы пойти в ополчение, не затем, чтобы желать победы России, а затем, чтобы за нее умереть.
Изучая историю, я все более убеждаюсь, что война бывает полезна, главным образом, побежденным, если только в них есть довольно силы, чтобы воспользоваться своим поражением для внутреннего обновления. Редки те минуты в историческом развитии народов, когда победа является результатом долгих трудов и усилий и возвещает зарю новой жизни. Такова была Полтавская битва. Как часто, напротив, упоение успехом становится источником нового зла. Победы Наполеона были благом для побежденных, но Францию они привели к деспотизму и к разорению. У нас за великими войнами 12-го 13-го и 14-го годов следовал период аракчеевщины. И на наших глазах, что породили победы Германии, как не тяготеющий над Европою невыносимый милитаризм, господство грубой силы, презрение ко всему человеческому? Сколько неизмеримо выше стояла раздавленная Пруссия 1807 года, воспрянувшая с такою изумительною энергиею! Точно так же и Крымская война была, в сущности, полезна только для нас. Поражение открыло перед нами новую эру.
Среди этого военного грома, 12 января 1855 года Московский университет праздновал свой столетний юбилей. Депутации и гости стеклись со всех концов России. Торжество было громадное, но печальное для истинных друзей просвещения. Нельзя было не скорбеть душою, видя, как низко пало учреждение, еще недавно стоявшее так высоко. Им управлял военный генерал; в нем властвовало все пошлое и раболепное. В самое это время в нем вводилось военное обучение. Студентов ставили во фронт и заставляли маршировать на университетском дворе. На самом празднестве пошлость выдвигалась вперед на каждом шагу, в каком-то умиленном упоении. Шевырев написал раболепную кантату, которая декламировалась на акте с аккомпанементом оркестра. И все завершилось обедом, который профессора дали попечителю. Грановский поехал, чтобы не подавать повода к новым нареканиям. Но трое из молодых профессоров: Леонтьев, Кудрявцев и Соловьев отсутствовали, притом не предупредив Грановского. Поступок был нехороший. Никогда я не видел Грановского так возмущенным. От сторонних, конечно, всего можно было ожидать; но тут ближайшие его товарищи, с которыми он был в самых дружеских отношениях, оказали ему такое неуважение. «Нет, это подло!» – воскликнул он, наконец. Виновником, разумеется, был Леонтьев. На обеде Шевырев прочел торжественную оду в честь Назимова, которого он возвеличивал в напыщенных строфах. Она начиналась так:
Тебе судил всевышний с нами
Столетний праздник пировать,
За то, что нашими сердцами
Умеешь мирно обладать,
За то, что чтишь отцов преданье,
Науки любишь красоту,
И ценишь высоту познанья,
Но больше сердца чистоту.
Когда эти стихи появились в печати, я тотчас написал пародию, стараясь сохранить все обороты и даже рифмы. Привожу ее как выражение тогдашнего настроения:
Тебе судил всевышний с нами
Столетний праздник пировать,
За то, что мерными шагами
Умеешь ты маршировать,
Что чтишь на службе ты дубину,
Мундиров любишь красоту,
За то, что ценишь дисциплину
А также комнат чистоту.
Тупей последнего солдата,
Честолюбив, как дворянин,
Пристроил тестя ты и брата,
Ты в службе верный семьянин.
Служа с безграмотностью барской,
Ты фрунту предан целиком,
Ты генерал по воле царской,
А все ж остался дураком.
Себя комедией взаимно
Мы потешали всей семьей;
Когда читали строфы гимна,
Как все смеялись, боже мой!
Наш праздник глупость острамила
Но подлость скрасила его;
В одной лишь подлости есть сила
В ней радость, слава, торжество[152]152
В пародируемом тексте было:
Любовь наш праздник озарила,Любовь украсила егоВ одной любви живая сила,В ней радость, слава, торжество
[Закрыть].
Наш храм под высшим попеченьем
Давно покорствует судьбе,
Но днесь военным обученьем
Он опозорен при тебе.
Да, много гадостей в нем было,
Властям тупым благодаря,
Но все те мерзости затмило
Даянье новое царя.
И этот праздник омраченья
Вершим мы пиром в честь твою
Подай нам, господи, терпенья,
Чтоб выносить тебя, свинью![153]153
В пародируемом тексте было:
И этот праздник просвещеньяВершим мы пиром в честь твоюПошли, господь, благословеньеНа милую твою семью!
[Закрыть]
Но тщетный ропот не поможет,
Мы шлем начальнику привет:
Блажен, кто удалиться может,
Кто не приехал на обед.
Крепка военной власти сила,
Твоих безмерна глупость дел;
Но мудрость божья положила
Величью нашему предел,
И будь ты во сто раз сильнее
А все ж не сделаешь никак
Чтоб был Альфонский поумнее,
Чтоб Шевырев был не дурак.
Я прочел эту пародию Павлову, который пришел от нее в восторг, и все носился со стихами, увы, даже поныне не потерявшими своего значения:
В одной лишь подлости есть сила,
В ней радость, слава, торжество.
Но отец пришел в ужас от моей неосторожности и разрешил мне сказать эти стихи одному только Грановскому, а затем не давать их решительно никому. Я так и сделал, но тут же пустился в более опасные предприятия. На юбилей прибыл из Петербурга Кавелин. Однажды он приехал ко мне и стал говорить, что положение с каждым днем становится невыносимее и что так нельзя оставаться. О каком-либо практическом деле думать нечего, печатать ничего нельзя; поэтому он задумал завести рукописную литературу, которая сама собою будет ходить по рукам. С этим предложением он к первому обратился ко мне, надеясь найти во мне сотрудника. Я с жадностью ухватился за эту мысль, которая давала исход моим либеральным убеждениям и моему стремлению к деятельности. Решено было, что я для пробы напишу статью и в феврале привезу ее показать ему в Петербург. Кавелин крепко заказал мне хранить все это в глубочайшей тайне и не говорить об этом даже Грановскому, опасаясь, чтобы он как-нибудь не проговорился. Я обещал, ибо сам видел, что за это можно сильно поплатиться, и если для себя ничего не боялся, то отнюдь не хотел огорчать родителей.
Я с жаром принялся за работу и скоро написал статью о животрепещущем вопросе дня под заглавием «Восточный вопрос с русской точки зрения»[154]154
Напечатано в приложении к книге: «Записки князя С. П. Трубецкого», СПб., 1906.
[Закрыть]. В половине февраля я собрался отвезти ее в Петербург. Все уже было у меня готово, и я должен был ехать на следующий день, как вдруг пришла из Петербурга громовая весть: император Николай скончался! Все были ошеломлены, ибо никто не подозревал даже его болезни. Я немедленно поскакал к Грановскому, который уже знал об этом событии. Впечатление было потрясающее. Казалось, что рухнул колосс, который все давил и никому не давал вздохнуть. С ним вместе разрушался и созданный им ненавистный порядок вещей. Что сулило будущее, этого еще никто не мог сказать; оно скрывалось под туманною завесою. Но в настоящем почувствовалось внезапное облегчение, как будто гора свалилась с плеч, и дышать стало свободнее. Разом пробудились и бодрость духа, и светлые надежды на лучшие времена.
Маленькая простуда удержала меня дня два в Москве. Наконец я поехал. Я должен был остановиться у брата Владимира, который служил тогда в гатчинских кирасирах и жил на Галерной. Но проехать к нему с железной дороги не было возможности. Я попал в самую минуту похорон. Улицы были запружены народом. Оставив тут извозчика с чемоданом, я нанял скамейку и влез на нее, чтобы посмотреть на процессию. Передо мною тянулись длинные ряды полков с траурными знаменами, шли пешком представители всех учреждений, государственные сановники, придворные чины; церемониймейстеры ехали верхом в раззолоченных мундирах. Наконец, явилась пышная погребальная колесница, на которой покоились останки умершего монарха, и за нею спокойно и с грустным видом шел высокий и тогда еще стройный новый государь. Все это тихо двигалось через Николаевский мост к Петропавловской крепости. Погребался не только русский царь, тридцать лет безгранично властвовавший над Россиею, но вместе с ним и целый порядок вещей, которого он был последним представителем. В Николае I воплотилось старое русское самодержавие во всей своей чистоте и во всей своей неприглядной крайности. Внешнее впечатление он производил громадное. В нем было что-то величавое и даже обаятельное. Он чувствовал себя безграничным владыкою многих миллионов людей, избранным богом главою великого народа, имеющего высокое призвание на земле. Он знал, что единое его слово, единое мановение может двигать массы; он знал, что по прихоти своей воли он может каждого из этих многих миллионов возвеличить перед всеми или повергнуть в ничто. Это гордое чувство силы и власти отражалось на всем его существе. Самая его высокая и красивая фигура носила на себе печать величия. Он и говорить умел, как монарх. Действие на приближающихся к нему часто бывало неотразимое. Всякий чувствовал, что он видит перед собою царя, предводителя народов.
Но под этим внешним величием и блеском скрывалась мелкая душа. Он был деспот и по натуре, и по привычке, деспот в полном смысле слова. Он не терпел никакой независимости и ненавидел всякое превосходство. Даже внешняя красота оскорбляла его в других. Он терпеть не мог совершено безобидного Монго-Столыпина за то, что он слыл первым красавцем в Петербурге. Он один должен был быть все во всем. В каждой отрасли и сфере он считал себя знатоком и призванным руководителем. Никто ни в чем не должен был с ним соперничать, и все должны были перед ним преклоняться и трепетать. И эта непомерная гордыня, это самопревознесение не знающей границ власти не смягчались, как у Людовика XIV, приобретенными в образованной среде привычками утонченной вежливости. Они соединялись с чисто солдатскими ухватками и проявлялись над беззащитными людьми во всей своей грубости и наглости. Он как зверь обрушивался иногда на несчастного юношу, который стоял или смотрел не так, как требовалось его идеалом солдатской выправки.
Я слышал об этом самые удивительные рассказы очевидцев. В нем не было и смягчающего необузданные порывы власти милосердия или жалости. Ни в чем не повинные или виновные лишь в юношеском легкомыслии молодые люди в течение многих лет подвергались самым суровым наказаниям. Вся жизнь их беспощадно комкалась и ломалась. Декабристов он гнал до конца, не выпуская их из ссылки и не позволяя им даже воспитывать своих детей в России. Батенкова он тридцать лет без всякого повода держал в одиночном заключении[155]155
Декабрист Гавриил Степанович Батеньков (1793–1863), двадцатилетний срок отбывал в форте Сзартгольме на Аландских островах и в Петропавловской крепости в очень тяжелых условиях, затем был сослан в Томск на поселение; дожил до амнистии.
[Закрыть].
Однако, когда он хотел, он умел быть приятным и даже обворожительным. Чувство власти не исключало в нем лицемерия, когда оно требовалось для его целей. С иностранцами он кокетничал, стараясь выказываться перед ними вовсе не таким, каким он был наделе. Он кокетничал перед Гумбольдтом[156]156
Гумбольдт (1769–1859), знаменитый немецкий географ, посетил Россию в 1829 г.
[Закрыть]; он кокетничал перед Мурчисоном[157]157
Мурчисон (1792–1871), выдающийся английский геолог, совершил научно-исследовательское путешествие по России в 1840 и 1841 гг., результатом которого явилось капитальное исследование по геологии Европейской России, напечатанное в 1845 г.
[Закрыть], который называл его «мой коронованный друг». В действительности же ему не было ни малейшего дела ни до науки, ни до образования, которые он в России старался подавить, нисколько позволяло приличие. Он пытался обворожить и Гамильтона Самура[158]158
Сэр Гамильтон Сеймур (1796–1880), английский посланник в Петербурге в 1851–1854 гг.
[Закрыть], но на этот раз это ему не удалось.
Иногда кокетство обращалось и на подданных, которых он почему-либо хотел к себе приманить. Он очаровал вышедшего в отставку Ермолова, которого уговорил вступить на службу с тем, чтобы уронить его популярность и затем оставить на всю жизнь заштатным генералом. Он кокетничал с Пушкиным, вернув его из ссылки и взявшись быть цензором его стихотворений; он кокетничал даже с Юрием Самариным, который был посажен под арест за «Рижские письма» и затем прямо из заключения был привезен в кабинет государя. Пушкин поддался искушению и отплатил за это стихами, в которых возвеличивал нового царя; но после неожиданной смерти великого поэта всякие печатные восхваления его памяти были строжайшим образом запрещены, ибо монарх не терпел похвал, расточаемых другому. Точно так же Тургенев был посажен на гауптвахту за сочувственную статью по поводу смерти Гоголя.
Ему нужно было не только привлечь к себе людей, которых он не считал возможным преследовать; ему надобно было их нравственно унизить. Пушкин должен был состоять на службе: его против воли произвели в камер-юнкеры. Николай терпел вокруг себя только людей, искушенных в придворной лести или совершенные ничтожества. В начале своего царствования он был еще несколько разборчивее. Он вступил на престол при смутных обстоятельствах, а между тем, хотел прославиться и перед Европою играть роль просвещенного монарха. От своего предшественника он получил целую фалангу людей, если не с высокими характерами, то умных и образованных. Он ценил их, старался сделать их покорными орудиями своей воли, в чем нетрудно было успеть; они составили славу его царствования. Но чем более он привыкал к власти и исполнялся чувством своего величия, тем более он окружал себя раболепным ничтожеством. Когда Вронченко заявил ему, что не чувствует себя способным быть министром финансов, Николай отвечал: «Я буду министр финансов». Причина милости, которой удостоился Вронченко, выясняется анекдотом, ходившем в то время в обществе. В ожидании выхода государя несколько министров разговаривали между собою, и Вронченко нюхал табак. В эту минуту, как государь вошел, у него между пальцами была щепоть, и он, опустив руку, стал понемногу выпускать табак на пол. Меньшиков, заметив это, улыбнулся; но государь резко сказал, что подданному делает честь, если он боится своего государя. Немудрено, что в верховных правительственных сферах, а также в окружающем двор высшем аристократическом обществе произошло громадное умственное и нравственное понижение. Чтобы убедиться в этом, стоит сравнить людей, которых Николай получил от своего предшественника, и тех, которых он передал своему преемнику. Когда пришлось приступить к реформам, среди сановников не оказалось ни одного, который был бы в состоянии руководить делом. На сцену выступили второстепенные деятели, проникнутые либеральным духом и скрывавшиеся прежде в тени.
Такое же понижение произошло и во всех сферах администрации. При всей безграничности своей власти Николай не умел провести даже той реформы, которая ближе всего лежала у него к сердцу, – освобождение крестьян. Он чувствовал, что Россия не может оставаться при том необузданном помещичьем праве, которое в то время господствовало у нас. Он любил безграничную власть, но в своих, а не в чужих руках; а тут было соперничество; все, что отдавалось помещику, отнималось у правительства. Но русского дворянства он опасался, а потому не решался принять сколько-нибудь действительные меры. Под конец вопрос совершенно замолк.
В последние годы царствования деспотизм достиг самых крайних размеров и гнет сделался совершенно невыносим. Всякий независимый голос умолк; университеты были скручены; печать была подавлена; о просвещении никто уже не думал.
В официальных кружках водворилось безграничное раболепство, а внизу накипала затаенная злоба. Все, по-видимому, повиновалось беспрекословно; все ходило по струнке. Цель монарха была достигнута; идеал восточного деспотизма водворился в русской земле.
И вдруг все это столь сурово оберегаемое здание оказалось гнилым в самом основании. При первом внешнем толчке обнаружилась та внутренняя порча, которая подтачивала его со всех концов. Администрация оказалась никуда не годною, казнокрадство было повсеместное. Положиться было не на кого; везде царствовала неспособность. Даже армия, любимое детище царя, лишена была самых необходимых для действий орудий, и все доблести русского солдата тратились напрасно в неравной борьбе. В то время как для забавы императора вводились ружья, которые на маневрах в одно мгновение производили известный звук, ружья, служащие для настоящей стрельбы, были совершенно негодны. Все было устремлено на одну внешность, а о существе дела никто не заботился. И вот одна за другою стали приходить страшные вести. Презираемый враг вступил на русскую землю, осаждал первоклассную крепость; знаменитый черноморский флот погиб; все попытки отразить неприятеля кончались поражением.
Николай этого не вынес. Он разом свалился, и с ним вместе рухнул и весь державшийся им строй. Для России наступала новая пора, которая вслед за радужными надеждами должна был принести свои скорби и свои разочарования, но уже иные, нежели прежде. Прошлое было похоронено навеки. Вместе с царскою колесницею оно двигалось в Петропавловский собор.
Литературное движение в начале нового царствования
Приехав в Петербург в день похорон Николая I, я на этот раз пробыл там довольно долго. Брат Владимир, у которого я остановился, занемог тифом. Мать, по этому случаю, приезжала на несколько дней из Москвы, и я остался при нем до конца апреля, пока он не оправился. Вскоре он, по совету докторов, вышел в отставку и переехал в деревню. Отец, который сам недомогал, передал ему управление имениями.
По обыкновению, я во все время пребывания в Петербурге, почти каждый день виделся с Кавелиным. Моею статьею о восточном вопросе он остался очень доволен и решил пустить ее в ход, но заметил, что с новым царствованием надобно писать другим тоном, более мягким и уважительным в отношении к правительству. Я сам был того мнения, и в виде пробы написал маленькую статью под заглавием «Священный союз и австрийская политика». Кавелин ее одобрил и тоже пустил в ход. Впоследствии она была напечатана в «Голосах из России». В это время к нашему заговору присоединилось еще третье лицо, которого имени Кавелин мне, однако, не открыл. «Представьте, – сказал он мне однажды, – ко мне пришел один господин и сам взялся написать статью о прошлом царствовании, с целью пустить ее в ход в виде рукописи. Я, разумеется, ухватился за это обеими руками». Через несколько времени он принес мне обещанную статью, которая также была напечатана в «Голосах из России», под заглавием: «Мысли вслух об истекшем тридцатилетии». Впоследствии я узнал, что автор ее был общий наш приятель, Николай Александрович Мельгунов, в то время проживавший в Петербурге.
Несмотря на продолжавшуюся войну, общее настроение в эти первые дни нового царствования было радостное и полное надежд. Все чувствовали, что дышать стало свободнее; все сознавали необходимость поворота во внутренней политике и с каким-то трепетным ожиданием устремляли взор к престолу. На первых порах пришлось, однако, запастись терпением. Кроме некоторой перемены лиц, которая произвела общее удовольствие, все оставалось пока по старому. Единственные преобразования, за которые тотчас принялся новый государь, состояли в перемене мундиров. На это с горестью смотрели все, кто дорожил судьбами отечества. С изумлением спрашивали себя: неужели в тех тяжелых обстоятельствах, в которых мы находимся, нет ничего важнее мундиров? неужели это все, что созрело в мыслях нового царя во время долгого его пребывания наследником? Вспоминали стихи, писанные, кажется, в начале царствования Александра I, и прилагая их к настоящему, повторяли:
И обновленная Россия
Надела красные штаны.
Непосвященные не подозревали, что образцы новых мундиров были готовы уже в последние дни царствования Николая Павловича, и молодой государь, издавая приказы о перемене формы, исполнял только то, что он считал последнею волею отца. К этому присоединялись ходившие по городу слухи об аристократических наклонностях нового царя. Петербургская чиновная и придворная знать возмечтала о том, что она будет играть первенствующую роль в государстве. По этому поводу остался у меня в памяти один разговор. Известный впоследствии писатель Владимир Павлович Безобразов, в то время еще молодой человек, только что выступавший на литературное поприще, однажды пригласил к себе вечером несколько гостей. Были Д. А. Милютин, Кавелин, Е. И. Ламанский [159]159
Евгений Иванович Ламанский (1825–1902), известный финансист.
[Закрыть] и я. Ламанский все время молчал, Кавелин предавался пламенным надеждам, а Милютин старался его отрезвить, указывая на то, что оснований для слишком пылких надежд пока еще нет, а есть, напротив, повод предполагать, что водворится господство придворной знати. Со своею тихою и скромною манерою он рассказывал разные анекдоты, характеризовал лица; Кавелин становился все мрачнее и мрачнее. Мы вышли вместе. Мне с Милютиным приходилось идти по одной дороге; мы взяли первого попавшегося извозчика и сели. «Я нарочно несколько сгущал краски, – сказал мне Дмитрий Алексееич, – зная впечатлительность Константина Дмитриевича и видя, каким он предается юношеским мечтам, я хотел посмотреть, как это на него подействует». На следующее утро, едва я встал с постели, влетает ко мне, как бомба, Кавелин. «Нет, Борис Николаевич, – воскликнул он, – неужели это возможно? Неужели после того страшного деспотизма, который тяготел над нами столько лет, придется еще выносить господство всей этой дряни?» Я рассмеялся и успокоил его, сказавши, что Милютин вовсе не считает этого дела очень серьезным. Однако мы решили, что надобно пустить в ход статью об аристократии, которую я взялся написать.
С такими-то впечатлениями и с запасом рукописных статей, ходивших будто бы по рукам в Петербурге, я вернулся в Москву. Грановский остался очень доволен статьею о восточном вопросе. Он при мне сказал, что немного так хорошо написанных статей выходит и за границею, и согласился на это в доказательство, что если бы у нас была свобода печати, то явились бы таланты ныне неизвестные. Я умолчал об авторе, но внутренне почувствовал некоторое услаждение. Статья была сообщена и славянофильскому кружку; но Хомяков объявил, что она, очевидно, написана в противоположном лагере, а потому распространять ее не следует. Как истинный глава секты, Хомяков на все смотрел с точки зрения своей партии, между тем как западники усердно распространяли его патриотические стихи, не заботясь о том, в каком лагере они писаны. Впоследствии не малое удовольствие доставило мне слышать отзыв того же Хомякова по поводу моей «статьи об аристократии»[160]160
«Об аристократии, в особенности русской», напеч. в «Голосах из России», кн. III, Лондон, 1857, стр. 1 – 113.
[Закрыть], которой происхождения он не подозревал. Он при мне уверял своих соумышленников, что она написана Юрием Федоровичем Самариным, и хотя последний упорно от этого отказывается, однако, по тону, слогу и мыслям не может быть ни малейшего сомнения, что она вышла из под его пера. Так хорошо он знал характеристические особенности своего ближайшего сподвижника! Я и тут промолчал, но внутренне смеялся довольно.
В Москве я остался недолго. Я стремился в деревню, чтобы приняться за работу. Передо мною открывалось новое поприще. Успех первого опыта в области публицистики меня ободрял, и я страстно предался новому делу. Надобно было высказать все, что мучило и волновало мыслящих людей в России, выразить как их негодование на прошлое, так и их планы для будущего. О перемене образа правления никто в это время не думал. Все понимали, что при крепостном праве и при вековом принижении общества это – дело несбыточное. Одно, чего мы жаждали, к чему мы стремились и чего ожидали от нового правительства, это – свободы умственной и гражданской. Эти стремления были красноречиво высказаны в «Мыслях вслух об истекшем тридцатилетии»: «Простору нам, простору! – восклицает автор. – Того только и жаждем мы, все мы, от крестьянина до вельможи, как иссохшая земля жаждет живительного дождя. Мы все простираем руки к престолу и молим: Простору нам, державный царь! Наши члены онемели; мы отвыкли дышать свободно. Простор нам нужен, как воздух, как хлеб, как свет божий! Он нужен для каждого из нас, нужен для России, для ее процветания внутри, для ее ограждения и крепости извне!»
Автор взывал и к обществу, предостерегая его от радикальных требований: «Одно последнее слово. Обращаюсь к вам, мои братья по родине, все равно, русские ли вы из Великой, Малой и Белой России, поляки ли, немцы или финляндцы, обращаюсь особенно к тебе, молодое поколение, цвет и надежда отечества. Пуще всего будем избегать опрометчивости, несбыточных желаний и целей, всего, что при неверной пользе могло бы нанести нам несомненный вред. Время радикализма, кажется, прошло и для Западной Европы. У нас же ему и не следует возникать; ибо у нас всякое начинание истекает сверху. Да и показал горький опыт, что попытки снизу к насильственному изменению существующего вызывали одно лишь усиление строгости. Покажем полное доверие к молодому царю, к его благородному, прямому характеру, растворенному благодушием».
Те же мысли я старался развить в статье «Современные задачи русской жизни», которая впоследствии была напечатана в «Голосах из России», однако, не в том виде, в каком она первоначально была мной написана. Вполне понимая невозможность перемены образа правления в настоящем, я признавал его целью в будущем. В моих глазах оно должно было явиться окончательным результатом требуемых преобразований. Излагая свои взгляды в рукописной статье, не стесненный никакими цензурными соображениями, я высказал их с полною откровенностью. Но когда я дал прочесть свою статью Кавелину, он заметил, что об этой отдаленной цели лучше пока умалчивать. В настоящем это не принесет никакой пользы, а может только напугать правительство, которое увидит, куда его ведут. Я с этим согласился и переделал статью в этом смысле. Но так как эту работу пришлось совершать среди петербургской суеты, которая не давала мне возможности заняться формою, то статья вышла несколько растянутая и неуклюжая. Заключения же остались прежние: требовались свобода совести, уничтожение крепостного права, свобода общественного мнения, свобода печати, свобода преподавания, публичность правительственных действий, наконец публичность и гласность судопроизводства. Это была как бы программа нового царствования, которая и осуществилась на деле. В другой статье «О крепостном состоянии» указывались и те меры, которые следовало принять для освобождения крестьян: прежде всего ограничение произвольной помещичьей власти, затем, в виде переходного состояния, введение инвентарей, наконец, полное освобождение крестьян посредством выкупа тех земель, на которых они сидели. Была написана статья и об аристократии. Брату Владимиру, который в это время вышел уже в отставку и поселился в деревне, я заказал статью о полковых командирах и их хозяйственных распоряжениях, которая впоследствии также была напечатана в «Голосах из России».
Среди этих усиленных занятий, о которых я, разумеется, не говорил родителям ни слова из опасения возбудить в них беспокойство, протекло лето. С напряженным вниманием следили мы и за ходом военных событий; которые предвещали близкую развязку. Наконец, пришло известие о падении Севастополя. Как ни больно отозвалось оно в русском сердце, оно не только не принизило, а, напротив, подняло общий дух. Мы гордились подвигами наших героев и чувствовали, что Россия, обновившись, может воспрянуть с новыми силами. К этому обновлению устремились все помыслы. Люди, не увлекавшиеся слепым патриотизмом, хорошо понимали, что война кончена, что теперь предстоят подвиги мира. К этому они готовились, устремляя свои взоры на будущее. И вдруг, среди всех этих волнений и ожиданий, в нашей провинциальной глуши разразилась маленькая политическая гроза, которая произвела не малый переполох в патриархальной помещичьей среде. Это было первое явление такого рода в новом царствовании.
Однажды вечером, в начале осени, когда мы спокойно сидели в гостиной, мать вызывают таинственным образом. Посланный от соседки Софьи Николаевны Ивановой из рук в руки передает письмо, в котором последняя извещала, что жандармы делают обыски по всем помещичьим имениям, были у них и, вероятно, будут и у нас, а потому предупреждала, чтобы мы истребили все, что могло бы нас компрометировать. Бедная Софья Николаевна из страха сожгла всю свою историческую и политическую библиотеку, которую тщательно собирала в течение многих лет, и о которой впоследствии не могла вспомнить без слез. Мы, разумеется, не сделали ничего подобного, хотя и у нас было немало запрещенных книг. О своих рукописных статьях я не промолвил ни слова и не думал их истреблять, а только запрятал их подальше. Мы ожидали прибытия жандармов; но, к счастью, до нас дело не дошло.
Весь этот переполох произошел от довольно курьезного случая. По большой дороге между Рассказовым и Тамбовом шел дьякон. Он заметил висящий на ветке лист бумаги, снял его и увидел, что это какая-то прокламация. В чем состояла эта прокламация, осталось мне неизвестным. Никто из моих знакомых ее не видал, и в публике не ходило об этом никаких слухов. Но дьякон счел ее возмутительною. Дошедши до ближайшего села, он отправился к старосте, но не заставши его дома, передал бумагу его жене; сам же прибывши в город, счел долгом довести об этом до сведения жандармского начальства. Послан был жандарм произвести следствие. Он нашел прокламацию валяющуюся под лавкою, но ничего другого открыть не мог. Местные власти, не придавая этому делу особенного значения, на том его и прекратили и донесли о результате в Петербург. Но там взглянули на это иначе. Присланы были специальные следователи, которые, однако, в свою очередь, не могли открыть ничего.
Но тем бы дело и кончилось, если бы к этому не примешалась ходившая по рукам моя статья о восточном вопросе. Проездом через Тамбов я передал ее Николаю Александровичу Мордвинову, который в то время жил в Тамбове, производя ревизию. Лично я с ним не был знаком, но имел к нему письмо от Кавелина. Остановившись в Тамбове довольно рано утром для перемены лошадей, я отправился к нему, велел его разбудить и вручил ему письмо вместе со статьею, которую он тотчас пустил в ход. В то время как приезжие из Петербурга чиновники производили следствие о прокламации, к местному жандармскому полковнику приходит однажды один из офицеров и доносит, что, кроме прокламации, по городу ходят и другие возмутительные писания. Одно из них читалось даже вслух у директора кадетского корпуса, Пташникова. Доноситель прибавил, что он считает своим долгом сообщить об этом и приезжим из Петербурга следователям. Полковник испугался, и во избежание нареканий решился сделать обыск у начальника корпуса. Тот немедленно выдал брошюру и сказал, от кого он ее получил. Таким образом, расследование пошло от одного к другому; жандармы разъезжали по деревням, и невинные помещики, никогда не видавшие такой напасти, самым откровенным образом выдавали друг друга. Петр Степанович Иванов сказал даже, что он получил статью от жены, и уж жандармский офицер просил не путать ее в это дело. Понятно, какой страх распространился в мирной деревенской глуши; это было нечто невиданное и неслыханное. Скоро, однако, розыски остановились именно на тех двух лицах, которым статья была передана мною, именно на Мордвинове и Якове Ивановиче Сабурове. Последний заявил, что он статью получил от своего приятеля, Льва Кирилловича Нарышкина, незадолго перед тем умершего. На этом след прекратился. Мордвинов же отперся во всем и просидел три месяца в крепости, после чего его выпустили и дали ему место по удельному ведомству. Тем и кончилась эта трагикомедия, жертвою которой сделалась только библиотека бедной Софьи Николаевны Ивановой. Это было уже не то время, когда людей за пустое слово или даже просто по подозрению ссылали в отдаленные губернии. В нашей семье с самого начала на этот счет не было никакого беспокойства. Мы только смеялись доходившим до нас рассказам.