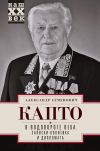Текст книги "Воспоминания. Том 1. Родители и детство. Москва сороковых годов. Путешествие за границу"
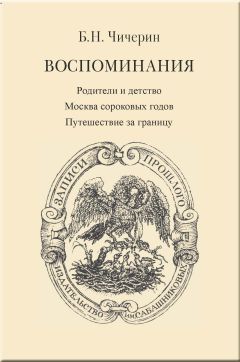
Автор книги: Борис Чичерин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 35 (всего у книги 42 страниц)
Я доехал и до Пестума, видел удивительно сохранившиеся древние дорические храмы, возвышающиеся среди пустынной равнины во всей их гармонической простоте и изяществе. Но рядом с этим, как водится с путешественниками, пришлось натолкнуться и на впечатление совершенно другого рода. Я прибыл в Кастелламаре с намерением ехать в Амальфи и Пестум. Прихожу в гостиницу, чтобы закусить перед дорогою и сажусь за стол. Возле меня завтракает какой-то господин весьма приличной наружности с большою черною бородою. Он заводит разговор по-итальянски: я отвечаю тем же. Сначала речь идет о прекрасной погоде; я говорю, что хочу воспользоваться ею, чтобы съездить в Пестум. «Я никогда там не был, – сказал он, – хотите, я поеду с вами?» Меня очень удивило это неожиданное предложение со стороны совершенно незнакомого человека; но я вижу: имеет вид порядочный; я согласился. Оказалось, что это был англичанин, и притом переводчик Тассо, сэр Кингстон Джемс. Он был весь погружен в свой перевод «Освобожденного Иерусалима» и не раз дорогою пытался читать мне свои стихи. Но я все его уверял, что увлекаясь прелестными видами, буду слушать рассеянно. В Салерно, пришлось ночевать в одной комнате, так как в гостинице не было другого свободного номера. Как только мы в ней поместились, он тотчас вытащил тетрадь из своего чемодана и воскликнул с торжеством: «вот они!» Но тут уже пора было спать, и я попросил его отложить чтение до нашего приезда в Ла Кава, где мы на следующий день должны были обедать. Однако, он не вытерпел и на обратном пути из Пестума, сидя со мною в коляске, сказал: «Нет, я вам все-таки прочту свои стихи». И
тут же начал декламировать свой перевод. Это было однако же только прелюдиею. Когда мы прибыли наконец в Ла Кава я пошел к себе в комнату, а он взялся заказать обед. Прихожу в столовую и вижу: стол накрыт, камин пылает, а мой англичанин расположился на диване с толстою тетрадью и с книгою. Как только я вошел, он тотчас вручил мне книгу и сказал: «Вы следите по оригиналу, а я вам буду читать свой перевод». При чтении он поминутно останавливался и восклицал: «Не правда ли, как верно? Вы не удивляетесь?!». Я, разумеется, поддакивал. Едва мы успели проглотить обед, как он опять принялся за свое чтение. Так мучил он меня весь вечер. Это было одно из первых моих знакомств с англичанами. «Вы очень удивились, когда я предложил вам ехать вместе? – спросил он меня. – Англичане обыкновенно имеют репутацию, что они нелюдимы. Но это происходит от того, что мы не любим вступать в сношения с своими соотечественниками за границею. Бог знает, к какому обществу они принадлежат, и в какие придется стать с ними отношения в Англии. А с иностранцами это не имеет дальнейших последствий». Последствий наше знакомство действительно не имело. Он дал мне свою карточку, прибавив, что когда я приеду в Англию, его перевод вероятно уже выйдет в свет. Но когда я в следующем году путешествовал в Англии, он был за границею. Лишь мельком я наткнулся на него раз в Гамбурге при рулетке, где мы впрочем оба были только зрителями.
Я совершил восхождение и на Везувий, и притом в особенных обстоятельствах. В то время было извержение, но не из кратера, а из бокового ущелья. Ночью из Неаполя виднелась огненная полоса, как горящие угли. В Неаполитанском заливе стояли тогда два русских фрегата, на одном из которых был Григорович. Однажды мы обедали в ресторане с ним и с двумя капитанами. Они предложили съездить ночью на Везувий посмотреть извержение. Большое шоссе было перерезано лавою; мы наняли ослов и взяли проводников, которые должны были вести нас окольными путями. Дорога в ночной темноте была убийственная; мы карабкались по невероятным тропинкам, а иногда и вовсе без тропинок, по крутым скатам и кустарникам. Наконец, после трех часов такой езды, мы совершенно измученные добрели до Эрмитажа. Тут мы думали несколько отдохнуть, но нашли только крошечную комнату с несколькими деревянными стульями. Спросили поесть; ничего не было. Монах принес нам только бутылку вина, которая оказалась уксусом, так что в рот нельзя было взять. Что было делать? Мы решились пешком, через груды лавы, идти на то место, откуда видно было извержение. Шли, шли, медленно подвигаясь с помощью факелов во тьме кромешной, по невообразимым кочкам, на которых можно было переломать себе ноги. Вдруг проводники объявили, что у них факелы погасли, и что надобно возвращаться назад. Тут уже я взбунтовался и решительно сказал, что останусь сидеть на лаве, пока они не вернутся с новыми факелами. Так мы и сделали. Насилу, наконец, мы добрались до желанного места. Но тут перед нами открылось действительно невиданное зрелище. Мы стояли над извержением и видели под собою долину, представлящую настоящий ад. Огненные потоки беспрерывно, то здесь, та там, пробивались сквозь землю и текли медленными ручьями, пока постепенно не застывали. Воздух наполнен был смрадом, а лава кругом была такая горячая, что один из проводников завернул в кусок мягкой лавы медную монету, которую я сохранил. Налюбовавшись этим необыкновенным зрелищем, мы съехали обратно и к утру уже остановились отдохнуть в Геркулануме.
Из Неаполя я прямо проехал во Флоренцию, которую дотоле видел лишь мельком. Мне хотелось ближе узнать этот знаменитый город, некогда центр и рассадник итальянского искусства, произведший столько великих людей во всех сферах человеческого духа, отечество Данте, Макиавелли, Галилея, Бруннелески, Леонардо, Микель-Анджело. Прошли времена бессмертной его славы, но неувядающие памятники искусства сохраняют следы их для потомства и свидетельствуют о полноте духовной жизни, которая кипела здесь несколько веков тому назад. Изучивши в Риме художество, древнее и новое на высшей точке совершенства, я мог уже с большим пониманием проследить постепенное его развитие от первых опытов Чимабуэ и Джиотто до великих мастеров конца XV века. Здесь я мог в изумительном разнообразии произведений оценить просветленную чистоту и нежность Беато Анджелико и эпическую силу Гирляндайо[236]236
Чимабуэ Джованни (ок.1240–1302), Джотто ди Бондоне (1266–1337), Анджелико Беатто (1400–1455), Гирландайо Доменико (1449–1494) – итальянские живописцы, представители флорентийской школы.
[Закрыть]. С невольным благоговением входил я в тесные и голые кельи монастыря св. Марка, каждая из которых украшена проникнутою глубоким религиозным чувством кистью великого художника, жившего в этой обители, и в тихом восторге останавливался я затем перед полною благочестивого умиления фрескою – Распятие. Кажется, из уст всех этих поклоняющихся висящему на кресте богу святых вылетают молитвы и как фимиам возносятся к небу. Но любимым моим местом в то время, был Карминэ, где я много раз ходил изучать фрески Мазаччио, этого слишком рано умершего гения, который впервые откинул условные формы и внес жизненную правду в область христианского творчества. Нигде, как во Флоренции, так ясно не раскрывается христианское искусство во всех основных своих мотивах, в его возвышенной чистоте полной глубокого внутреннего содержания. Нигде так резко не выступает различие между древним искусством и новым. Первое шло от формы к содержанию, второе, наоборот, от содержания к форме. Меня поражало то, что в архаических статуях Греции мы находим уже вполне развитые, и изящные очертания человеческого тела, тогда как лица представляют еще чистые маски; у художников времен Возрождения, напротив, при сухом и часто неправильном рисунке тела, лица полны выражения, и лишь мало-помалу это духовное содержание облекается в классические формы, и, наконец, проникает их насквозь. Три украшающие флорентийские музеи прелестные мадонны Рафаэля представляют это взаимное проникновение идеи и формы в высшей своей гармонии. Но в ваянии я все-таки отдавал безусловное предпочтение древности. Восторгаясь произведениям новой скульптуры, которыми изобилует Флоренция, полными жизни и силы статуями Донателло, знаменитыми дверьми Гиберти, где с изяществом соединяется удивительная оконченность работы, колоссальным Давидом Микель-Анджело и могучими фигурами капеллы Медичи, я не мог, однако, не признать, что все это не достигает неподражаемой красоты античных образцов, которые я видел в Риме.
Я любовался и прелестными зданиями, составляющими переход от средневекового готического стиля к изящной архитектуре времен Возрождения: грациозной мраморной Канпанилой, полной статуй Лоджиа деи Ланца, церковью Ор Сан Микеле[237]237
Церковь Or san Michele – Horreum sancti Michaelis – Житница св. Михаила, названа так потому, что здание ранее служило местом склада зерна. Построено в 1380 г. Симоне Таленти.
[Закрыть], где кругом, по наружным стенам, стоят изваянные великими флорентийскими художниками изображения святых. Но более всего привлекла меня внутренность флорентийского собора, в котором таинственный полумрак готических церквей соединяется с закругляющимся простором, свойственным храмам нового времени. Меня пленяла изящная простота линий, представляющая переход от остроконечной вычурности средневекового стиля к пышности и блеску св. Петра. Это истинный храм периода Возрождения, где выступают уже все основные элементы нового времени, но еще обвитые пеленками, в каком-то смутном предчувствии, как бы предугаданные художественным чутьем. Только купол, расписанный Вазари, всегда приводил меня в негодование и портил гармонию впечатления.
Наконец, самые мелкие подробности, украшения церквей, резные изделия, в особенности же рассеянные всюду прелестные майолики школы делла Роббиа свидетельствуют об изумительном богатстве и разнообразии человеческого творчества в эту эпоху духовного пробуждения. В каждом углу Флоренции можно найти печать великого художника; везде разбросаны следы такого жизненного строя, где искусство было всепроникающим элементом и все носило на себе образ красоты.
Во Флоренции у меня завелись интересные знакомства. Воловский дал мне письмо к профессору Корриди, милейшему итальянцу, благодушному, приветливому, образованному, а тот повел меня в знаменитый кабинет чтения Виессё и познакомил с стариком, у которого по вечерам собирались итальянские литераторы и политические люди. Это была для Италии важнейшая минута. Уже приближался час ее освобождения. Людовик-Наполеон произнес свое знаменитое слово австрийскому посланнику на приеме 1 января: отношения были самые натянутые. Австрия вооружалась, и Пиэмонт, со своей стороны, готовился к борьбе в надежде на опору Франции. Все ждали, что с минуты на минуту вспыхнет война. Между итальянскими патриотами, собиравшимися у Виессё шли оживленные разговоры. Все взоры устремлены были на Турин.
Туда я направился, посетивши наперед Болонью, Модену, Парму и Пьяченцу. В Болонью я попал в воскресный день и утром отправился в картинную галерею, где не было ни души. Обежав холодные произведения Болонской школы, я остановился в восторге перед св. Цицилиею Рафаэля. Как нарочно, в эту минуту по всему городу звонили колокола, и серебристые их переливы проникали через окна потолка в освещенную сверху галерею. Казалось, это была какая-то льющаяся из горнего мира небесная музыка, та самая, которую разыгрывали ангелы, изображенные на картине, а стоящие на земле святые заслушались этих дивных звуков, уносящих их в райские страны. Я стоял очарованный и долго не мог оторваться от этого впечатления.
Всего более, однако, поразила меня Парма, произведениями Корреджио[238]238
Корреджио Аннтонио Аллегри (1494–1531), знаменитый итальянский живописец.
[Закрыть], которого здесь только можно вполне понять и оценить. Я не мог налюбоваться этою бесконечною грациею и нежностью, переходящими иногда в чувственность, но доведенными до такой степени прелести и поэзии, в которой исчезает уже все материальное, и остается лишь какой-то неизъяснимо сладостный трепет, какое-то чарующее веянье красоты. Вознесение богородицы в куполе Пармского собора представляет всеохватывающее, безумное ликование прелестных форм, уносящихся в выспренние пространства. Все эти нежные ангелы с странными взглядами являются существами, принадлежащими к неведомому, волшебному миру, в котором нет ничего земного и царствует только безграничное чувство неги и упоения.
В Турин я приехал в самую роковую минуту. Австрия первая объявила войну и двинула свои войска в надежде нанести решительный удар, прежде нежели приспеют французы. Весь вопрос состоял в том, насколько последние будут в состоянии предупредить врагов. Понятно, с каким восторгом встретили пиэмонтцы первое появление же – данных союзников на итальянской почве. Весь Турин двинулся им навстречу на станцию железной дороги. Я тоже был тут, вместе со всем русским посольством. И как только стали вылезать из вагонов красные панталоны, ликование было всеобщее и неумолкающее. Затем прибывал батальон за батальоном, и все они, бодрые, уверенные в победе, украшенные венками, быстрыми и мерными шагами двигались среди несметной толпы громко приветствующего их народа. С утра до вечера в Турине раздавались непрерывающиеся клики. Мне невольно вспомнились стихи Беранже:
Я видел воочию то, что казалось легендою давно прошедших времен. Даже согбенная под императорским деспотизмом Франция исполняла освободительное свое назначение, за которое она так дорого должна была поплатиться.
Вместе с нашим посольством я поехал смотреть на приезд Людовика-Наполеона в Геную. Это было также зрелище, которого нельзя забыть. Пышная Генуя с ее великолепными дворцами, приняла праздничный вид. Улицы и дома были убраны коврами и флагами; вся гавань, с несметными наполняющими ее кораблями, была усеяна цветами. День был чудный; солнце в полном блеске озаряло эту радостную картину. Когда приблизилось судно, несущее императора, восторг был необъятный: оглушительные крики сопровождали его на всем пути. Это была, можно сказать, лучшая минута в жизни этого исторического лица, перешедшего через такие изумительные перемены высоты и падения. Вечером зрелище было, может быть, еще красивее. Весь город и гавань были иллюминированы. При блеске огней, изящные дворцы с висящими из окон роскошными коврами, с всюду веющими флагами, с перетянутыми через улицы гирляндами, под которыми двигались массы народа, восторженными криками приветствовавшего всякого появляющегося среди них французского солдата, все это представляло такое удивительное сочетание внешнего великолепия и национального одушевления, какое редко можно встретить в жизни. Я весь был наэлектризован. Электричество носилось в воздухе и поднимало дух всякого, кто вступал в эту атмосферу. Давно ожидаемая минута настала, минута возрождения и надежд. В близком будущем виднелось освобождение от иноземного ига, веками тяготевшего над страной, украшенной всеми дарами природы, но издавна угнетенной людьми, составлявшей приманку для могучих соседей. Для Италии вставала заря новой жизни; свободная и единая, она приобретала возможность выказать все силы, лежащие в глубине народного духа. Здесь зажигалась искра, которая могла иметь значение для всего человечества, которая лицу мира могла дать новый вид. Под влиянием всех этих впечатлений, я написал восторженные «Письма из Италии», которые послал в Москву Н. Ф. Павлову. Он в этом году получил разрешение на издание еженедельной газеты «Наше время» и просил моего сотрудничества. Это был мой вклад, памятник моих тогдашних впечатлений, а вместе единственное, что я писал на русском языке во время путешествия за границею. Как скоро, увы, этим светлым мечтам суждено было рассеяться! За минутами восторга обыкновенно для народов настает пора тяжелых испытаний. Приходится применять к жизни то, к чему так пламенно стремилась душа, а это составляет задачу долгого и трудного исторического процесса, в течение которого попеременно наступают периоды подъема и угнетения. Всего чаще превратность судьбы постигает самих двигателей великих событий. Когда Людовик-Наполеон явился в Геную освободителем Италии, он не подозревал, что надевает себе петлю на шею. За Италией двинулась Германия и престол его рухнул и человечество, вместо свободы, обрело военную дисциплину.
Я не стал дожидаться в Турине окончания войны, которая могла затянуться. Первый год моих странствований кончился, и я хотел приняться за научную работу. С этою целью я в конце мая поехал в Гейдельберг, где думал слушать лекции Роберта Моля, знаменитейшего в то время ученого по части политических наук. Из бурной среды военного грома и политического движения я вдруг перенесся в мирный немецкий уголок, где студенты в цветных вышитых шапочках гуляли с собаками, а старые профессора, по прочтении лекции спокойно расхаживали по бульвару. Эти профессора, однако хорохорились. «Мы двинемся на Париж, – говорил мне Моль. Но когда пришли известия о сражениях при Мадженте и при Сольферино[240]240
Сольферино, местечко в северной Италии, где 24 июня 1859 г. произошла битва между австрийскими и соединенными итальянскими и французскими войсками. Последствием ее был предварительный мир, заключенный в Виллафранке 11 июля 1859 г., по которому австрийцы должны были очистить Ломбардию.
[Закрыть], они не на шутку струсили. «Что с нами теперь будет?» – восклицал тот же Моль. Когда же последовал приказ о мобилизации, в населении поднялся ропот, и Баденское правительство принуждено было объявить всенародно, что война не шутка, что на удобства в ней рассчитывать нечего, и что бывают даже такие трудные времена, когда людям приходится спать без матрасов. Меня все это забавляло и я понимал, до такой степени, при таком настроении, южным немцам должен быть противен Берлин с его милитаризмом. Только слава немецкого оружия и приобретенное им невиданное могущество могли впоследствии побороть эти чувства. Виллафранкский мир на время положил конец всем опасениям.
Приехав в Гейдельберг, чтобы слушать лекции Моля, я не нашел, однако, того, чего искал. В летний семестр Моль не читал энциклопедии политических наук, а читал немецкое право. Прослушав две, три лекции, я увидел, что они не принесут мне ни пользы ни удовольствия. Искать лекций по общему государственному праву в других университетах было уже поздно, да и справиться было негде. Поэтому я решился пока изучить все существующие учебники как новые, так и старые: Моля, Блунчли, Цахарие, Шмитгеннера. Скоро я увидел, что это все, что мне было нужно. Слушать общий курс весьма полезно для человека, которому это еще заново, у которого не выработались собственные взгляды. А я достиг уже той степени зрелости, когда мне для пополнения моих сведений нужно было главным образом живое и подробное, а не приобретаемое на студенческой скамье, более или менее элементарное знакомство с учреждениями. Вследствие этого я слушание курса политических наук вычеркнул из программы своего путешествия. Я решился в Германии ограничиться посещением важнейших университетов и знакомством с известнейшими профессорами, после чего я хотел ехать в Англию и Францию для изучения учреждений этих двух стран на местах.
При всем том, пребывание в Гейдельберге осталось для меня не без пользы. Я часто посещал Моля, к которому у меня было рекомендательное письмо от Капустина. Он принимал меня очень любезно, и я всегда выносил много дельного из его бесед. У него не было ни блеска, ни глубины, ни той тонкости и оригинальности, которые отличали Штейна; но ум был чрезвычайно твердый, трезвый и разносторонний. Литературу предмета он знал, как никто, и умел ценить по достоинству всякую книгу и всякого писателя. Несмотря на недостаток философского образования, он не думал отрицать метафизику и самые философские сочинения обсуждал умно и всесторонне, стараясь выяснить их значение для юридической области. Патриот и либерал, он не увлекался мечтами, не страдал преувеличенной тевтоманией, а смотрел на вещи прямо и практически. Дара слова он не имел и лекции читал, бормоча себе что-то под нос; но они были полны содержания, и если бы я хотел в подробности изучить немецкое право, я не мог бы найти лучшего руководителя. Точно так же и разговор его, не блестящий и даже не живой, был всегда поучителен. Он хорошо знал людей и рассказывал много интересного о Франкфуртском собрании, где был министром юстиции. Он принимал вечером, за чаем, в семье, состоявшей из жены и дочери, умной девушки, которая вскоре потом вышла замуж за Гельмгольца.
Кроме Моля, я познакомился в Гейдельберге с другим деятелем того же профессорского парламента, положившего начало единству Германии, со стариком Велькером, некогда знаменитым оратором Баденской палаты, пламенным патриотом, автором предложения о поднесении императорской короны прусскому королю. Он в старости был так же горяч, как и в молодости, особенно когда говорил о Германии, но с этим у него соединялось добродушие старого немецкого профессора, которое всегда меня привлекало. Я познакомился и с знаменитым Бунзеном, который так же как и Велькер, жил на покое в Гейдельберге. Ученый и дипломат, близко знавший знаменитейших людей своего времени, он в беседе был и занимателен и поучителен. Вообще Гейдельберг, расположенный в приютной долине на берегах Неккара, с живописными развалинами старого замка, с великолепными деревьями, с прелестными прогулками по окрестностям, представлял привлекательное место покоя для ученых стариков, которые пользовались тут и общением с профессорами университета. Но именно вследствие приятности жизни и красоты местоположения, он мало располагал к университетским занятиям. Моль говорил мне, что вообще студенты в Гейдельберге серьезно не учатся, а более гуляют с собаками и занимаются кнейпами.
Тут было, однако, чему поучиться. В этом маленьком уголке Германии было такое собрание выдающихся ученых, что ему мог бы позавидовать любой университет. Это был научный центр в полном смысле этого слова. Кроме Моля тут преподавал знаменитый Миттермайер, один из ученейших криминалистов Германии, в то время уже очень преклонных лет, романист Вангеров, первый знаток пандектов[241]241
Пандекты – название одного из отделов римского права, по которому так стали называться курсы римского права в немецких университетах.
[Закрыть], воспитавший многие поколения юристов, историк Гейссер, который читал тогда историю французской революции. Я из любопытства пошел его послушать и как раз попал на знаменитые его лекции о Мирабо, живые, картинные, полные политического смысла! По другим отраслям науки университет украшался еще более славными именами. Часто можно было видеть гуляющими вместе три светила современного естествознания: гениального Гельмгольца, химика Бунзена и физика Кирхгофа. Я в то время вовсе этим не занимался, но часто виделся с молодыми русскими естествоиспытателями, которые слушали лекции в Гейдельберге, с физиологом Сеченовым и окулистом Юнге. Оба были студенты Московского университета и вскоре потом сделались профессорами Петербургской медицинской академии. Сеченов был совершенно влюблен в Гельмгольца и уверял, что у него глаза, как у Сикстинской мадонны. Сам Сеченов был чрезвычайно приятен в личных отношениях. Мягкий, обходительный и живой, всегда ровного характера, он в то время уже был совершенно проникнут материалистическими идеями, но без всякой заносчивости. Мы с ним вели горячие споры о свободе воли. Естествоиспытателю, не знающему ничего, кроме своей специальности, не трудно впасть в такую односторонность, а Сеченов, к тому же, имел несчастие прочитать психологию Бенеке. При полном отсутствии всякого философского образования, такое отрывочное чтение могло только сбить с толку неприготовленный ум. Он и принялся поверхностными скачками выводить психологию из физиологии, что, конечно, не имело ни малейшего научного основания и вело лишь к тому, что в точные методы исследования вводилось логическое фантазерство. Это не мешало впрочем ценным его работам в чистой области физиологии. В бытность мою в Гейдельберге приехал туда и Менделеев, тогда еще очень молодой. Но это было уже перед самым моим отъездом, и я только раз провел с ним вечер.
Долго оставаться в Гейдельберге при провалившемся моем плане не было никакой нужды. Вследствие этого я поехал в Эмс на свидание с родителями. Отец, полечившись довольно неудачно в Париже, пил там воды. Я нашел его бодрым и свежим. Следов болезни почти не было. Он много ходил, и я, пожив с ним некоторое время, уехал, совершенно успокоенный на его счет. Мне в голову не приходило, что я вижу его в последний раз.
Я поехал сперва на несколько дней в Остенде, на поклон к великой княгине Елене Павловне, которая опять пользовалась там морскими купаниями, а оттуда через Париж в Швейцарию, где я хотел походить по горам. В Париж я попал как раз на 15 августа, Наполеонов день, когда назначено было торжественное вступление итальянской армии. Никогда в жизни я не видал такого скопления народа. С самой северной границы в поезд начали садиться массы пассажиров, которые спешили к празднику, и количество их все увеличивалось по мере приближения к Парижу. Вместо того, чтобы прибыть в девять часов вечера, поезд пришел в час ночи. Я пошел за своим багажом; меня привели в комнату, сверху до низу заваленную чемоданами, и сказали, чтобы я отыскал свой, если могу, а они не в силах. Нечего было делать, надобно было отправляться с одним дорожным мешком. Я вышел, но найти кареты не было никакой возможности. Я должен был с довольно тяжелым мешком в руках идти от станции северной железной дороги до Луврской гостиницы, где я предполагал остановиться. Но тут не было ни одного свободного номера. Пришлось среди ночи опять идти пешком на новые поиски, со своею грузною ношею. К счастью, мне удалось наконец захватить проезжающую мимо пустую карету. Но и этим не кончились мои мытарства. По сю сторону Сены ни в одной гостинице не было возможности найти даже самой крошечной комнаты; надобно было ехать на ту сторону. Долго и тут поиски были тщетны. Наконец, проездивши половину ночи, я в каких-то маленьких, грязных меблированных комнатах нашел конурку под чердаком и там ночевал.
Поутру я встал рано и пошел разыскивать Каченовского, который в это время тоже случился в Париже: встретил его у дверей его гостиницы, и мы вместе отправились смотреть на столь пышно возвещенное зрелище, для которого собрались все эти несметные толпы. Мы видели проходящее перед нами победоносное войско с императором во главе; криков было много, но не было ничего похожего на тот народный энтузиазм, которого я был свидетелем в Италии. Несмотря на громадную толпу, стоявшую по обе стороны бульваров, встреча была холодная: слышны были только те заурядные возгласы, которые раздаются на всех подобных церемониях. Французы съехались смотреть на представление, но восторга не было никакого. В сущности, все были недовольны, начиная с самого императора, который, ввиду представившихся ему затруднений, мобилизации Германии и оказавшейся собственной его полной неспособности к военному делу, принужден был заключить мир, не исполнив возвещенной им программы. Недовольны были друзья Италии, которая была покинута на полу-пути; а с другой стороны, недовольны были консерваторы и приверженцы папства, которые думали, что сделано было слишком много; и справедливо опасались, что начатое движение на этом не остановится. Недовольны были, наконец, и дальновидные патриоты, которые в этих начинаниях не только не усматривали истинных интересов Франции, но предвидели, что они, в конце концов, могут пасть на собственную ее голову.
Насытившись зрелищем, я пошел отыскивать свой багаж. Но от улицы Сент-Оноре, до Северного вокзала мне опять пришлось идти пешком, потому что во всем Париже не было ни одного свободного извозчика. Наконец я получил свой чемодан, и снова должен был дожидаться часа два, прежде нежели поймал незанятную карету. Посмотревши вечером великолепную иллюминацию и фейерверк, я хотел ехать на следующий день, но принужден был остаться еще сутки, опять потому, что нельзя было найти извозчика на Лионский вокзал. Уже на третий день я выбрался из Парижа, и прямо поехал в Женеву, а оттуда в Шамуни.
Тут началось мое путешествие по Швейцарии, на этот раз уже с полным наслаждением. Большею частью я ходил пешком один, с сумкою на плечах и с зонтиком в руке. Проводника я брал только при трудных восхождениях; все остальное время Бедекер мог служить достаточным руководителем. Я вставал в пять часов утра и немедленно пускался в путь, шел не спеша, отдыхал, где хотел, любовался на досуге всем окружающим. Ничто так не сближает с природою, как это одинокое пешее хождение, полное поэтической прелести, где никто и ничего постороннее не развлекает внимания. Я говорил тогда, что природу, как женщину, надо видеть наедине, чтобы вполне ее понять, и чтобы впечатление от нее проникло в самую глубину души.
С первого же шага меня поразил в Шамуни снежный гигант, вздымающий свою величавую голову к небесам. Особенно он производил впечатление, когда мрак ночи спускался на землю, а белая вершина все еще продолжала сиять в вышине каким-то таинственным блеском. Поразил меня и царь ледников, Ледяное море, с его бесчисленными иглами и ущельями, спускающееся в долину между горами. Я поднимался к нему с обеих сторон, по живописным тропинкам между скалами и пещерами, откуда клубились горные потоки; затем по прелестной лесистой дороге я пошел пешком в Мартиньи, а оттуда к восточному берегу Женевского озера, полному воспоминаний о Руссо, где среди вод возвышается Шильонский замок, прославленный Байроном и Жуковским[242]242
Шильонский замок на скалистом островке Женевского озера.
[Закрыть]. Его сводчатые подвалы, находящиеся подуровнем воды в озере, некогда служили тюрьмой. Судьба одного заключенного в них составила сюжет поэмы Байрона «Шильонский узник», переведенной Жуковским. И природа и поэзия соединялись здесь для полности очарования. Любуясь голубою, как небо, гладью озера, обрамленного горами, с игриво разбросанными повсюду местечками и садами, я вспоминал великолепную строфу английского поэта:
С Женевского озера я проехал в Интерлакен и оттуда обошел пешком весь Бернский Оберланд. Насытившись итальянскими видами, я обрел здесь новые и могучие впечатления. Тут не было ни классической красоты линий, ни яркого южного солнца, ни лазурной дали, уносящей душу в волшебную бесконечность; впечатление было более приютное, сельское, манящее в прохладу, более близкое к родному, а вместе окруженное удивительным величием: среди вздымающих к небу скал живописные долины с великолепными, тенистыми деревьями, с свежими лугами, на яркую зелень которых спускаются белоснежные ледники, внизу клубящиеся между камнями потоки, повсюду бьющие из гор ключи, водопады, то рассыпающиеся в пыль, то с ревом и пеною низвергающиеся широкими струями, с сверкающими на солнце брызгами, местами светлые, стесненные между скалами озера, отражающие прелестные берега; везде печать сельской жизни, разбросанные хижины с садами, пасущиеся стада, кой-где поле с обильною жатвой, и над всем этим снежная цепь Альп, то сияющих розовым блеском в безмятежные утренние часы, то горящих ярким пламенем при закате. Одинокого пешехода не смущают бесчисленные гостиницы и толпы туристов, на которых жалуются иногда путешественники. Все это исчезает для него среди величия и красоты окружающей природы. Он встает на заре, и когда он после ночного отдыха бодро пускается в путь, его разом охватывает все обаяние тихого свежего утра на горной высоте; серебристый звон колокольчиков на пасущихся по лугам коровах каким-то волшебным звуком раздается по долине; иногда слышатся повторяемые эхом переливы альпийского рога или гортанная песнь горного пастуха; в небесах, возвещая приближение солнца, сияют уже снежные вершины, и мало-помалу лучи спускаются в долины, освещая яркую зелень пастбищ и ослепительную белизну ледников. В одиноком упоении он весь погружен в созерцание, и одна за другою душу его охватывают сменяющиеся перед ним волшебные картины: то он всходит на горы, где у ног его извиваются облака, вокруг вздымаются грозные утесы, а далеко внизу расстилается роскошная зелень долин, то он спускается вниз и в лесной тени, осененный прозрачною листвою деревьев, в которой солнце играет с каким-то таинственным трепетом, он ищет прохлады у клубящегося потока; он стоит с смутными мечтами перед брызжущей пеной водопада; он входит в галерею ледников, полных прозрачным лазоревым блеском, как хрустальный дворец какой-то волшебницы. Когда же он вечером, утомленный от дневного пути, сядет отдохнуть, перед ним открывается новая, величавая и вместе полная грустно отрадного спокойствия, картина: теплые лучи заходящего солнца мало-помалу покидают долины, которые постепенно погружаются в мрак, а снежные горы долго еще продолжают сиять в вышине.