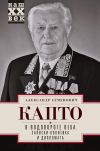Текст книги "Воспоминания. Том 1. Родители и детство. Москва сороковых годов. Путешествие за границу"
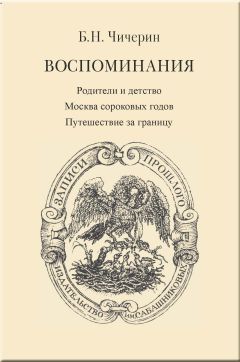
Автор книги: Борис Чичерин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 42 страниц)
Нередко, особенно когда дни становились длиннее, мы по тому же берегу совершали вечерние прогулки. С одной стороны тянулись длинные заборы с кой-где возвышающимися из-за них деревьями, уже покрытыми свежею зеленью, и между ними низкие, невзрачные домики тамбовских мещан, которые, сидя у своих ворот на прилавках, особенно в праздничные дни, мирно наслаждались теплым весенним вечером, поигрывая на гармониях или смотря на ребятишек, играющих в бабки. С другой стороны открывался прелестный вид: внизу гладкая как зеркало река, вдоль которой вдали красивым изгибом возвышались городские белые здания и церкви; за рекою бархатные, блестящие весеннею зеленью луга, а за лугами – темный сосновый бор, среди которого белела архиерейская дача. Навстречу нам через реку переплывали возвращающиеся домой пестрые стада с радостным мычанием, и все это было, как золотом, облито теплыми лучами заходящего солнца. Мы опять шли на свое любимое место за дачу Андреевских и долго там сидели, окруженные носящимся в воздухе благоуханием трав и цветов, наслаждаясь вечернею прохладою и царящею кругом тишиною, которая прерывалась только щебетанием птиц в густом тростнике, да приносящимся к нам из дальнего леса звонким голосом кукушки или щелканьем соловья. Когда мы поехали в Москву для приготовления к университету и нам пришлось проводить весну в большом, душном, пыльном и шумном городе, меня охватывала невыразимая тоска. Душа моя жаждала весенних впечатлений и рвалась в мирный край, где я привык жить заодно с природою. Как нарочно, в это время учитель немецкого языка задал мне сочинение о преимуществах больших городов перед малыми. Я, изложивши все выгоды более просвещенной среды и господствующих в ней живых умственных интересов, прибавил, однако, что маленькие города имеют такие стороны, которых ничто не может заменить, и тут я начертал картину появляющейся весны и все те поэтические наслаждения, которые она с собою приносит. Думаю и теперь, что мирная патриархальная жизнь маленького городка, вдали от столичного шума и суеты, в полудеревенской обстановке, благотворно действует на молодые души. Они привыкают не увлекаться шумным разнообразием внешних впечатлений, а более сосредоточиваются в себе и наслаждаются тихими радостями домашней жизни и красотами обновляющейся по вечно однообразным законам природы.
Но все эти весенние городские впечатления были ничто в сравнении с теми бесконечными наслаждениями, которые мы испытывали, когда переезжали из города в деревню. Хотя расстояние было всего девяносто верст, но это считалось целым путешествием; к нему готовились заранее, как к какому-то важному и трудному делу. Из Караула приходил большой обоз, подвод в пятнадцать или двадцать. Весь дом должен был подняться и переселиться на новое место. В течение нескольких дней происходила большая укладка; суета была невообразимая. Все это нас, конечно, чрезвычайно занимало, и мы горели нетерпением увидать свой милый Караул. Наконец после долгих сборов мы пускались в путь; тянулась длинная вереница экипажей, нагруженных и детьми, и няньками, и пожитками, с бесчисленным количеством ящичков, кулечков, узелков. Редко мы совершали путь в один день, а большею частью ночевали дорогою, в первые годы обыкновенно в Княжой у Ковальских, а позднее в купленной отцом деревне Периксе, лежащей на полпути. В Караул мы обыкновенно приезжали к вечеру. И с какими чувствами мы к нему приближались! Уже вид находящейся в двадцати верстах безобразной Золотовской церкви заставлял нас трепетать от радостного ожидания. Мы издали высовывались из экипажа и присматривались, не видать ли шпиля караульской церкви или крыльев ветряной мельницы; когда же мы наконец, переехав Панду, выезжали на собственные наши луга, то сердце так и прыгало от восторга. Да и было чему радоваться. Есть минуты неизъяснимого наслаждения, которые так глубоко врезываются в память, что они не забываются до конца жизни. Такие минуты довелось мне испытать в молодые годы при возвращении в Караул. Помню, как однажды, приехав один с матерью прежде остального семейства, я, проснувшись довольно рано утром, увидел лезущие в окно ветви цветущей сирени, и свежий весенний запах хлынул в поднятую раму. Наскоро одевшись, я побежал в сад, и меня охватило все обаяние прелестного, тихого, теплого майского утра. На небе не было ни облачка, солнце сияло в полном блеске, кругом пышно цвела сирень, в душистом воздухе слышалось жужжание мух и веселое пение птичек. Я побежал в рощу, где среди густой тени мелькали прозрачные, освещенные пробивающимися лучами солнца листья стоящих в свежей зелени деревьев. Я в невыразимом упоении прислушивался к звонкому голосу иволги, раздававшемуся под тенистыми сводами. Все так полно было прелести и поэзии, что, казалось, я был перенесен в какой-то очарованный мир.
Живо помню и другое впечатление, когда мы приехали уже в сумерки и я, напившись чаю, вышел один, чтобы насладиться тишиною ночи. Над головою простирался бесконечный свод небесный, сверкающий мириадами звезд. Воздух был недвижим. Издали приносился с лугов свежий запах трав. В природе стоял тот однообразный гул, который в весеннюю пору служит признаком возрожденной и неумолкающей жизни. Изредка вдали покрикивал дергач, да раздавалось из лесной чащи ночное пение соловья. И тут меня как будто охватывал какой-то волшебный мир, раскрывающийся передо мною в торжественном величии и проникающий во все глубочайшие нити моего существа.
С переездом в деревню начинались удовольствия всякого рода. Обыкновенным ежедневным занятием были походы на фрукты и ягоды, которых в саду было вдоволь и которых нам позволяли есть сколько угодно. Случалось, что мы всей компанией садились около плодового куста, иногда под дождем, распуская зонтики, и когда мы удалялись, на кусте не оставалось ни одной ягоды. Или мы после завтрака гурьбой влезали на вишневые деревья и объедали их дочиста. Всякий день были разнообразные прогулки, и верхом, и пешком, и на лодке. Но главным нашим удовольствием была рыбная ловля, к которой все мы в то время питали необыкновенную страсть. Для нас не было большего праздника, как когда нам позволяли встать в три часа утра и отправиться с Федором Ивановичем ловить рыбу на Панде, где, по господствующему убеждению, ловля была лучше нежели в широкой Вороне. Уже впечатление раннего утра имело в себе что-то обаятельное: свежесть воздуха, туманные дали, освещение пейзажа первыми лучами восходящего солнца, под которыми как искры горели капли росы, висящие на листьях и траве, веселое пение птиц на заре, громкий крик петухов, отдаленное мычание или блеяние стад, выгоняемых на пастбище, – все это действовало живительно и готовило ко всякого рода поэтическим наслаждениям. Приехав на Панду, каждый из нас в одиночку забивался в уединенные кусты и выбрасывал свою удочку возле густого камыша или плавающих на поверхности воды лопухов. С жадностью вперяли мы взоры на неподвижно стоящий на воде поплавок, досадуя, когда начнет клевать по мелочам какая-нибудь глупая плотвичка или вертлявая селявка, но исполняясь трепетным ожиданием и радостью, когда подойдет крупный окунь и разом потянет поплавок в воду. Удовольствие было полное, даже когда рыба плохо ловилась; если же лов был изрядный, то восторг превосходил всякую меру. Впечатление было так сильно, что вечером, когда я ложился спать, у меня все еще мелькал перед глазами поплавок, погружающийся в воду.
Случалось, что мы с Федором Ивановичем отправлялись на заре вдвоем. Он тоже любил рыбную ловлю, но ему надоедало смотреть в это время за мальчиками, которые бегали, шумели и могли упасть в воду. Я был старше и степеннее других, а потому он брал меня с собою. Эти походы хранились в глубочайшей тайне, что также немало содействовало прелести впечатления. Опасаясь проспать, я привязывал себе за ногу веревочку, которую продевал в полуоткрытое окно, чтобы Федор Иванович, когда встанет, мог меня дернуть и разбудить. Но до этого дело не доходило. Когда он, аккуратно в три часа, выходил из своей комнаты, я встречал его уже готовый, и мы среди утренней свежести шли втихомолку на назначенные места. Ловля происходила безмолвно, как некое таинство, и когда мы, набравши порядочно рыбы, возвращались к чаю домой, я исполнен был гордого сознания оказанного мне доверия, так же как и испытанного удовольствия, а братья, которые не могли понять, куда мы девались, с завистью смотрели на нашу добычу.
Немало наслаждения доставляла мне и охота за птицами. Я прислушивался к их пению и старался их выследить, прокрадывался сквозь зеленую чащу, расставляя для мелких птиц западни, а для хищных завел кутню, приобрел себе также закрывающиеся веревочкой сети, или так называемые понции, и если попадалось что-нибудь новое, восторг был неописанный. У меня разом жили орел, молодой ворон и сыч, которых я кормил собственноручно. Последний постоянно забавлял меня своими комическими ужимками; я не мог смотреть на них без хохота. Ворон же иногда причинял мне хлопот: бывало, заберется в дом и непременно что-нибудь украдет. Однажды отец услышал ужасный звон; вышедши из комнаты, он увидел, что ворон утащил со стола колокольчик и с ним выпрыгивает на двор. В другой раз, забравшись на крытый балкон, он разорвал на мелкие кусочки оставленный там номер «Journal des Debat» с докладом Тьера о среднем образовании во Франции, а так как этот доклад не был еще дочитан, то я для защиты своего любимца взялся все эти кусочки собрать и склеить вместе.
Позднее такие же наслаждения доставляла мне и ловля жуков, к которым я пристрастился по вступлении в университет. Особенно мне памятна одна весна, в течение которой мы с Василием Григорьевичем совершали ежедневные экскурсии по лесам и по лугам, иногда верст за десять, он – собирая растения, а я – в погоне за жуками. Это были прелестные прогулки. Мы вместе наслаждались природою и весенними впечатлениями, которые оба чувствовали живо. На душе было легко, ее не тяготили никакие заботы. Новый цветок или жук приводили нас в восторг. Даже случайные приключения или налетевшая гроза придавали только еще более разнообразия этим похождениям.
Не могу, однако, сказать, что все эти развивающиеся в юности страсти к тем или другим естественным произведениям несколько отвлекают от общего впечатления природы и заслоняют собою ту чарующую прелесть, которую имеет для молодой, только что раскрывшейся души окружающий ее бесконечно разнообразный мир. С этими младенческими ощущениями ничто не может сравниться. Ребенок в каком-то волшебном упоении внимает и шепоту ветра в тенистой дубраве, и неумолкающему журчанию ручья, и звонкой трели насекомых в густой траве. Чудесное сияние раскинувшегося над ним звездного неба внушает ему смутные чаяния чего-то таинственного и бесконечного. Все для него так ново и так полно неизъяснимой прелести. Он весь погружен в это исполненное поэзии созерцание. Он учится любить природу не как внешнюю только картину, а как бьющую повсюду жизнь, как могучую силу, охватывающую все существо человека. И эти младенческие впечатления остаются навеки. Истинно любит природу только тот, кто их испытал: он умеет наслаждаться ею не только в ее блеске и великолепии, но и в самых скромных проявлениях вечной ее красоты, в луче солнца, позлащающем степь, в шорохе камыша на берегу пустынной речки; любит ее тот, кто умеет жить с нею одною жизнью и в себе самом чувствовать непреложно повторяющийся ряд ее обновлений.
Счастливо детство, протекшее среди подобных впечатлений! Оно и на старости лет представляется земным раем. Становится понятным, почему человечество поставило золотой век в начале своего существования. Вскормленный и согретый любовным попечением семьи, окруженный поэтическим обаянием природы, глубоко запавшим мне в душу, исполненный жаждою знания, я вступил в жизнь, дыша полною грудью, чувствуя в себе неиссякаемый прилив свежих, молодых сил. Весь Божий мир открылся предо мною в каком-то праздничном наряде: с одной стороны, бесконечность природы с ее невозмутимою красотою, с ее бесчисленными и разнообразными произведениями, которые я мечтал изучить; с другой стороны, живой, волнующий мир человечества, с его поэзией, с его героями, с представляющеюся вдали перспективою служения отечеству, которое было предметом самых пламенных моих чувств. Мне казалось, что куда бы меня ни закинула судьба, в каком бы я ни очутился отдаленном и бедном уголке земли, везде для меня откроются источники неизъяснимых наслаждений.
Как далека действительность от этих поэтических ожиданий! Как скоро жизнь научает человека, что не все в ней счастье и радость! Может быть, самое блаженство юных дней делает еще более чувствительною горечь разочарований. Но хорошо и то, когда человек испытал в себе это блаженство и смолоду взрастил в душе своей такие требования и чувства, которые не позволяют ему мириться с окружающею пошлостью и постоянно побуждают его искать высших идеалов.
Москва сороковых годов
Приготовление к университету
Мы поехали в Москву для приготовления к Университету в декабре 1844 г. перед самыми праздниками. Мне было тогда шестнадцать лет, а второму брату, Василию, который должен был вступить вместе со мною, минуло только пятнадцать. Отправились мы двое с матерью, которая взяла с собою и маленькую сестру; отец же с остальным семейством остался пока в Тамбове. Они приехали уже в феврале следующего года. Цель поездки была подготовить нас к экзамену в течение остающихся до него семи месяцев, пользуясь уроками лучших московских учителей.
Мы приехали в Москву не как совершенно чужие в ней люди. Нас встретил старый приятель отца Николай Филиппович Павлов. Он явился к матери тотчас, как получил известие о нашем прибытии, и с тех пор не проходило дня, чтобы он не навещал нас один или даже два раза. Он взялся устроить для нас все, что нужно, хлопотал о квартире, заключал контракт о найме дома, сам возил нас всюду, знакомил со всеми, приглашал учителей, одним словом, он нянчился с нами, как с самыми близкими родными. «Хотя я не сомневался в дружбе Павлова, – писал мой отец к матери, – но описанное тобою живое участие, которое он принял в вас, меня глубоко тронуло. Есть еще люди соединяющие с возвышенным умом теплое сердце, верные своим привязанностям, несмотря на действие времени».
Павлов в это время был женат во второй раз и имел семилетнего сына. Этот брак, окончившийся весьма печально, как я расскажу ниже, был заключен не по любви, а по расчету. Сам Павлов говорил мне впоследствии, что он в жизни сделал одну гадость: женился на деньгах, – проступок в свете весьма обыкновенный, и на который смотрят очень снисходительно. Вследствие страсти к игре, он запутался в долгах, а у жены, рожденной Яниш, было порядочное состояние. Он решился предложить ей руку, несмотря на то, что сам часто подсмеивался над ее претензиями, и она охотно за него пошла, ибо у него был и блестящий ум и литературное имя, а она была уже не первой молодости.
Каролина Карловна была, впрочем, женщина не совсем обыкновенная. При значительной сухости сердца, она имела некоторые блестящие стороны. Она была умна, замечательно образованна, владела многими языками и сама обладала недюжинным литературным талантом. Собственно поэтической струны у нее не было: для этого недоставало внутреннего огня; но она отлично владела стихом, переводила превосходно, а иногда ей удавалось метко и изящно выразить мысль в поэтической форме. Но тщеславия она была непомерного, а такта у нее не было вовсе. Она любила кстати и некстати щеголять своим литературным талантом и рассказывать о впечатлении, которое она производила. Она постоянно читала вслух стихи, и свои и чужие, всегда нараспев и с каким-то диким завыванием, прославленным впоследствии Соболевским в забавной эпиграмме. Бестактные ее выходки сдерживались, впрочем, мужем, превосходство ума которого внушало ей уважение. В то время отношения были еще самые миролюбивые, и весь семейный быт носил даже несколько патриархальный характер благодаря присутствию двух стариков Янишей, отца и матери Каролины Карловны. Старик, почтенной наружности, с длинными белыми волосами, одержим был одною страстью: он с утра до вечера рисовал картины масляными красками. Таланта у него не было никакого, и произведения его были далеко ниже посредственности; но зато правила перспективы соблюдались с величайшею точностью. Он писал даже об этом сочинения, с математическими формулами и таблицами. Старушка же была доброты необыкновенной; оба они производили впечатление Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны в образованной среде. Дочь свою они любили без памяти, и она распоряжалась ими, как хотела. Но главным предметом их неусыпных забот был единственный внук маленький Ипполит, которого держали в величайшей холе, беспрестанно дрожа над ним и радуясь рано выказывающимся у него способностям. Сама Каролина Карловна, хотя несколько муштровала стариков, но позировала примерною женою и нежною матерью.
При таком настроении, она старых друзей своего мужа приняла с распростертыми объятиями, часто ходила к моей матери, звала нас к себе, готова была все для нас сделать. Дом Павловых на Сретенском бульваре[107]107
Впоследствии он был куплен Маттерном. – Прим. Б. Н. Чичерина.
[Закрыть] был в это время одним из главных литературных центров в Москве. Николай Филиппович находился в коротких сношениях с обеими партиями, на которые разделялся тогдашний московский литературный мир, с славянофилами и западниками. Из славянофилов, Хомяков и Шевырев были его близкими приятелями; с Аксаковым велась старинная дружба. С другой стороны, в таких же приятельских отношениях он состоял с Грановским и Чаадаевым; ближайшим ему человеком был Мельгунов. Над Каролиной Карловной хотя несколько подсмеивались, однако поэтический ее талант и ее живой и образованный разговор могли делать салон ее приятным и даже привлекательным для литераторов. По четвергам у них собиралось все многочисленное литературное общество столицы. Здесь до глубокой ночи происходили оживленные споры: Редкий с Шевыревым, Кавелин с Аксаковым, Герцен и Крюков с Хомяковым. Здесь появлялись Киреевские и молодой еще тогда Юрий Самарин. Постоянным гостем был Чаадаев, с его голою, как рука, головою, с его неукоризненно светскими манерами, с его образованным и оригинальным умом и вечною позою. Это было самое блестящее литературное время Москвы. Все вопросы, и философские, и исторические и политические, все, что занимало высшие современные умы, обсуждалось на этих собраниях, где соперники являлись во всеоружии, с противоположными взглядами, но с запасом знания и обаянием красноречия. Хомяков вел тогда ожесточенную войну против логики Гегеля, о которой он по прочтении отзывался, что она сделала ему такое впечатление, как будто он перегрыз четверик свищей. В защиту ее выступал Крюков, умный, живой, даровитый, глубокий знаток философии и древности. Как скоро он появлялся в гостиной, всегда изящно одетый, elegantissimus, как называли его студенты, так возгорался спор о бытии и небытии. Такие же горячие прения велись и о краеугольном вопросе русской истории, о преобразованиях Петра Великого. Вокруг спорящих составлялся кружок слушателей; это был постоянный турнир, на котором выказывались и знание, и ум, и находчивость, и который имел тем более привлекательности, что по условиям времени заменял собою литературную полемику, ибо при тогдашней цензуре только малая часть обсуждавшихся в этих беседах идей, и то обыкновенно лишь обиняками, с недомолвками, могла проникнуть в печать.
Однажды я сказал Ивану Сергеевичу Тургеневу, что напрасно он в «Гамлете Щигровского уезда» так вооружился против московских кружков. Спертая атмосфера замкнутого кружка без сомнения имеет свои невыгодные стороны; но что делать, когда людей не пускают на чистый воздух? Это были легкие, которыми в то время могла дышать сдавленная со всех сторон русская мысль. И сколько в этих кружках было свежих сил, какая живость умственных интересов, как они сближали людей, сколько в них было поддерживающего, ободряющего, возбуждающего! Самая замкнутость исчезала, когда на общее ристалище сходились люди противоположных направлений, но ценящие и уважающие друг друга. Тургенев согласился с моим замечанием.
Мы разом окунулись в этот совершенно новый для нас мир, который мог заманить всякого, а тем более приехавших из провинции юношей, жаждущих знания. Передо мною внезапно открылись бесконечные горизонты; впервые меня охватило неведомое дотоле увлечение, увлечение мыслью, одно из самых высоких и благородных побуждений души человеческой. Я узнал здесь и людей, которые стояли на высоте современного просвещения, и вместе с тем своим нравственным обликом придавали еще более обаяния возвещаемым ими идеям. Здесь сложился у меня тот идеал умственного и нравственного достоинства, который остался драгоценнейшим сокровищем моей души. Я захотел сам быть участником и деятелем в этом умственном движении, и этому посвятил всю свою жизнь.
Первый наш выезд был на публичную лекцию Шевырева, куда повез нас Николай Филиппович. В предшествующую зиму Грановский читал публичные лекции об истории Средних Веков. Это была первая попытка вывести научные вопросы из тесного литературного круга и сделать их достоянием целого общества. Попытка удалась, как нельзя более. Блестящий талант профессора, его художественное изложение, его обаятельная личность производили глубокое впечатление на слушателей. Светские дамы толпами стекались в университетскую аудиторию. По окончании курса Грановскому дан был большой обед, на котором и славянофилы и западники соединились в дружном почитании таланта. Заказан был портрет Грановского, который был поднесен его жене. Это было событие в московской жизни; о нем продолжали еще толковать, когда мы приехали в Москву. В эту зиму публичные лекции читал Шевырев, которому успехи соперника не давали спать. В противоположность курсу, проникнутому западными началами, Шевырев хотел прочесть курс в славянофильском духе. Предметом избрана была древняя русская литература. Стечение публики опять было огромное; но успех был далеко не тот. Ни по форме, ни по содержанию этот курс не мог сравняться с предыдущим. Талант был несравненно ниже, да и скудные памятники древней русской словесности не могли представлять того интереса, как мировая борьба императоров с папами. На нас, однако, первая лекция, которую мы слышали, произвела большое впечатление. Новых мыслей и взглядов мы из нее не почерпнули: известное уже нам поучение Мономаха, проповеди Кирилла Туровского, слово Даниила Заточника не заключали в себе ничего, чтобы могло возбудить ум или подействовать на воображение. Но мы в первый раз слышали живую устную речь, обращенную к многочисленной публике. Толпа народа, наполнявшая аудиторию, студенты с синими воротниками, нарядные дамы, теснившиеся около кафедры, глубокое общее внимание слову профессора, громкие рукоплескания, сопровождавшие его появление и выход, наконец, самая его речь, несколько певучая, но складная, изящная, свободно текущая, все это было для нас совершенно ново и поразительно. Мы остались вполне довольны.
После лекции Павлов представил нас Шевыреву как будущих студентов. Шевырев сказал, что он давно знает отца, и звал нас к себе. Для ближайшего знакомства Павлов пригласил мою мать и нас обоих к себе обедать вместе с ним. Кроме Шевырева, тут были Хомяков, Константин Аксаков и Брусилов, приятель Павлова и моего отца, человек милейший, живой, с тонким и образованным умом, с изящными светскими формами. Разговор был оживленный и литературный, касавшийся текущих вопросов дня. Хомяков, маленький, черненький, сгорбленный, с длинными всклокоченными волосами, придававшими ему несколько цыганский вид, с каким-то сухим и не совсем приятным смехом, по обыкновению говорил без умолку, шутил, острил, приводил стихи только что начинающих тогда поэтов, Ивана Аксакова, Полонского, цитировал, между прочим, и хорошо известную мне строфу Байрона:
Мы были совершенно очарованы этою блестящею игрою мысли и воображения, которую поддерживали и которой вторили остальные собеседники.
На следующий день Павлов повез нас к Шевыреву на дом. Отец мой, который дорожил изяществом речи, очень желал, чтобы Павлов склонил его давать нам частные уроки. Шевырев проэкзаменовал нас, остался нами очень доволен и сказал даже Павлову, что он не ожидал, чтобы можно было так хорошо приготовиться в провинции, но уроки нам давать отказался, говоря, что он, вообще, частных уроков не дает, а в нынешнем году, по случаю публичных лекций, имеет менее времени, нежели когда-либо. Вместо себя он рекомендовал Авилова, как лучшего в Москве учителя русского языка, а нам советовал только записывать его публичные лекции, что мы и стали усердно исполнять, готовясь тем к записыванию университетских курсов.
Вслед за тем Павлов устроил для нас у себя другой обед, который произвел на нас еще большее впечатление, нежели первый, – обед с Грановским. Павлову очень хотелось сблизить нас с ним и склонить его давать нам частные уроки. Здесь в первый раз я увидел этого замечательного человека, который имел на меня большее влияние, нежели кто бы то ни было, которого я полюбил всей душою, и память которого доселе осталась одним из лучших воспоминаний моей жизни. Самая его наружность имела в себе что – то необыкновенно привлекательное. В то время ему было всего 32 года. Высокий, стройный, с приятными и выразительными чертами, осененными великолепным лбом, с выглядывающими из-под густых бровей большими, темными глазами, полными ума, мягкости и огня, с черными кудрями, падающими до плеч, он на всей своей особе носил печать изящества и благородства. Также изящна и благородна была его речь, тихая и мягкая, порою сдержанная, порою оживляющаяся, иногда приправленная тонкою шуткою, всегда полная мысли и интереса. И в мужском, и дамском обществе разговор его был равно увлекателен. Он одинаково хорошо выражался на русском и на французском языках. В дружеском кругу, когда он чувствовал себя на свободе, с ним никто не мог сравняться; тут разом проявлялись все разнообразные стороны его даровитой натуры: и глубокий ум, и блестящий талант, и мягкость характера, и сердечная теплота, и, наконец, живость воображения, которое во всякой мелочной подробности умело схватить или поучительную, или трогательную, или забавную картину. У Павловых он был близкий человек. Хозяева, муж и жена, с своей стороны, были вполне способны поддерживать умный и живой разговор. Павлов, когда хотел, сверкал остроумием, но умел сказать и веское или меткое слово. Мы, только что прибывшие из провинции юноши, с жадностью слушали увлекательные речи. Очарование опять было полное.
На следующий день, после обеда, Николай Филиппович повез нас к Грановскому, который жил тогда в доме своего тестя[109]109
Тесть Грановского – доктор медицины Богдан Карлович Мильгаузен.
[Закрыть], на углу Садовой и Драчевского переулка. Доселе я не могу без некоторого сердечного волнения проезжать мимо этого выходящего на улицу подъезда, к которому в первый раз меня подвезли еще совершенно неопытным юношей, едва начинающим жить, у которого я и впоследствии столько раз звонил, спрашивая, дома ли хозяин, всегда ласковый и приветливый, умевший с молодежью говорить, как с зрелыми людьми, возбуждая в них мысль, интересуя их всеми разнообразными проявлениями человеческого духа, в прошедшем и настоящем. Сколько раз входил я в этот скромный домик, как в некое святилище, с глубоким благоговением; сколько выносил я оттуда новых и светлых мыслей, теплых чувств, благородных стремлений! Здесь я с пламенной любовью к отечеству научился соединять столь же пламенную любовь к свободе, одушевлявшую мою молодость и сохранившуюся до старости с теми видоизменениями, которые приносят годы; здесь в мою душу запали те семена, развитие которых составило содержание всей моей последующей жизни.
Павлов ввел нас по узкой и крутой лестнице в кабинет Грановскаго, который находился в исчезнувшем ныне низеньком мезонине. Грановский принял нас самым ласковым образом, расспросил, что мы прошли из истории и что мы читали. Услышав, что мы хорошо знаем по-английски, он раскрыл книгу и заставил нас сделать устный перевод, что мы исполнили совершенно удовлетворительно. Затем зашла речь о том, на какой нам вступать факультет. Грановский советовал непременно на юридический, признавая его единственным, заслуживающим название факультета. Там были Редкин, Кавелин, Крылов; сам Грановский читал на юридическом факультете тот же курс, что и на словесном. Он прибавил, что на кафедру государственного права готовится вступить Александр Николаевич Попов, который, хотя славянофил, но человек умный, а потому, верно, будет читать хороший курс. В то время словесный факультет был главным поприщем деятельности Шевырева и развития славянофильских идей; юридический же факультет был оплотом западников. Из отзыва Грановского о Попове видно, однако, что западники отнюдь не были исключительны, а рады были принять славянофила в свою среду, когда считали его полезным, и если Попов не получил кафедры, то виною была собственная его несостоятельность. В ту же зиму он прочел перед факультетом пробную лекцию, и профессора, нисколько не причастные западному направлению, как Морошкин, нашли ее столь неудовлетворительною, что ему отказали. Таким образом, юридический факультет миновала и эта доля припущения славянофильского духа. Решившись сделаться юристами, мы тем самым подпадали под полное влияние западников. Но это совершилось уже позднее. В настоящее время для нас важно было то, что после свидания с нами, Грановский согласился давать нам частные уроки и приготовить нас к университетскому экзамену.
У Павловых мы познакомились и с молодым человеком, который приглашен был давать нам уроки латинского языка и немецкой литературы. Он был еврей, родом из Одессы, но воспитывавшийся в Германии, доктор Лейпцигского университета, именем Вольфзон. В Москву он приехал с целью читать публичные лекции о немецкой литературе, надеясь тем заработать некоторые деньги, и затем, вернувшись в Германию, жениться. Павлов воспользовался этим случаем, чтобы свести его с нами. Человек он был недалекого ума, но очень живой и образованный, страстный поклонник немецкой науки и немецкой литературы. Гервинус[110]110
Георг-Готфрид Гервинус (1805–1871), немецкий историк, преподавал в Геттингене и в Гейдельберге.
[Закрыть] был его идеалом. Он отлично знал и по-латыни, и сам прекрасно говорил на этом языке. Нам он с восторгом рассказывал о германских университетах, о тамошних профессорах, что внушало нам благоговение к этим святилищам просвещения. При первом же свидании, за обедом у Павловых, он заставил нас сделать изустный перевод с латинского языка. Я без труда перевел ему несколько фраз, не только из Тита Ливия, но и из Тацита. Он остался вполне доволен и сказал, что мы в короткое время сделаем удивительные успехи. Больших успехов однако не оказалось, ибо в сущности он был вовсе неопытный педагог. Он засадил нас за перевод посланий Овидия; многоречиво толковал нам тонкости языка, хотел даже заставить нас говорить по-латыни, но последнее, по краткости времени, не удалось, да и вовсе было не нужно. Я по-латыни знал совершенно достаточно не только для университета, но и для дальнейших занятий, и уроки Вольфзона весьма немногое прибавили к моему знанию.