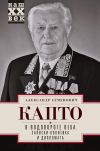Текст книги "Воспоминания. Том 1. Родители и детство. Москва сороковых годов. Путешествие за границу"
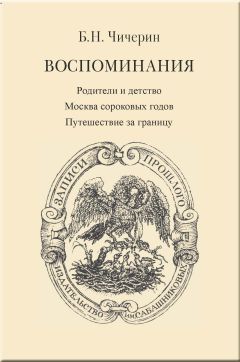
Автор книги: Борис Чичерин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 42 страниц)
После меня дошла очередь и до других сотрудников. Прежде всего, разумеется, надобно было отделаться от Корша, которого мнения расходились с установившимся направлением редакции. К сожалению, последовав приглашению Каткова и оставив службу в Петербурге, он не обеспечил себя никаким формальным актом, в чем друзья с самого начала его упрекали. Теперь, когда журнал упрочился, и Корш стал не нужен, его старались всячески теснить. Политическое обозрение, которым он заведовал, подвергалось цензуре и искажалось Катковым. Наконец, чтобы окончательно его выжить, с ним просто сделали гадость. Редакция желала иметь свою типографию, а средств у нее для этого не было. Но у Корша были друзья, у которых были деньги. Из дружбы к нему, они согласились внести свои капиталы. Дело было летом; все разъехались и дали Кетчеру доверенность для совершения окончательного акта. И вдруг оказалось, при подписи, что вместо редакции «Русского Вестника», участниками предприятия являются только Катков и Леонтьев; имя Корша было опущено. Не будучи сам участником в деле, Кетчер не решился отказать в подписи; но все были до крайности возмущены. Приятели Корша не дали бы ни гроша Каткову и его другу; они были вовлечены в предприятие чистым обманом. Типография с первого раза пошла отлично, и деньги были им впоследствии возвращены. Но в результате редакторы остались хозяевами предприятия, основанного на чужие капиталы: путем самой некрасивой проделки.
Разумеется, после этого Корш должен был прервать с ними всякие сношения. Он тотчас вышел из редакции и просил разрешения издавать свой собственный журнал. Я в это время жил в деревне, где провел всю вторую половину 1857 года; весною же 1858 я собирался ехать за границу. О всех, последних историях я ничего не знал, как вдруг получаю от Корша письмо, в котором он извещает меня, что он оставил редакцию «Русского Вестника» и основывает свой собственный журнал «Атеней». Меня с первого раза удивила странность этой еженедельной формы, неспособной ни к газетной полемике, ни к основательному обсуждению вопросов. Английский еженедельный журнал того же имени имел целью давать небольшие критические статьи о текущей литературе; но в России требовалось совершенно иное. Неужели же Корш хотел этому подражать?
Когда я в начале следующего года приехал в Москву и посмотрел навею процедуру издания, я пришел к убеждению, что «Атеней» едва ли пойдет. Тут не было ничего похожего на толпящуюся суету редакции «Русского Вестника», где собирались самые разнородные лица и происходило живое обсуждение текущих вопросов. Корш продолжал жить в своем скромном уединении, а, между тем, сам для журнала вовсе не работал. Едва можно было подвинуть его на какую-нибудь маленькую статейку. Основав новое предприятие, он, казалось, успокоился на лаврах и ожидал, что статьи будут падать ему прямо в рот. Он даже как будто намеренно, с какою-то брезгливостью, удалялся от животрепещущих вопросов дня и спокойно предавался обсуждению чисто теоретических тем, которые никого не интересовали. При таких условиях трудно было рассчитывать на успех, тем более, что приходилось вступать в конкуренцию с «Русским Вестником», который, несмотря на свои диктаторские приемы, вел дело с несравненно большим умением и имел за себя уже упроченную репутацию. В Москве не было достаточно литературных сил для двух журналов приблизительно одного направления. При всяких условиях, основание нового органа с оттенком, непонятным для большинства публики, было затруднительно. При редакторе, который вместо того, чтобы нести дело на своих плечах, уклонялся от всякой инициативы, это было предприятие, обреченное на скорую гибель.
Тем не менее, я старался на первых порах поддержать Корша, сколько мог, и работал для журнала тем усерднее, что с отъездом за границу моя литературная деятельность должна была надолго прекратиться. Я дал в «Атеней» статью об истории французских крестьян, а также о промышленности и государстве в Англии; наконец, я написал статью о том вопросе, который в то время волновал все умы – об освобождении крестьян в России. В конце 1857 года вышли знаменитые рескрипты виленскому генерал-губернатору, которыми это преобразование ставилось на очередь. Начинали организоваться губернские комитеты. В своей статье я изложил тот способ освобождения, который я считал наиболее рациональным и соответствующим сложившимся у нас жизненным условиям[214]214
«О настоящем и будущей положении помещичьих крестьян» («Атеней», 1858 г., ч. I, № 8).
[Закрыть].
Об этом уже некоторое время шли горячие прения. Славянофилы, со своей стороны, написали несколько проектов, которые в рукописи ходили по рукам. Сходясь с ними в самом существе дела, в необходимости освобождения крестьян с землею посредством выкупа, мы расходились в способе осуществления этой реформы. Славянофилы держались системы свободных соглашений, а я требовал действия правительства. По этому поводу Черкасский говорил мне: «Ваш проект предполагает разумное, вполне сознающее свою цель и твердо к ней идущее правительство, чего мы ожидать не можем. Мой же проект предполагает только проблеск здравого смысл, на который можно рассчитывать». А Кошелев писал мне еще в 1856 году: «Совершенно согласен с Вами в том, что справедливо и необходимо уничтожить крепостное состояние, что теперь, именно теперь должно к этому приступить, что откладывать невозможно, и что все опасения насчет этого переворота суть или создание воображения или выдумки эгоизма. Во всем этом я с вами совершенно согласен; но Вы во все вмешиваете правительство – Вы хотите, чтобы оно издало подробные положения насчет освобождения, чтобы оно после было судьею и исполнителем по всем спорам и жалобам, чтобы оно было постоянным опекуном и защитником всех и каждого – на это я никак согласиться не могу. Мое несогласие основано не на том только, что наша полиция гнусна и что наше правительство ничего не знает о России, что, впрочем, было бы достаточно для опровержения предлагаемого вами способа, который должен быть приведен в исполнение не со временем, а сейчас, но я считаю вмешательство постоянное и мелочное самой лучшей администрации в общественные и частные дела всегда делом вредным и опасным. Мое убеждение: правительство должно дать толчок уничтожению крепостного состояния, объявив основные правила, на которых освобождение должно быть произведено; но все остальное предоставить взаимным соглашениям помещиков с крестьянами. Не только Россия, но каждая губерния, почти каждый уезд так разнообразны, что если правительство возьмется установить правила, то оно перепутает все, ничего не разрешит, как должно, и из добра выйдет величайшее зло. Для соглашений у нас есть такой элемент, какого лучше желать нельзя – именно мир. Мир не легко принудить к подписанию какого-либо договора, на который-он не согласен. К тому же правительство может удостовериться в согласии обществ через своих уполномоченных, при 24 или более понятых, собранных из окольных сел. Вы имеете также в виду предоставление земли в личную собственность крестьян, а я убежден, что земля должна быть предоставлена в собственность крестьянских обществ; это – одно средство к избежанию пролетариата и общей бедности. Вы полагаете, что частная, дробная собственность гораздо благоприятнее для успехов сельского хозяйства, а я думаю на основании личной опытности и по сведениям, доставленным Францией, что частная, дробная собственность вредна для успехов сельского хозяйства и убийственна для просвещения сельского сословия».
Последнее разногласие было, впрочем, чисто теоретическое. На практике я был убежден, и тогда же это высказал, что вопрос об общинном владении не должен быть решен вместе с вопросом об освобождении крестьян. Я полагал, что это дело дальнейшего будущего, что надобно предоставить его самой жизни, не запирая только двери, что и было сделано в Положении 19 февраля. Но частные соглашения я положительно считал недостаточными. Из письма Кошелева видно, до какой степени самые практические славянофилы предавались иллюзиям насчет крестьянского мира. Когда пришлось применять Положение, оказалось, что во многих местностях мир, вопреки убеждениям помещика, настоятельно требовал невыгодного для крестьян четвертного надела. Высказанный мною взгляд на способ освобождения нашел себе полное оправдание в последующем ходе дела. Он немедленно был усвоен людьми, призванными руководить работами. Милютин сказал мне, что мою статью в «Атенее» надобно положить в основание инструкций для губернских комитетов. М. Н. Муравьев, в то время министр государственных имуществ, пожелал со мною познакомиться и хотел, чтобы я у него работал. Но так как я объявил ему, что еду надолго за границу, то наш разговор кончился ничем. Действительно, в конце апреля я отправился в путь.
Цель моей поездки состояла в том, чтобы поближе узнать Европу и вместе приготовиться к ученой деятельности. Я писал по книгам об Англии и Франции, но убедился, что судить вполне основательно можно только побывавши в этих странах и изучивши их лично. В особенности экономический их быт известен мне был слишком поверхностно. Тут не трудно было впасть в крупные ошибки. Я хотел также прослушать курс государственного права в Германии. Перед моим отъездом, попечитель Московского учебного округа Евграф Петрович Ковалевский предложил мне кафедру государственного права в Московском университете, на что я изъявил согласие, а так как вслед за тем он был назначен министром народного просвещения, то я считал кафедру за собою обеспеченною.
При таких условиях отвлекаться от своего дела и погрузиться в громадную работу по освобождению крестьян было для меня невозможно. Когда образованы были Редакционные Комиссии, Милютин изъявил мне свое сожаление, что я не состою их членом; но я отвечал, что эту работу исполнят другие, даже гораздо более меня знакомые с практическим делом люди, а у меня есть свое специальное призвание, от которого я не могу уклониться.
Я уехал за границу в самую знаменательную для России пору, в минуту величайшего исторического перелома, когда готовилось преобразование, навсегда покончившее со старым порядком вещей и положившее основание новому. С тем вместе кончался чисто литературный период нашего общественного развития; наступала пора практической деятельности. Перед этим еще раз около немногих центров, соединилось все, что Россия заключала в себе умственных сил, как бы для того, чтобы собрать воедино все духовное наследие предшествующего времени и предать его новой исторической эпохе. Таково было существенное значение литературного движения второй половины пятидесятых годов.
Если мы взглянем на то, что было высказано в то время в приложении к настоятельным жизненным задачам, то мы должны признать, что русская мысль стояла на высоте своего призвания. Вопросы были поставлены верно, цели указаны правильно, самые способы действия были разработаны обдуманно и с знанием дела. Общественная мысль, по крайней мере в московских кружках, не забегала вперед, не задавалась фантастическими задачами, трезво смотрела на жизнь и держалась умеренного, хотя вполне независимого тона. В этом отношении и славянофилы и западники сходились в дружном действии. Вся программа нового царствования была заранее начертана в умах.
Но нельзя сказать того же о теоретической подкладке. Тут под внешним блеском скрывалась значительная бедность содержания. Основательного образования было мало, и славянофильство подрывало его в самом корне, отвергая истинные его источники и возвещая какое-то самобытное русское просвещение, которое должно было родиться из недр православного скудоумия. Споры они вели недобросовестно, не разъясняя, а затемняя вопросы и сбивая с толку неприготовленные русские умы. Я уезжал возмущенный тою, во многих отношениях бессмысленною борьбою, через которую я должен был пройти при первом вступлении на ученое и литературное поприще.
Глубоко огорчил меня и тот раскол, который обнаружился в направлении, мне сочувственном. В то время, как нужно было соединить все силы в интересах русского просвещения, все распалось вследствие нетерпимости одного лица, которое не хотело допускать иных взглядов, кроме своих собственных, притом крайне односторонних и шатких, способных не менее славянофильства напустить туман на мало образованное общество. И это лицо, силою своего таланта и уменья, одно осталось торжествующим, беспрепятственно проповедуя сперва пустословный либерализм, а затем самую крайнюю реакцию и устраняя возможность всякой конкуренции на журнальном поприще.
Это явление убедило меня, что, вообще, журналистика имеет смысл и может принести пользу только там, где существует серьезная литература, которая служит ей основанием, пищею и сдержкою. У нас научная литература совершенно отсутствовала, а потому о политических, исторических и философских вопросах можно было болтать все, что угодно. Помочь этому горю могло только распространение основательного научного образования. В этом убеждении я решил не писать более в журналах, а вложить свою лепту в основной капитал будущего русского просвещения. Этому я и посвятил всю свою жизнь. Только раз, в 1861 году пришлось мне отступить от этого правила в силу обстоятельств, о которых я расскажу ниже. В других случаях я твердо стоял на своем. В 1860 году, когда после падения «Атенея» Соловьев, Бабст и другие мои приятели хотели издавать новый журнал и приглашали меня к деятельному сотрудничеству, я изложил им свой взгляд и прямо отказался. Предприятие, вследствие нашего разговора, не получило дальнейшего хода. Позднее Черкасский не раз уговаривал меня издавать ежедневную газету; я отвечал, что это значило бы разменять себя на мелкую монету, а я желаю сосредоточиться на более серьезных задачах. Он возражал, что теперь в России книг уже никто не читает, а я доказывал, что если бы у нас было всего пять человек, читающих книги, то единственно для них стоило бы писать, ибо от них зависела бы вся дальнейшая судьба русского просвещения.
Не могу, однако, не сказать по прошествии тридцати пяти лет почти непрерывной научной работы, что писать ученые книги в России в настоящее время – труд весьма неблагодарный, требующий значительной доли самоотвержения. Если даже в Западной Европе жалуются на то, что чтение газет вытеснило чтение книг, то у нас и подавно привычка довольствоваться легкою журнальною болтовнёю делает несносным всякое напряжение мыслей, даже всякое умственное внимание. Число серьезных чтецов все более и более уменьшается. Я давно говорю, что образованный человек в России скоро сделается ископаемым животным. При таких условиях писать книги, которые, может быть, пригодятся воображаемой будущей публике, а пока только заполняют амбары никому не нужным хламом, составляет занятие очень непривлекательное. Я продолжал упорно тянуть свою лямку, но не раз приходило мне в голову сомнение: да полно, точно ли вся твоя долголетняя работа послужит кому-нибудь в пользу? Не обольщаешь ли ты себя пустыми призраками. Конечно, надобно надеяться, что и в твоем отечестве когда-нибудь водворится, наконец, основательное просвещение; но тогда найдутся и люди, которые исполнят требуемую задачу, а о тебе вспомнят разве, как о человеке, который не понял потребностей времени, и принялся бросать семена мысли на вовсе еще не приготовленную почву.
Чем старее я становлюсь, тем настойчивее возбуждаются эти сомнения. Озираясь назад на свою прошедшую жизнь, я в раздумье ставлю большой вопросительный знак. Только будущие поколения могут дать на него ответ.
Путешествие за границу
В настоящее время путешествие за границу дело самое обыкновенное. При легкости и удобстве сообщений, едва ли найдется сколько-нибудь образованный человек, который бы не объехал почти всю Европу. Многие делали это даже по нескольку раз. Не то было в прежние времена, когда железные дороги еще не существовали, а русское правительство, особенно с 1848 года, делало всякие затруднения подданному, дерзающему преступить священные пределы отечества. В ту пору путешествие в чужие края было событием в жизни. На путешественника смотрели, как на человека вкусившего высших плодов просвещения. Его с любопытством расспрашивали обо всем виденном и слышанному Рассказам не было конца.
Во время Восточной войны сношения с чужими краями сделались еще затруднительнее. Но с новым царствованием и с заключением мира, все препятствия разом исчезли. Двери отворились настежь, и вся Россия ринулась за границу. Я последовал общему течению. Это был целый новый мир, который открывался передо мною, мир, полный прелести и поэзии, представлявший осуществление всех моих идеалов. Чудеса природы и искусства, образованный быт стран, далеко опередивших нас на пути просвещения, наука и свобода, люди и вещи – все это я жаждал видеть своими глазами: я хотел насытиться новыми, свежими впечатлениями, представляющими человеческую жизнь в ее высшем цвете.
Ближайшею моею целью был Турин, где брат Василий состоял тогда первым секретарем посольства. Я не видал его два года, и это был, вместе с тем, случай взглянуть на верхнюю Италию и на политическое движение в Пиэмонте[215]215
Пиэмонт (Пьемонт) – подножие горы, область сев. – зап. Италии, перед объединением ее входившая в состав Сардинского Королевства.
[Закрыть], который сделался уже центром национальных стремлений итальянского народа. Туда я направился через Варшаву и Вену. До Варшавы не было еще железной дороги, и я тащился шесть сучок в дилижансе, в компании с старой и вовсе не интересной генеральшей, которой единственная приятная сторона состояла в том, что она кормила меня разными явствами[216]216
О своем путешествии от Москвы до Варшавы в обществе г-жи Лошкаревой, вдовы сенатора Григория Сергеевича Лошкарева, Б. Н. Чичерин рассказывает подробно и с большим юмором в письме к Л. Н. Толстому из Варшавы от 2 мая 1858 г. (Письма Толстого и к Толстому, стр. 267–270).
[Закрыть]. Из Варшавы железная дорога перенесла меня в 24 часа в Вену.
Здесь я получил первое сильное впечатление от заграничной поездки. Это впечатление произвел не город, который, несмотря на свою красоту, ничем особенно не отличается от всяких больших городов в европейском вкусе и напоминал мне Петербург. Прекрасные здания, отличная мостовая, великолепный Пратер[217]217
Главная улица в Вене.
[Закрыть], господствующие повсюду законченность и чистота, к которым мы в России не привыкли, все это мне нравилось, но ничего не говорило уму. Впечатление произвело на меня первое знакомство с основательным немецким ученым. Случайно, на железной дороге я разговорился с ехавшим со мною стариком, который сказал мне, что у него есть сын в Венском университете и дал мне к нему карточку. Я отправился к этому молодому человеку, а тот повел меня к Лоренцу Штейну. Около часу провел я у последнего в увлекательной беседе об общих научных вопросах, в особенности о недавно появившемся его учении об обществе. Я был совершенно очарован. После этого я отправился к нему на лекцию и по его приглашению повторял свои посещения. Мы с ним с первого раза сблизились, и впоследствии, всякий раз как я бывал в Вене, я обыкновенно вечера проводил у него в самых приятных и поучительных разговорах. Это не был тип чисто кабинетного немецкого ученого, тип, впрочем, весьма почтенный и интересный. Штейн, при большой живости ума, отличался замечательным разнообразием сведений и вкусов. Он был и философ. И юрист, и политикоэконом, он вел практические промышленные и финансовые предприятия, знал жизнь и людей. К этому присоединялись художественные наклонности: у него была весьма недурная картинная галерея. Тут я в первый раз почувствовал, что такое истинно научная атмосфера, в которой живут люди, и которая побуждает их смотреть на вопросы спокойно и просто, видеть в них не дело партии или повод к ожесточенным препирательствам, а предмет серьезного объективного исследования. Я узнал человека самостоятельно работающего для науки, владеющего всеми ее средствами, открывающего в ней новые горизонты, но чуждого всякой заносчивости, всякого шарлатанства и самохвальства. Самые ошибки являлись у него не плодом легкомыслия, хватающего верхушки, а результатом добросовестно обдуманной, хотя и недостаточно обследованной, мысли. Вместо рьяных споров, служивших только поприщем для бесплодной гимнастики ума, тут является возможность спокойного обмена мыслей, из которого выносишь полное умственное удовлетворение. После беседы с Штейном мне еще живее представилась вся пустота недавних наших прений с славянофилами, которые, едва прикоснувшись к западной науке, осуждали ее, как гниль, а себя считали глашатаями новых, неведомых миру истин.
Под конец жизни Штейн свихнулся. Практические его предприятия повели к тому, что он сначала приобрел порядочное состояние, а затем разорился. Имение его было продано с молотка. Вместо того, чтобы приписать это, как следовало, своей нерасчетливости или несчастному стечению обстоятельств, он, по немецкой привычке, возвел это в общий экономический закон и стал уверять, что поземельная собственность, вообще, непременно ведет к разорению. Несколько социалистические наклонности, которые были у него в молодости, но совершенно отпали в зрелых летах, снова выплыли под влиянием жизненных неудач, и он стал проповедовать идеи уже вовсе ненаучного свойства, которым он авторитетом своего имени давал вес и значение, тем самым поддерживая хаотическое брожение умов в современной Германии. В эту последнюю пору его жизни я его уже не видал, а потому сохранил о нем те воспоминания, которые я вынес из лучшей эпохи ученой его деятельности. Он скончался недавно[218]218
Л. фон Штейн умер в 1890 г.
[Закрыть].
В Вене я пробыл несколько дней и затем двинулся далее, через Венецию в Милан. Тут я испытал полное очарование. Вся дорога представляла для меня ряд совершенно новых, поразительных впечатлений. Проведя всю свою жизнь в убогой русской степи, я никогда не видал ни моря, ни скал. Здесь то и другое явилось мне в неведомом дотоле величии. Даже сидя в вагоне железной дороги, который менее всего благоприятствует впечатлениям природы, я не мог насмотреться на величественный переезд через Земмеринг и на прелестную долину Савы. Ночью я слез в Триесте на пароход, но уже ранним утром я был на палубе и тут меня впервые поразил вид гладкого, как зеркало, моря при восхождении солнца. Я весь погрузился в созерцание этой сияющей бесконечности. Было тихое и теплое майское утро; на небе не виднелось ни единого облачка. Пароход шел быстро; вот уже издали показались очертания земли. Наконец, перед нами предстала, как бы выходящая из моря, облитая весенним солнцем Венеция, с ее мраморными дворцами, с ее изящною архитектурою, то с стрельчатыми окнами, подобно готическим храмам, то с легкими колоннами и арками времен Возрождения. Мы пристали к площади св. Марка, и я, взявши нумер в гостинице, тотчас побежал осматривать церковь и дворец. Это были минуты полного упоения. Я чувствовал себя как бы вынесенным вон из современной жизни и перенесенным на крыльях в область поэзии и искусства. Впервые архитектура произвела на меня обаятельное действие. Я долго стоял очарованный на внутреннем дворе дворца дожей, и не мог налюбоваться на удивительно тонкие и изящные украшения стен и на прелестные линии Лестницы Гигантов. И как будто для оживления картины около цистерны собрались, с ведрами на плечах, молодые, красивые, грациозные венецианки в их национальном наряде. Я вошел во дворец, и тут передо мною в живых образах воскресла вся история Венеции: я видел пышно убранные комнаты с тяжело изваянными золочеными потолками, где заседали Большой совет и мрачный Совет десяти; на стенах изображались выигранные сражения, торжество победителей, старые дожи в их блестящих одеждах, венецианские сенаторы в их пурпурных мантиях, с их строгими и важными лицами. Такое же чарующее впечатление произвела на меня и венецианская живопись в Академии Художеств: «Вознесение Богородицы» Тициана, мадонны Беллини, Тинторетто, Веронезе, вся эта своеобразная пышность красок и образов. Венецианская школа в Венеции представляет не просто картинную галерею, более или менее полную и богатую. Она составляет необходимое дополнение к самой Венеции, художественное изображение всего ее прежнего блеска и величия. И собор св. Марка, и дворцы, и каналы, и рассеянные по церквам и собранные в Академии картины старых живописцев, все это сливалось для меня в одно цельное, художественное впечатление, которое охватывало душу с тем большею силою, что оно являлось как бы тенью прошедшего, в резком контрасте с навевающим грусть настоящим. При захождении солнца я плыл по каналам и видел по обоим берегам пустынные дворцы, многие с заколоченными окнами; повсюду следы небрежности и разрушения. В большом городе царило безмолвие. Бесшумно скользящие по водам гондолы представлялись как бы тенями, которые боялись нарушить эту торжественную тишину. Самая собиравшаяся по вечерам толпа на площади св. Марка двигалась безмолвно и уныло. И, как сторож этого кладбища, на внешней галерее дворца дожей стоял австрийский пикет. На всем лежала печать какой-то печальной и величавой поэзии. У меня от всех этих ощущений закружилась голова. Несмотря на природную наклонность к живописи, я вовсе не был приготовлен к пониманию искусства. До тех пор я, в сущности, ничего не видал, а тут внезапно обрушился на меня целый мир изящных впечатлений в какой-то ослепительной роскоши, в таком изумительном разнообразии и богатстве, среди которых я совершенно терялся. Через три дня я уехал и остановился в Милане, чтобы посмотреть на собор. И тут я получил одно из тех впечатлений, которые никогда не забываются. Осмотревши внутренность храма с ее массивными белыми столбами и стрельчатыми сводами, освещенными таинственным полусветом, я взобрался на крышу и пошел бродить среди целого леса стройных, изящно изваянных мраморных стрелок, любуясь кружевными узорами колокольни; и вдруг, на этой высоте, откуда взор беспрестанно простирался во все стороны, передо мной открылась вся цепь покрытых снегом альпийских гор, которых белые вершины ярко блестели на глубоко прозрачной лазури безоблачного южного неба. Это было зрелище поразительное и возвышающее душу. И природа, и искусство – все соединялось для того, чтобы унести ее в какой-то волшебный мир, полный чарующей красоты.
Наконец я добрался до Турина, где меня встретил брат. После долгой разлуки увидеться с ним было для меня сердечным удовольствием. Мы всегда жили с ним в тесной дружбе. Его ровный и спокойный характер, его общительный нрав, его мягкие и изящные светские формы, а с тем вместе высокий нравственный строй и отсутствие всяких претензий, делали его чрезвычайно приятным, как в домашней жизни, так и в общественных отношениях. Я на чужбине почувствовал себя вновь как бы в своей семье. Брат тотчас представил меня нашему посланнику при Сардинском дворе, графу Штакельбергу, с которым он находился в самых дружеских отношениях, и с которым скоро породнился, женившись на его племяннице. Это был человек не отменного ума, но рыцарски благородного характера, старый военный, чрезвычайно живой, приветливый, общительный, с поэтическими наклонностями. Он очень недурно писал французские стихи. От него осталась даже целая поэма, под заглавием: Сильвия, с поэтическим описанием итальянской природы и романтической любви. Несмотря на свое остзейское происхождение и иностранное воспитание, он был патриот, любил говорить по-русски и в особенности щеголял знанием разных народных пословиц и поговорок, которые он, однако, обыкновенно перевирал. Это была маленькая смешная сторона в его возвышенной и симпатичной натуре. В Турине он пользовался общим уважением. Жена его, француженка, очень неглупая, сдержанная, привлекательной красоты, царила в салоне, в котором часто собирались дипломаты.
Брат ввел меня и в дипломатический клуб, самое скучное собрание людей, какое я встречал в своей жизни. Говорю это не о туринском обществе, а вообще. После этого я во многих местах видел сборища дипломатов, и везде они производили на меня одно и то же впечатление. Я приписывал это самому их положению. Дипломат – человек, отрешившийся от живых интересов родного края и не примкнувший к другим, остающийся все-таки чуждым стране, в которой он случайно находится по своим служебным обязанностям. Всякая почвенная связь у него порвана; жизненное содержание исчезло, а взамен того приобретен светский лоск и умение говорить прилично о всяких пустяках. Невольно дипломат заражается салонными взглядами, самыми поверхностными и неверными из всех. К этому присоединяется то, что по самому своему положению он принужден избегать серьезных разговоров. Он не может высказывать откровенно свою мысль, а должен постоянно держать себя настороже, чтобы не проронить лишнего слова. В особенности, когда собраны вместе представители разных держав, имеющих совершенно различные дипломатические интересы, всякий живой вопрос по необходимости устраняется, и все ограничивается обменом поверхностных замечаний о светских пустяках. И это не искупается даже тем согревающим элементом, который вносят простые, домашние, дружеские связи в светское общество, имеющее местные корни. Случайно сходящиеся люди, облеченные бронею дипломатической чопорности и светского приличия, соприкасаются чисто внешними своими сторонами, не имея между собою ничего общего. На постороннего человека, особенно привыкшего к живому и искреннему обмену мыслей, подобные собрания нагоняют невыносимую скуку.
В Турине было, однако, в то время нечто гораздо более занимательное, нежели дипломатические собрания. Он был центром самой живой политической жизни. Это была та пора, когда в Италии пробудилось национальное чувство и все взоры обратились на Пиэмонт, который решительно стал во главе движения. Как электрическая искра, пробежала по итальянским сердцам знаменитая фраза, сказанная Виктором-Эммануилом при открытии палаты: «Мы однако не бесчувственны к крику боли, который из стольких частей Италии поднимается к нам». Все, что было мыслящего и благородного в Италии собралось в Пиэмонте, который один представлял убежище от невыносимого деспотизма, царившего всюду. Во главе сардинского правительства стоял государственный человек первой величины, который с необыкновенною ловкостью и прозорливостью умел двигаться между опасностями и давать своему маленькому государству выдающееся значение среди европейских держав. Здесь были я парламентские учреждения, какими в то время не обладал ни один другой народ на европейском материке. На почве самой широкой политической свободы Кавур воздвигал будущее величие своего отечества, и все, что было истинно либерального в Европе с глубоким сочувствием смотрело на его начинания.
На следующий же день после моего приезда в Турин брат повел меня в палату депутатов, в дипломатическую трибуну. Я итальянскому языку немного учился в детстве, но устной речи вовсе не понимал. Тем не менее, самый вид парламента и происходившие в нем политические прения произвели на меня глубокое и возвышающее душу впечатление. Я видел перед собою людей, от которых зависели не только судьбы отечества, но некоторым образом и самые судьбы мира: знаменитого Кавура, с невзрачною наружностью, маленького, толстенького, в очках, но с необыкновенно умным и проницательным взглядом, тогдашнего его союзника Ратацци, благородную фигуру военного министра Ламармора, вождей правой и крайней левой, Ревеля, Депретиса, Брофферио. Я слушал их то страстные, то сдержанные речи. Вся парламентская процедура, это свободное обсуждение высших интересов государства не в тайне бюрократических совещаний, а перед лицом всего народа, живо меня занимала, и я много раз возвращался в это святилище, думая: придется ли когда-нибудь видеть нечто подобное в моем собственном отечестве? Увы, мне уже и тогда это казалось несбыточною мечтою. То, что я оставил позади, слишком далеко отстояло от того, что представлялось моим взорам. Я с жадностью принялся и за чтение итальянских газет. В первый раз мне доводилось находиться в самом средоточии живой политической жизни. Это был уже не отголосок, приносящийся из каких-то отдаленных стран, а постоянный, ежедневный, волнующий интерес окружающей среды. И этот интерес осуществлял в себе высшие начала общественной жизни и открывал самые широкие и заманчивые горизонты в будущем. Вместо предсмертных судорог развратного старичишки, как выражались славянофилы, я видел возрождение юного, полного сил народа, которому предстояла великая будущность. Если Венеция представляла все величие прошлого, то Турин проявлял всю бодрость и силу настоящего. Здесь, как бы в маленьком фокусе, сосредоточивалась европейская жизнь во всем ее блеске, в идеальном благородстве ее стремлений. И надежд окунуться в эту атмосферу, насквозь проникнуться оживляющим ее могучим дыханием свободы – это было событием в жизни, оставляющим в душе неизгладимые следы. Не могу без удивления подумать о тех молодых людях, которые, как Добролюбов, приехавши в Турин и видя воочию это беспримерное движение, не только не испытывали на себе неудержимого к нему сочувствия, но с остервенением ополчились на Кавура и на его деятельность. На это нужно было все невежество, тупоумие и пошлость русского радикала новейшего фасона. И этого господина возводят в великие люди, делают из него учителя русского общества![219]219
Речь идет о корреспонденции Н. А. Добролюбова «Из Турина», появившейся в «Современнике», 1861, № 3.
[Закрыть]