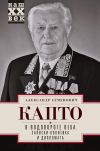Текст книги "Воспоминания. Том 1. Родители и детство. Москва сороковых годов. Путешествие за границу"
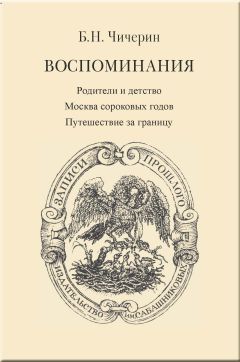
Автор книги: Борис Чичерин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 38 (всего у книги 42 страниц)
Но через несколько минут он не выдержал, и скова возвратился к прежней теме, опять сначала вполголоса, потом все более воодушевляясь. Теще опять пришлось его укрощать, и он с отчаянием сел; но, наконец, он окончательно закусил удила: речь полилась потоком, и я только махал рукою на тещу, чтобы та оставила его в покое.
Случалось, что он хотел произвести эффект, но это назначалось только для новых лиц, которых он сразу хотел чем-нибудь поразить. В первый же вечер, когда я явился в его гостиную, он чтобы попытать меня, отпустил мне фразу, которую я несколько лет спустя, встретил в одной из его речей в Законодательном Корпусе: «Франция – генеральный штаб, Англия – муниципий». Произнеся это изречение, он остановился, чтобы посмотреть, какое оно на меня произведет впечатление, и что я на это скажу. Я отвечал, что для водворения свободы мало одного генерального штаба; необходимы муниципальные добродетели. При дальнейшем знакомстве такие заранее обдуманные эффекты уже не повторялись. В сущности, ему не зачем было к ним прибегать. Эффекты производились сами собой, игрою этого необыкновенного ума, который с одинаковою легкостью выражал свои суждения то в точно определенной мысли, то в картинном образе или сравнении. Последние бывали иногда поразительны. Одно мне особенно памятно и имеет некоторый исторический интерес. В 1870 году, за несколько месяцев до франко-прусской войны, я посетил Париж. Тьер в то время был в трауре по своей теще и принимал в маленьких апартаментах небольшой крут друзей и знакомых. Я удостоился быть принятым в это число. Это была пора пробуждения либеральных идей, которым уступало само императорское правительство. Эмиль Оливье был тогда на вершине своей славы; все за ним ухаживали, и сам Тьер хлопотал о принятии его в Академию. Я пошел в Законодательный Корпус и там слышал речь Оливье. Он сделал на меня впечатление легкомысленного человека, хотя Дюпон-Уайт уверял, что он стоит и Тьера и Гизо. Вечерам у Тьера я спросил его: «Что такое Оливье?» «Вот видите, – отвечал он, – в Ницце есть деревья, которые в очень короткое время вырастают на огромную вышину. Я вижу дерево, которое толще меня; ветви в толщину моей руки. Я спрашиваю: сколько ему лет? говорят: девять. Я подхожу, трогаю его палкою, палка туда уходит; оно как масло». События слишком скоро доказали верность этого изображения.
С тех пор я Тьера не видал, но с величайшим сочувствием следил за его патриотическою деятельностью для восстановления разгромленной Франции. Это был патриот в истинном смысле слова: выше и дороже Франции для него не было ничего на свете. Когда его свергли, я написал ему письмо, где говорил, что считаю это действие преступлением против отечества. Он прислал мне ответ, в котором излагал свои убеждения. Помещаю его здесь, как любопытный памятник великого человека и как воспоминание его дружеского ко мне расположения.
«Париж. 12 августа 1876 г.
Дорогой Чичерин, я очень запаздываю своим ответом, но вы меня простите, если примете во внимание несоответствие между временем, которым я располагаю, и тем, что мне приходилось выполнить. Не то, чтобы я отдавал политике все свое время; бывает конечно и так; когда на меня возложено бремя государственных дел, я отдаю себя этим делам до того, что забываю о жизни, но когда бремя это переносится на других, я оставляю его на них целиком, и не из эгоизма, а из уважения к лежащей на них ответственности. Дай бог, чтобы это им удалось, дай бог ради нас и ради всего мира. Избавившись от правительственных забот, я посвящаю науке все то время, которое мне оставляют мои обязанности депутата. Ваш beau-frere[248]248
Шурин (beau-frere) Чичерина – П. А. Капнист.
[Закрыть], человек очень просвещенный, очень интересный, занимающий здесь хорошее положение, расскажет вам обо мне, так как я вижу его часто и всегда с удовольствием; он знает, что я весь ушел в свою работу и не являюсь помехой для тех, на кого возложена обязанность действовать.
Ваше письмо доставило мне бесконечное удовольствие. Я чрезвычайно счастлив, что вы вспоминаете обо мне и с таким дружественным чувством. Вы свидетель как близкий, так и далекий моей продолжительной и трудолюбивой жизни и вы имели возможность судить об искренности и о постоянстве моих чувств. Вполне чистосердечно я стремился к установлению конституционной монархии. Я родился в доброй чиновничьей семье, вступившей в родственные связи с семьей богатых коммерсантов еще до Французской революции, я воспитывался в лицеях Первой Империи и ничто не отвращало меня от либеральной монархии; наоборот, все связывало меня с ней, как мои родители, так и мое образование, наполовину военное, наполовину либеральное, наконец самый мой характер. Я бы принял ее от Карла X, от Людовика Филиппа, наконец, даже от самого Наполеона III. Но эти три государя с намерениями несомненно хорошими, но с печальным ослеплением сделали все, чтобы помешать ее успеху. Истинный принцип либеральной монархии состоит в том, чтобы государь стушевывался и давал представителям власти возможность следовать за настроением страны. Но все эти государи хотели управлять согласно собственному вдохновению, несомненно с добрыми намерениями, однако, они делали это так, что оскорбляли все национальные чувства. Карл X, защищая религию, как он ее понимал, Людовик Филипп, желая сделать приятное Европе, поддержки которой он добивался, Наполеон III, придавая себе аллюры своего славного дяди, все они упорствовали и противодействовали склонностям страны и упорствовали до тех пор, пока не вызвали непреодолимого сопротивления. Результатом было троекратное падение монархии, после чего новая попытка установления монархии стала уже невозможной. Нужно было видеть положение, каким оно создалось в Бордо, для того, чтобы понять до какой степени напрашивалась та линия поведения, которой я держался. Ко мне обратились потому, что иначе нельзя было действовать. Роялисты меня не любили, будучи убеждены в том, что я не буду их пассивным орудием. Либералы относились ко мне с сочувствием, однако испытывали некоторые опасения в виду прежних моих монархических тенденций, и все меня терпели, готовые меня покинуть, если я уклонюсь в сторону одной из трех партий, стоявших друг против друга. Я не располагал ни одним солдатом, ни одной копейкой денег, перед лицом восьмисот тысяч чужеземных солдат хозяев на французской земле. Так мне и пришлось управлять, сохраняя равновесие между всеми партиями, из которых ни одна не поддерживала меня искренно. Я раздавил бешеное восстание, овладевшее столицей при страшной вооруженной силе, я избавился от пруссаков посредством обязательства, заключенного на основании финансовых операций, не имевших прецедента и, наконец, восстановил немного порядка и много доверия. Видя меня на деле, республиканская партия прониклась ко мне доверием и стала меня поддерживать, но роялисты, бессильные, яростно нападали на меня. Я не мешал им говорить и действовать и занялся исключительно освобождением территории. Но добившись этого избавления, я должен был припереть к стене три монархические партии, требуя от них, чтобы они или признали республику, которую я считал единственно возможной государственной формой, или же сами установили монархию, если считали возможным сделать такую попытку. Они избрали этот последний путь, и я предоставил им свободу действия. Они покрыли себя позором и доказали всецело, что в настоящее время невозможно ни что иное, как только республика.
И сейчас положение продолжает быть трудным в стране, принявшей республиканскую форму правления, при правительстве, ненавидящем республику. Из этого противоречия вытекают печальные дергания, которые, быть может, со временем приведут к серьезной опасности. Но при разумном ведении дела можно будет из этого положения выйти. Необходимо прежде всего, как можно дольше сохранить мир. Ваш император, которого во Франции глубоко почитают, хочет мира, и он прав. Но симпатии к славянам несколько беспокоят Европу, которая пришла бы в настоящее отчаяние, увидя, что мир подвергается опасности со стороны агитаторов на Востоке. Поверьте мне, мир нужен всем и будьте уверены, что несмотря на наши несчастья не нам он более всего нужен; сохраним его с достоинством все.
Я пространно изливаюсь перед вами, как перед старым другом и будьте уверены, что я всецело разделяю дружественное чувство, с которым вы ко мне относитесь. Вы очень бы меня осчастливили, если бы посетили нас. Я еду на три месяца в Швейцарию и буду занят продолжением своей книги. Если бы вам пришла счастливая фантазия побродить по Европе, я был бы счастлив побеседовать с вами обо всей вселенной, не меньше. Прощайте, прощайте.
А. Тьер».
История строго осудит тех людей, которые вместо того, чтобы сомкнуться вокруг единственного человека, способного возродить Францию после ужаснейшего разгрома и дать ей подобающее ей место в ряду европейских держав, низвергли его в виду стоявшего еще в стране неприятеля, и сами, запутавшись в своих темных интригах, принуждены были сделать собственными руками то, против чего они восставали. Надобно сказать, что большинство старых орлеанистов, Дюфор, Ремюза, Одилон Барро, Дювержье де Горанн, даже близкий друг орлеанской семьи Монталиве, последовали за Тьером. В этих людях любовь к отечеству стояла выше интересов партии и личных связей. Направленные против Тьера козни были делом измельчавшего под императорским правительством молодого поколения, с герцогом де Броль во главе, за которым скрывался тайный зачинщик всех интриг, граф Парижский.
Я знавал некоторых из этих орлеанистов прежнего времени: Одалона Барро, у которого я обедал с Кузеном и Рейбо; старого знаменитого герцога де Броль, пожелавшего узнать от меня о ходе освобождения крестьян в России; Баранта, Минье, Дювержье де Горанн, который принимал по вечерам. Последний в особенности в резких выражениях отзывался о современном императорском правлении. «Нами управляют лакеи!» – говорил он мне с негодованием. Понятно, как этим старым парламентским борцам горько было видеть господствующее раболепство и унижение народа, за которые впоследствии так дорого поплатились французы. Несколько раз я был и у Гизо. На всех этих людей я смотрел с глубоким уважением. Даже в Гизо, который лично был мне всех менее симпатичен, я видел крупного представителя либерального времени, великого историка и великого оратора.
С другой стороны, я видался и с республиканцами. У Тьера я познакомился с Бартелеми-Сент-Илером, про которого Тьер говорил: «Хорошо бы, если бы все республиканцы были как Сент-Илер; это – ангел, сшедший с небес». Основательный ученый, хотя невысокого ума, он в сущности не был политическим человеком. Я возобновил знакомство и с двумя принадлежавшими к республиканской, партии французами, которые были на съезде в Глазго, с Демарэ и Гарнье-Пажесом. С первым, в особенности, я довольно часто видался в Париже. Хороший адвокат, бывший batornnier[249]249
Старшина адвокатского сословия.
[Закрыть], он был человек с живым и тонким умом и весьма обходительный. Его весьма неглупая жена умела говорить о политических вопросах так просто и здраво при твердости убеждений, как редко встречается у женщин. Но добрейший и честнейший Гарнье-Пажес, некогда член временного правительства и министр финансов в 1848 году, был чистый ребенок, как признавали и его друзья. При этом он воображал, что он популярнейший человек во Франции. Это было республиканское простосердечие во всей своей наивности. Через этих господ я познакомился и с другими, бывал на вечерних собраниях у Карно, где в небольшом кругу обсуждались современные политические вопросы. Уже в то время я был убежден, что империя продержится недолго, и что за нею последует республика; я даже высказывал это Сент-Илеру. Но я не мог не видеть, что люди, принадлежавшие к республиканской партии, гораздо низшего калибра нежели старые орлеанисты, которые представляли высший цвет французского ума и образования. Республика водворилась во Франции не вследствие обилия собственных сил, а вследствие несостоятельности прежних правлений. Она явилась неподготовленною и упрочилась, не столько волею людей, сколько силою обстоятельств, не допускавших ничего другого. Поэтому, когда вымерло старое поколение орлеанистов, общий уровень значительно понизился.
Я посещал и некоторые светские салоны, но должен сказать, что единственный приятный салон такого рода, в котором мне случалось быть, держался русскою дамой, графиней Сиркур, рожденной Хлюстиной. Она была в то время вся больная, вследствие нечаянного ожога и принимала в известные часы, иногда утром, иногда вечером, сидя в креслах и положив голову на подушку. К ней стекались и светские люди, и ученые и литераторы. Она со всяким умела говорить и всякого вызывать на разговор. У нее это было даже особенное искусство. Разговор ее не был непринужденным обменом мыслей, вызванным минутным впечатлением или общими интересами. Поговоривши с одним о том, что его занимало, она в миг с тем же вниманием обращалась к другому и переходила на новую тему. Говорили даже, что она всякий раз к разговорам готовится. Но так как это делалось, умно, с тактом, и знанием людей, то в итоге все выходило ладно и приятно. Муж ее был человек недалекого ума, но образованный, много читавший. Он уверял, что француженки, весьма приятные в прежнее время, сделались невыносимо скучны вследствие того, что они воспитываются монахами. В других салонах, где я иногда бывал, у герцогини де Роган, приятельницы г-жи Сиркур, у Булье, действительно царила непроходимая скука. Вместо общего разговора была только суета и толкотня, часто беспрестанно приезжали и уезжали. Правду сказать, в то время для общего разговора было мало пищи. Для умственного оживления гостиных необходима живая окружающая атмосфера, а в ту пору во Франции не было ни умственного движения, ни политической жизни. Последняя была подавлена императорским деспотизмом, а первое заглохло под влиянием получившего преобладания реализма. Я ходил иногда в Законодательный Корпус, но слышал только ничтожные прения раболепного собрания. Грустно было видеть нисшедшую с прежней высоты французскую трибуну. К сожалению, мне не довелось слышать ни Тьера, ни Фавра. О первом я мог составить себе некоторое понятие по его разговорам; последнего же я слышал раз уже несколько лет спустя, да и то не в палате, а на публичной лекции, которую он читал. Я был им совершенно очарован. Содержание лекции было пустое, но голос, приемы и дикция были поразительно художественны. Я говорил, что после Рашели не видал ничего подобного.
За недостатком политического красноречия все стекались слушать академические речи. Мне удалось попасть на знаменитый прием Лакордера в Французскую Академию. Надобно было стоять у входных дверей с семи часов утра в ожидании открытия залы, и затем сидеть в страшной тесноте. Но все это вознаграждалось впечатлением собрания, в то время еще полного знаменитостей. Я слышал важную, исполненную мысли, речь принимающего Гизо, и пламенную речь облеченного в свой монашеский костюм Лакордера, по бокам которого, как восприемники, сидели Беррье и Монталамбер.
Не могу не упомянуть и об умилительном знакомстве в мире художества, которое довелось мне сделать в Париже. От хранителя Берлинского музея, Ваагена я имел письмо к одному старому французскому художнику Перену, которого Вааген просил показать мне замечательные рисунки другого, уже умершего художника, Орселя.
Перен принял меня самым ласковым образом, и я скоро сблизился с его семьей. Это был образец самых чистых и возвышенных сторон французского быта. Семейное согласие было полное, доброта непомерная, и вся жизнь наполнялась и облагораживалась любовью к идеальному, религиозному искусству. Но всего трогательнее была сохраняющаяся, как святыня, память об умершем друге, Орселе. Перен и Орсель вместе учились у Герена, вместе жили в Италии, вместе работали и проводили всю жизнь. Председатель лондонского общества художеств Чарльз Истлек, который знал их в молодости, говорил мне, что это был самый удивительный пример дружбы, какой он встречал в жизни. Когда с одним из друзей случалось какое-нибудь горе, другой, хотя бы он был в отдаленной стране и занят работою, тотчас все бросал и ехал его утешать. Орсель действительно был человек с замечательным талантом; но и Парен не был лишен дарования. Им обоим заказаны были фрески в Нотр-Дам де Лоретт; Орсель писал одну капеллу, а Перен другую. Но Орсель умер, не докончив своей работы. Тогда Перен бросил свою, докончил капеллу друга и с тех пор посвятил себя исключительно изданию его произведений. Когда я с ним познакомился, прошло уже десять лет со времени смерти Орселя; но вся семья была полна воспоминаниями о нем. Перен говорил об умершем друге постоянно со слезами на глазах. В длинные вечера, которые я у него проводил, он все показывал мне рисунки Орселя, которыми я не мог не любоваться: до такой степени все было чисто, возвышенно и изящно, все строго обдумано и глубоко изучено. Это была манера Овербека, но без немецкой претенциозности и в несравненно более художественной форме. Я, как драгоценную память, храню подаренный мне Пареном альбом с исполненными им и его учениками гравюрами этих рисунков.
Я часто виделся в Париже и с пребывающими там русскими с Тургеневым, с Ханыковым, с Н. И. Тургеневым, который, давно выселившись из отечества и имея в Париже свой дом, продолжал живо интересоваться Россией и русскими. Видался я и с князем П. В. Долгоруким, который в то время также выехал из России и не подвергался еще опозорившему его приговору. Однажды Тургенев пригласил нас с Ханыковым обедать к Вефуру, сказавши, что его звал Долгорукий, и он просит нас придти на подмогу. Мы пошли; Долгорукий на этот раз держал себя скромно и обед вышел оживленный.
Это нам так понравилось, что Тургенев тут же предложил собираться раз в неделю. Скоро, однако, Долгорукий своими резкими выходками, лишенными всякого серьезного основания, так нам надоел, что мы стали его избегать и ходили уже обедать втроем. Я, впрочем, остался ему благодарен за то, что он отвел меня во многие парижские гостиные, которых он был тогда усердным посетителем. Между прочим, он повез меня к Тьеру.
19 февраля 1861 года телеграф принес нам из отечества великую весть: русский народ был свободен! Для России наступала новая пора, для которой все мы работали, которую мы так страстно ожидали. В тот же день вся наша компания собралась на обед, на котором был и пребывавший в Париже декабрист князь С. Г. Волконский. От полноты души подняли мы бокалы за государя, освободителя миллионов русских людей. Вскоре мне пришлось написать статью об этом преобразовании. Мой приятель Демаре задумал издавать маленький журнал «La critique franchise», который служил, впрочем, больше для собственного его развлечения и просуществовал очень недолго. Он просил у меня статьи и я воспользовался этим случаем, чтобы изложить весь ход освобождения крестьян. В отдельных оттисках я разослал эту статью всем своим парижским знакомым.
В апреле приехал и сам главный двигатель в этой реформе, Н. А. Милютин, совершенно счастливый и довольный тем, что после долгой и упорной работы вырвался наконец на свободу. Мы видались почти каждый день; я с любопытством слушал его рассказы; мы ходили вместе в судебные заседания Государственного совета, ездили навещать В. П. Боткина, который в это время приехал больной из Италии и поселился в окрестностях Парижа. Но уже приближался срок моего возвращения на родину. Мне очень хотелось пробыть еще лето во Франции. Некоторые из моих знакомых, между прочим граф Кергорлэ, приятель Токвиля, звали меня в деревню погостить и посмотреть на провинциальные порядки. Это было бы драгоценным дополнением к сведениям, приобретенным в Париже. Но время уже не позволяло мне воспользоваться этими приглашениями. Я был выбран Советом Московского университета исправляющим должность экстраординарного профессора по кафедре государственного права, я с осени должен был начать свой курс, а у меня еще ничего не было готово. Я хотел посвятить этому лето, живя в деревне и пользуясь полным досугом. В конце мая я распростился с милым Парижем, оставившим во мне столько хороших воспоминаний, и приехал прямо в Караул.
Я возвращался на родину после трехлетнего путешествия с богатым запасам новых сведений и впечатлений. Европа дала мне все, что могла дать. Я собственными глазами видел высшее, что произвело человечество, в науке, в искусстве, в государственной и общественной жизни. И я не мог не убедиться, что все это бесконечно превосходило то, что я оставил в своем отечестве. Это не был своеобразный, отмеченный особою печатью мир, противоположный России, как уверяли славянофилы.
Нет, в противоположность однообразной русской жизни, вылитой в один тип, где на монотонном сером фоне незатронутой просвещением массы и повального общественного раболепства, кой-где мелькали огоньки мысли и просвещения, я находил тут изумительное богатство идей и форм; я видел разные народы, каждый со своим особенным характером и стремлениями, которые, не отрекаясь от себя, но при постоянном взаимодействии с другими, совокупными усилиями вырабатывали плоды общей цивилизации. Еще менее я мог заметить признаки мира разлагающегося. Напротив, рядом с отживающими формами я видел зарождение новых свежих сил, исполненных веры в будущее. Эти силы были еще неустроенны; впереди предстояло им еще много борьбы, усилий, может быть временно попятных шагов и разочарований. Но цель была намечена, и веющее повсюду могучее дыхание мысли и свободы обеспечивало успех.
Глядя на Европу, невозможно было сомневаться в прогрессивном движении человечества.
Но вместе с тем я глубоко чувствовал, что вся эта раскрывающаяся передо мною в таком блеске Европа, со всем изумительным богатством явлений, были мне чужды и что я всем моим существом принадлежу своей однообразной, убогой, погруженной в мрак невежества родине, которая одна затрагивала самые заветные струны моего сердца. «Все чужое мне до смерти надоело, – писал я брату еще зимою. – Ни за что бы я не пошел в дипломатическую карьеру. Не презирать отечество с высоты европейского просвещения, а усвоить для него плоды этого просвещения и, может быть, вложить в него свою лепту, распространить в родной земле хотя бы неслышными и незаметными путями добытые человечеством умственные блага, сеять на тучной, но необработанной русской ниве взращенные Европой семена мысли и свободы, такова была задача, которую я себе поставил, такова была отныне цель моей деятельности. Европой я мог любоваться, но жить и действовать я мог только в России. Насмотревшись чудес, познакомившись с европейской жизнью и с людьми, я мог уже с полным сознанием и с созревшею мыслью посвятить себя на служение отечеству в новую, открывшуюся для него историческую эпоху.
«Ах, пора в Россию, – писал я брату перед отъездом из Франции. – Прошедший год был для меня не бесполезен и я не жалею, что съездил. Для образования это нужно. Но уже мне заграничная жизнь решительно надоела по горло. От безделья просто не знаешь, куда деваться, а работать в путешествии невозможно. Засяду же я после этого дома и уже ничем меня не выживут».