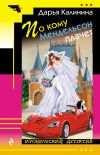Текст книги "Сердце болит…."
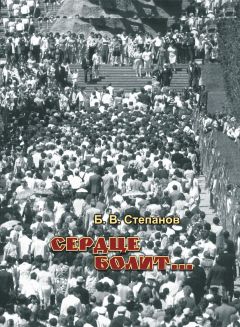
Автор книги: Борис Степанов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
А они воевали
…Вдруг вышел из маршрутки, с кем не бывает, и побрел по улице, теперь 39-й Гвардейской, к скверу… Такому же длинному и широкому, каким был на его месте весь рабочий поселок металлургов «Красного Октября» – Русская деревня.
…Задолго, недели за две до главной бомбардировки города, 23 августа, мы разглядели в небе два крестика, высоко-высоко. Неслышно, откуда-то из-за Волги летели. Наши? Не наши?
Когда засвистели бомбы, поняли.
Всего четыре взрыва… Мы выбрались из соседского погреба – услышали, как кричат наверху…
Кто-то бежал к пекарне – там свалило забор, побило охрану – красноармейцев троих. Открылись склады…
На углу Карусельной и Базарной еще работала последняя колонка. Очередь за водой – человек сто – почти вся валялась в крови…
На шоссейке тоже воронка. На деревьях, на рельсах трамвайных разорванные тела… Это был патруль, бойцы. Они не прятались.
Мы смотрели и не верили своим глазам, не знали, что делать…
И сегодня я нашел бы то место, где лежали грудь, голова и левая рука одного из военных. Никто не решался, а моя мама принесла и похоронила лейтенанта – я видел на прилипшем воротничке кубики…
Как сама испугалась! Все повторяла: «Какой он горячий… Какой горячий…» Это мама, которая плакала от одного грубого слова!
Больше нашу Русскую деревню не бомбили. Пролетали.
Многие соседи пытались бросить все и бежать из города… Но эвакуация, помню, запрещена была. Сталин приказал: «Отступать нельзя!» Да и поздно.
…Потом было 23 августа. Мы не видели, что творилось в других местах… Но все, что могло гореть, уже горело. Выше облаков пожар на нефтесиндикате. Гудело и рвалось в центре. Я сидел на крыше и видел: люди метались толпами. Кто-то к тракторному и почти сразу – обратно: там немцы.
В центре горела мельница, хлеб! Сосед уже сбегал туда, принес тяжелую сумку… Побежал к мельнице дедушка, наволочку с подушки снял, спрятал за пазуху… Говорил потом: там стреляли, охрана. Но успел набрать ячменя. Торопился. Пока бежал домой, почти все высыпалось: прогорела наволочка…
…В музее «Дети Сталинграда» девочка-экскурсовод не знала, как сказать, сколько граммов хлеба выдавали нам, и спросила: больше, чем в Ленинграде? Милые наши детки-наследники, святые, даже их «экскурсоводы» не могут себе представить всей правды, отчаяния жителей…
…Остатки ячменя подгоревшего мы перебрали по зернышку. Светлые на ручной мельнице-кофемолке превратили почти в муку. Пышка получилась.
И все. Дедушке Мише, правда, успели выдать зарплату, селедкой. Из голов бабушка сварила борщ с листьями свеклы… Последний.
Так чтоб нам, сталинградцам, было полегче… В первые дни…
…Судьба ли такая добрая – пощадила меня, вывела, вынесла из сталинградского ада? Или молитвы бабушки услышал Господь? А так хотелось умереть… Уснуть и не проснуться. Смерть брала только всех вокруг…
Пропал первым мамин младший брат Виктор. Мы не видели, как он погиб.
Пришли немцы. Застрелили дедушку: он в соседней щели ухаживал за двумя ранеными бойцами. Нам приказали уходить на Гумрак…
Ночью умерла бабушка: как освободила нас! До самого утра мы с мамой и Клавой, ее сестренкой, почти моей ровесницей, пытались наковырять землички со стенок, со дна щели… Завернули бабушку, легкую такую, в ее теплое одеяло, присыпали немножко…
И сидели над ней. И не плакали.
Это был уже ноябрь.
Пятое ноября. Последний, как оказалось, теплый день осени 42-го.
…Кто поверит, что через много лет сам маршал Чуйков даст мне посмотреть свою сталинградскую карту. А я покажу ему дом моего деда на ней. Такая карта! И такой уж, оказывается, ее хозяин, что в свои 80 он помнил, кто там воевал и чей полк остался.
Эта встреча была в Барвихе, в санатории… Мы сумели договориться и снимали очерк о семье маршала. Записали его обращение к сталинградцам. Василий Иванович будто прощался со своими солдатами. Обращался к вдовам, просил у них прощения.
Сидел я тихонечко, слушал.
Разве мог знать тогда, осенью 42-го, что мы от своей щели в пяти минутах ходьбы до штаба его армии! Но не поднять было головы, какое там ходить…
А они воевали.
Мне стыдно было признаться: ведь утаил и когда-то в своих анкетах, промолчал и сегодня, что 61 день был в плену. Что топал в сторону Германии покорно, уже с молитвой покойной бабушки… Не как сын комиссара…
А они воевали.
Р. S. Сталинград. Только 200 дней той войны. Когда сложили, разделили, умножили – получилось: по десять тысяч русских, немцев, украинцев, румын, казахов, итальянцев, татар, евреев… Как на жертвеннике… Каждый божий день сгорали по десять тысяч человек!
И никто не забыт?
Кто помнит то время? (И как, если помнит?)
…Когда я впервые в жизни заполнял анкету и должен был автобиографию сам написать – больше получалось у меня об отце: происхождение, состоял ли, привлекался ли, есть ли родственники за границей?.. И самый тогда обязательный вопрос: находился ли на оккупированной территории?
Мандатная комиссия, думал, скажет: сын такого человека, конечно, «наш». Очень хотелось, чтобы мне поверили. И боялся, как многие тогда, вдруг узнают про наш с мамой плен.
…Вся надежда на отца.
Это был август 1945-го. Заканчивалась Вторая мировая. Последняя победа: самураи. Промелькнула Хиросима… Сразу и не поняли, какая это страсть – атомная бомба! Американцы – наши. Мы, пацаны – будущие сталинские соколы! Мы и чистое небо над нами!
И комиссия меня долго не допрашивала, благословила в кадетский корпус (так это называлось при царе)… Седьмую Сталинградскую спецшколу ВВС. Мечта: военно-воздушные силы!
Только военврач-фронтовичка спросила: очень хочешь?
Но анкета? Вдруг докопаются…
…В 12 лет осиротел Василий Степанов. За ним шли еще трое: сестренка, братишки… Семья городская. Пять лет болел, не поднимался их отец. Все прожили. У вдовы – ни гроша за душой. Война мировая… как выжить!
Бабушка Лиза рассказывала – на базаре в слободе Николаевке нашла для своего старшенького «хозяина»: сговорились – от Петрова до Покрова пасти скот. В степи, за 40 верст. Спасибо.
…Вырвался, однако, как подросли братишки. Добрался до Царицына. Без билета, на плотах. Земляков нашел на «французском» («Красном Октябре»). Взяли, хорошим прокатчиком стал. Зарабатывал. Женился на красавице даже. Тракторный позвали строить. Комнату обещали.
…Где-то у переезда пригородного поезда, на Карусельной, жила в своем доме тетя Таня. Родители снимали у нее угол. Туда, в этот угол, меня и принесли из больницы. Февраль, метель в полную силу, а мне, наверное, было очень тепло и сытно: страшный голод в Поволжье еще не начинался. Наступал только 1929-й.
Теперь, кстати, и я мог бы написать в анкете: «из рабочих»! Но я только начинал ходить, когда отец праздновал рождение «своего» завода. Да какого: СТЗ!
Работал он по сменам, это я сам помню, по гудку, мощному, за сто верст слышно.
Комнату дали. Сразу. На втором этаже. Четвертый еще строился. Наш новый адрес: Сталинград, Нижний поселок СТЗ, 523, 12.
…Отец – потомок известных кузнецов по материнской (бабушки Лизы) линии – был, как говорится, «мастер на все руки». Учился. С американскими инженерами монтировал первые турбины ТЭЦ, стал машинистом, активистом, партгрупоргом. И учился!..
Только теперь куда пошлют. Начинал-то батраком у богатых да молотобойцем – в кузне дедов Лаврентьевых. Вот и бил кувалдой только туда, куда указывали. Так и «бил» всю жизнь…
До войны он успел пройти через райком ВКП(б), горком, обком… Заважничал! Не будь тем помянут… Но помню, как маме было трудно с ним. И мне перепадало: позорю, плохо себя веду в школе. Порол, любя…
Вдруг – «почетная ссылка» (по словам мамы): командировка в деревню. Дальнюю, аж за Хопер! На границу Воронежской области… (А это был уже почти фронт: за Воронеж начались бои…)
Начальником политотдела! Все для фронта: строго, как «ни шагу назад!». Хлеб, хлеб, хлеб!
…А мы с мамой в своей городской квартирке за 500 километров от его фронта… просто голодали. Помню, она показала мне немножко неполную чайную чашку с пшеном. Это был весь наш запас…
Если бы не мамины золотые руки!
…Мама Саша Михайловна, как ее звал ласково отец, никогда не отличалась крепким здоровьем. Пять операций! Море слез над моим дневником.
Но работала на своем еще свадебном подарке – ножном «Зингере» – как Анка-пулеметчица! Строчила-строчила, пока нитка-лента не кончалась.
Таилась соседей Завидовых (фамилия такая), от фининспекторов особенно: патент покупай, налог… почти разорение частнику! Да и отец не одобрял: уставала, заказов много. Вышивку художественную терпел…
Боже! Как давно это было! У отца свое: мировая революция. У меня – улица, Волга…
У нас ковров персидских не было, зато половики мягкие, вязаные – по всей комнате. Вот их она и складывала слоями под машинку, чтобы соседи снизу не прислушивались.
Даже пела тихо-тихо, как колыбельную, когда сидела за рукоделием.
И вдруг! К нам приехало человек десять, знакомых маме, и военных – строгих-строгих, важных…
Привезли… знамя. Бархатное. Ярко-красное с золотой бахромой. «Ленин и Сталин»… «Пролетарии»… «Горно-стрелковый полк»… и номер «175», по-моему.
Надо было вышить что-то новое прямо на знамени…
Срочно! Даже остались ночевать у нас знакомые мамы из Красного Креста…
Мастерица! Еще до войны на выставке рукоделия маме дали вторую премию за «анютины глазки» и «пограничника». Если бы вышивала гладью портрет вождя – была бы – первая. Кто-то сказал…
Но знамя доверили ей. Моей маме!
…Была первая военная зима. Не просто тревожное время. Даже снег был серым. А мама с самой осени как в клетке (сломала ногу). И рвалась куда-то, что-то надо делать. И совсем не о своем куске хлеба заботилась!
Вот тогда-то нашу комнату буквально завалили до потолка тюками, рулонами ткани… Мама так решила… А мне расхотелось каждый день ходить в свой шестой «Б», надо работать: дома целый швейный цех «для нужд фронта!».
Из-под «Зингера» сразу убрали половики… Все, что привезли, надо превратить в «конверты». Это трудно объяснить – надо видеть.
…На полу стелется грубая зеленая ткань. Потом ровный слой ваты. И снова ткань, но уже нежная, мягкая. Я стелил, а мама сшивала вручную. Потом на машинке…
День и ночь строчил наш «Зингер».
Соседи не возражали.
…И каждое утро, рано-рано, машина увозила готовые «конверты». Туда, где в них запеленают, как младенцев, раненых бойцов. И прямо по грязи, по снегу поволокут с поля боя санитары… спасут.
Нам неизвестно, скольких спасли. Но верили… чувствовали, что в «конвертах» наших никто не замерз. До самого медсанбата!
…Нам везли новую вату, ткани, нитки. Мама кроила, сшивала, ползала в своем гипсе. Костыли давно валялись под кроватью.
…Если б мы знали, что самим предстоит пережить, вспомнить свои «конверты», когда замерзали в первую ночь плена в открытой степи.
Мы не знали, почему уже после победы в Сталинграде, мама заплачет. «Шура, мы хотели тебя наградить, но ведь ты была в плену!» – так встретили ее «соратницы» из Красного Креста: они-то своевременно уехали из города.
Больше не встречались. Зачем?
Только в свои девяносто мама рассказала мне о той встрече с «подругами» из Красного Креста.
– Тебе хоть не навредили…
Там даже полынь… Сохнет (Село Лебяжье. Улетели лебеди!)
…Написал о ней в первой своей «Сердце болит…» и оставил во второй: «Не коснулась та большая беда нашей семьи». Это правда. Если считать нас троих – папу, маму и меня. Даже одного папу – сиротку, в 12 лет батрака… Только к 30-му он вырвался из деревни, завод построил: рабочий, ударник… Забылась как дурной сон – коллективизация…
А старшая сестра его – моя тётка Нюра – умнейшая, мудрейшая из всех родичей по папиной линии, глубоко верующая православная христианка, мать шестерых деток – не вспоминала, не рассказывала даже близким о тех 30-х. Проклятых…
Был ещё жив-здоров дядя Митя. Меня из Сталинграда, маленького ещё, до школы каждое лето пароходом отправляли к ним погостить… Дядя Митя на паре лошадей подлетал прямо к трапу, подхватывал меня, и мы мчались в сказочное село Лебяжье!

Фурсов Дмитрий Александрович, (1893–1947).
Астрахань, 1914
Это было до войны, конечно. Другое совсем время… Только жарко было так же…
…Что мальчишке городскому главное? Конечно, кони! И речка холодная Иловля, в которой мы купали коней! И двор, огороженный не забором – плетнём красивым, да такой огромный – для 40 ульев пчелиных, злюк кусачих. И лодочка-плоскодонка для одного человека. И вода такой чистоты и глубины, что видно всё живое! Не аквариум-тюрьма! Здесь мир и свобода!.. Теперь понимаю. Какие же мы – слепые!
Корова – красавица. Телята – большой бычок и тёлочка… Птичий базар везде, цыплята с «мамой-клушкой», как остров живой… Разноцветные курицы с «мужем»-петухом», красным хулиганом… На речке весь день до вечера гуси-утки… Как не улетают? И ульи, ульи до самого конца во дворе, вдоль всего берега…
Со всеми сразу «знакомился»… Даже поймал одну… Орал! А тетя Нюра взяла арбузную корку, приложила «к дырке», и я… больше никогда их не ловил. Смотрел… Как они похожи на людей, когда работают!
И ещё коней поил и купал… с дядей Митей. Сестра Нина – всегда рядом. Даже «удочку» длинную держала… учила. Кошка мне любила «помогать» с уловом справиться.
…Плакал, когда домой отправляли.
У дяди Мити почти свои лошади. Сразу две. Но колхозные – рабочие. И ещё – он настоящий казак. Дома старая фотография есть, но не на стене: нельзя! Он там совсем молодой и с саблей настоящей! И сейчас маленький ростом, почти как я. Но богатырь (я пробовал!). Подошел к повозке, взял мешок зерна под мышку, повернулся – взял второй и пошел по лесенке подниматься с ними. Высыпал на хранение куда-то… И не устал! Поехал за другими, наверное, мешками… Меня не взял, далеко куда-то.
Так хорошо у них, так здорово! Видели бы наши пацаны с Нижнего посёлка, как я живу теперь. Учусь! Помогаю всем, если не мешаю…
Отрубил лопатой палец на ноге. Хотел вызвать «скорую», но не успел: тетя Нюра принесла банку железную, консервную с керосином. Зажала «обрубок» на место и держала, пока он не прирос хорошенько. Я не плакал: не больно совсем. А все девчонки стояли вокруг и хвалили меня – героя!
Как это забыть? Я и сейчас остановиться не могу… Всё вспоминаю… Это был колхоз, кусочек его, один двор, одна семья – большая, правда. Тогда везде, наверное, были большие семьи…
…Дома ещё слышал, что есть теперь в деревне такие люди – «кулаки». Плохие. Богатые!
Мой дядя Митя был такой. Только хороший. У него дома была огромная печка, русская… Мы – дети – любили на ней играть, прятались… И в ней хлеб пекли, каждый день обязательно. Огромные круглые калачи! Берёт дядя Митя (всегда сам!), прижимает к груди калач и ножом, похожим на его саблю с фотографии, отрезает каждому по ломтю: нас много за столом: семья! Понял, что это такое.
…Всю Великую войну мы не виделись. Фурсовы – тетя Нюра, дядя Митя, мои сёстры двоюродные Клава, Нина и Раиса трудились на плантациях колхозных, в поле. Младший – Колька – дома – нянька, в июне 41-го, в самые первые дни войны, Бог дал ещё малышку… Ларисой назвали.
Не был солдатом дядя Митя и как бы не воевал, как все тогда: ополченец! Но и ему сразу повестку… Война! Бегом в Камышин, в военкомат… Тётя Нюра провожать казака, а сама «на сносях», как говорится. Едут, торопятся. На полдороги балка известная – Балберы – крутые склоны, дух захватывает…
Скатились, а тёте Нюре совсем плохо! Кто поможет? Бог помог… «Опросталалась я уже!» – кричит. Дядя Митя к родничку, водички ключевой… Всё сами сделали. Рады! И малышка будто смеётся… А время гонит… повестка грозная! Выпрягает коня и верхом до военкомата. Всё рассказал, поверили, но дали три часа всего. Отпустили.
Всё успел. Отвёз… а самого немедля (он же «нестроевой») в ополчение!
Будут окопы, рвы противотанковые, фронт совсем рядом. Они летают над головой, бомбят, расстреливают. Дважды «ловил» осколки… Госпиталь – и обратно, в строй…
…Теперь далеко эта война. 1947-й. Но снова госпиталь. Не осколки мучают… беда не меньшая – онкология. Откуда? Сколько ни лечат, ни просят Господа Фурсовы дать хоть один-другой денёк жизни… Сам так и говорил людям, не плакал, не жаловался: «Мне бы сделать ещё несколько шагов… малышей на ноги поставить». А ведь у ополченца боевого ещё и младшенький самый – Васятка народился в 45-м. Как награда ко дню Победы! Но… проводили казака из госпиталя ветеранов войны домой… Помирать.
…Беда новая! Не зря в народе говорят – «пришла одна – отворяй ворота!» Теперь обрушились на семью налоги непосильные, а на дворе-то уже ни живности прежней, ни дохода никакого от пчёл-кормилиц… Как жить? Где хочешь, а бери: яйца, масло, молоко, мясо… Налог не ждёт!
Вот он где проснулся «зверь» из 30-х годов. Кто поверит? Нынешние «крестьяне» – другой совсем народ. Да и колхозов нет – «рабству конец».
Не смогла выдержать такого удара судьбы мудрая тетя Нюра, как нападение врагов – те налоги! Хоть свои, родные, кругом…
Правление проголосовало: за долги – дом, усадьбу… Всё «с молотка» пошло.
Только сегодня мне рассказывает единственная из семьи, младшенькая из 41-го – Лариска.
«Расчёт полный получила мать – 600 р. на всё про всё». И разрешение «туманное»: можно построить себе жильё на те рубли, но за забором своего дома. На пустыре. Хоть близко к воде. (Иловля родная – ещё не колхозная!)
Что это было? И сад за рекой, их чудо-сад, гибнет. Злые люди однажды ночью вырубили все до одного деревца! Плоскодонку притопили, чтобы не пользовалась семья «колхозными» карасями.
* * *
Да, не коснулась нашей семьи большая беда. Только метастазы той опухоли живут в нас. Вот она – коллективная собственность! Почти коммунизм… якобы.
Скажут, говорят некоторые – частный случай! Всего одна семья погибла… И нет свидетелей! Конечно, если не считать внуков и правнуков. И своих, и «соседских». Равнодушных.
* * *
…Улетели лебеди. Заросло озеро… Там когда-то был колхоз… как война… Гражданская.
…На месте сиротской хибарки, за забором своего дома, полынь горькая просыпается по весне и сохнет. Как упрёк нам всем…
«Фронтовики, наденьте ордена!»
Они помнят и про свои… осколки. Маленькие такие. Где-то под сердцем. Спят.
Бывает больно. Или к непогоде, или к равнодушию нашему… Убивают.
…Я солдатом не был на войне, она сама пришла. Много осколков оставила. Не железных: ран не видно.
Но мне-то больно.
Или просто потому что вся моя уж очень долгая жизнь – Сталинград.
Не верьте никому, что мы (пацаны раньше взрослых – доверчивых) не готовились в войне.
Не верьте!
* * *
…Это было последнее мирное лето. Август сорокового.
Нас никто не уговаривал – просто объявили вечером всему пионерлагерю: завтра «суворовский переход».
Мы дружно: «Ура!»
А командиры решили: «Хватит им по бутылке воды с собой. Обувь проверить, панамки. Горн и два барабана поведут колонну. И знамя! И с песней…»
…Оказывается, идем в цирк!
И пошли! Кто знает, где Садовая (станция железной дороги) и где был тогда цирк – не поверит.
Для новеньких и иногородних справка: цирк на Верхнем поселке тракторного. Дороги нет. Сколько верст – неизвестно. (Сейчас там «памятник» – кольцо из кирпичных стен. Устояло в войну! «Базарчик» – бабушки торгуют овощами. Не наши ли «однополчаночки» по лагерю, по тому переходу?)
…Идем, дудим, барабаним. Степь. Полынь сгорела давно. Пылим. Песни все перепели… Солнышко родное жарит. Как во сне идем. Пустые бутылки несем – стекло!
И по очереди, без драки, несем барабаны. Хорошо, без винтовок деревянных пошли.
И дошли! (Не сбежал никто!)
Пробовали нас сразу пересчитать. А как? Колонна наша с ходу, как затопила все ряды, упала: холодок под куполом.
Оркестр нежные марши играет, как колыбельную… Выбегали на арену клоун, собачки, лошади… Боролись полуголые силачи. Все очень старались: такие гости!
А мы давно спали… «Суворовцы»!
Злые языки говорят, что не готовились мы. А мы отдохнули, откисли в бассейне… И опять всем лагерем: но это была уже не игра.
Мы «горели», ждали! Поделился лагерь на «синих» и «зеленых». Трещотки-пулеметы. Свои знамена! И не спали всю ночь: все позиции исползали, зарисовывали. И решили: с первым же «выстрелом» все как один – вперед!
…Так дружно пошли, храбро, что самим страшно стало!
И сломили вялое сопротивление «противника» И знамя у них отобрали…
Но прибежал физрук лагеря. Раскидал нас, как котят, забрал наши трофеи, все знамена.
…Перед строем лагеря его, физрука, и его подшефных не «расстреляли» – наградили!
А мы просто погибли, оказывается. Это была моя первая рана. «Смертельная».
Сбежал из того лагеря! Стыдно.
* * *
…В 1945-м победном году девять из десяти моих «однополчан» по 7-й Сталинградской спецшколе ВВС были сиротами. Отцы не вернулись.
Пропали. Сегодня почти девять из десяти призывников не годятся в защитники Отечества. Слабаки. И духом и телом. Великий народ будет иметь армию наемников? Кто заплатит больше?
…Физрук наш лагерный, где-то жив-здоров. Такие не пропадают «без вести», не исчезают бесследно. И громче всех, со слезой (по праздникам!) призывают нас стать патриотами.
Востребованы, как козлы на мясокомбинате: там для них калиточка персональная – путь к свободе, кормушке.
И это моя боль!
Сколько можно обманывать доверчивых, за громкими словами прятать правду о войне. Это же страшнее, чем открытое предательство.