Текст книги "Сердце болит…."
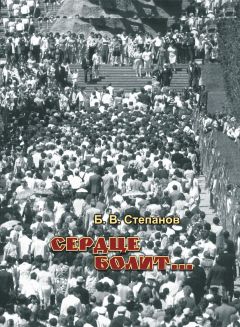
Автор книги: Борис Степанов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
Последняя передовая
Сегодня небо такое же синее-синее, как в октябре 42-го. Для летчиков праздник: видимость «миллион на миллион». Но ни «юнкерсов» нигде не видно, ни наших. И никто не стреляет, хоть сидим мы на самой передовой…
Солнышко ухитряется пригреть по-летнему. А греть уже некого… Всё лежит. Все под городом. Давно ни улиц нет, ни домов. Ровное черное поле, «сто раз перепаханное»… Водонапорная башня упала на Старом базаре. Хорошо видно.
Невозможно было не смотреть в это чистое-чистое небо. Одна радость. Где-то под ним жизнь. Люди…
Нет, я не спал! Глазами видел и не понимал: как это могла почти сразу половина неба свернуться, превратиться в серебристую волну от горизонта до горизонта… За ней – вторая, третья… Они катились на закат страшно высоко и так быстро…
Может, я тогда увидел космос?..
Октябрь. Вся православная Россия празднует Покрова Пресвятой Богородицы. Мне жена, человек глубоко верующий, напомнила: «Ты же рассказывал!».
Да, было такое чудо… Можете не верить. Я и сам со страхом вспоминаю…
Давно не видел живых людей. Все спрятались. А тут идет мимо нашей щели нереальная женщина. Широко размахивая руками, крестится и кланяется на каждом шагу.
Или я оглох, но, правда, не услышал ни единого выстрела, пока она шла между немцами и нашими.
Ее видели все…
Это была передовая.
Последняя в Сталинграде…
Гумрак – Москва – Берлин… Ганновер!
Ничего удивительного: поезд летит мимо Мамаева кургана, через Гумрак. Мелькнул тот длинный поселок. А я так и не успел ничего разглядеть, угадать.
В купе трое. Кроме меня отец Алексей – настоятель Казанского собора и оператор Славка Мельников – мой юный друг и земляк (в одной квартире, у бабушки его, жили до бомбежки).
Такая делегация. Нас пригласили в Ганновер на съезд Народного союза Германии. Официально. Очень просили.
Родилось приглашение случайно, даже не через Москву.
…Воскресенье. Мамаев курган. Раннее утро. Как всегда кто-то опаздывал из наших. Видит – молодые люди прилично одетые черпают воду из «озера слез» и моют тряпками, да еще с мылом, «надгробия» мраморные (символические) наших героев. Не двое-трое, целый отряд.
Немцы! Неужели? Такая новость. Мне первому сказали.
Хватаю Славу, камеру и бегом на курган (хоть сами на Кургане).
Да, немцы. Все до одного, кроме знакомой из «Интуриста». Представила их профессора, руководителя.
Немедленно интервью. Серия живых не «заорганизованных» портретов тех ребят. И через два часа – эфир.
Почти рядовой репортаж. Но изюминка! Это внуки солдат вермахта.
Весь мир плачет на кургане. Скорбит. А немцы? Тут же рядом и их, свои лежат…
Кто? Как успел показать пленку в Германии? И почти мгновенно пришло приглашение. Мне лично: «Вы не будете иметь расходов!».
Звоню их главному, генералу отставному, моему ровеснику, кстати. Хочу, мол, оператора взять обязательно. И священника: молебен отслужить на братской (20 тысяч!) могиле наших военнопленных в Берген-Бельзене. «Согласны, ждем».
…Уже едем. Волнуемся. Особенно я: вдруг на их съезде выступать. Боюсь! Как не вспомнить: «Идите на Гумрак. Поезда уже ходят в Германию! Вы будете иметь все…»
Вот мы и приехали к вам. Через Гумрак – Москву – Берлин!
Выступил наш отец Алексей. Все встали. Знали – это он первым благословил большой деревянный крест в Россошках на первом под Сталинградом массовом захоронении солдат вражеской армии. Помог сделать первый шаг к примирению!
А Славка! Это была, думаю, его лучшая работа! Такие портреты, такая на лицах боль – не злоба. И все в орденах… той войны.
Весь первый ряд в оперном театре, где проходил съезд, занимали их ветераны. И второй ряд. И третий… Гордые старики.
Десять дней и ни минуты отдыха.
Хозяева старались показать, кажется, все, чем живут. Даже военные объекты, где на оградах (сетках) грозные таблички: «Не снимать!».
Долго снимали тяжелые кресты, каменные, будто вросшие в землю. Мальчишки из гитлерюгенда 12-, 13-, 14-летние… расстреляны англичанами. Захоронения их в глухом лесу. И часовой. Старик.
Огромный участок земли арендуют англичане. Для своих. Кладбище летчиков, погибших над Ганновером, не обойти и за день…
Такой была война. Только здесь можно все понять: макет города, 1945 год. Просто нет города!..
Я вспомнил первую поездку в Германию, в ГДР. Огромный цех, швейная фабрика, одни старушки седенькие слушают нас. Митинг. Когда я сказал, что мы из Сталинграда – такой крик вдруг! Не просто плакали… Их мальчики ушли с Паулюсом. В Сталинград, в Россию. И не вернулся никто.
Теперь вот новые слезы – Ганновер. 20 тысяч наших пленных заморили в первую же зиму. Свою, теплую.
…«Идите на Гумрак», – сказал маме первый же немецкий солдат. Он не писал листовок-пропусков, не обещал, что там нас покормят, дадут ночлег, работу. Просто знал, что туда, на станцию, сгоняют всех, кто уцелел. Поезда увезут в тыл. Знал не знал о лагерях, газовых камерах. Но он тоже был винтиком… в «мясорубке». Спокойный, уверенный. Он выполнял приказ.
20 тысяч самых первых наших ребят, попавших в окружение в первые дни войны. К весне 42-го их осталось… четверо.
«Очень много было больных! – объяснил мне уже новый молодой генерал. – Даже списки не успели составить…» Двое его офицеров в штатском возложили цветы (сами купили, но я предложил).
Отец Алексей обошел с молитвой всю площадь, все холмы. По полной программе отслужил поминовение убиенных.
И мы простились.
…Фильм о новых немцах, хороших, мирных, как они надеялись получить, мы делать не стали. Я не смог ничего с собой поделать. Не верю.
Так много сегодня тех, кто почти совсем друг, кто обязательно отечески похлопает по плечу. Все равно. Ждут чего-то.
…Кстати, в Гумраке рельсы они сразу «перешили». На свой размер. Помнят.
Дневник солдата
(Мог бы туристом приехать…)
…Кому же он писал? Близким, друзьям, потомкам? Смерть рядом, а он спокоен. Всё ближе, ближе к нашему дому со своим «дневником» – унтер-офицер Алоиз Хеймессер (чуть не ровесник мне. Враг). Столько лет уже, всё «рассказывает», ни о чём не сожалеет особенно, но не «остывают» его строчки. Сам как живой за ними «сохранился»…
14 мая 1942 года. В половине второго я стоял у окна своей квартиры и видел, как большое число жителей Чугуева отправлялись на работу в Германию. Они очень печальны. Все плачут.
25 мая. …В четыре часа перебежчик сообщил, что через час начнется наступление двух русских полков при поддержке 30–50 танков. Мы расстроили их подготовку своей стрельбой, и у русских ничего не получается.
2 июня. Опять нас обстреляли. Унтер-офицер один и украинец легко ранены снарядом, упавшим в 10 метрах от них.
2 июля. В два часа ночи началось наше наступление. Мы ожидали сильного сопротивления, но в действительности без боя прошли 25 км до маленькой речки, и лишь там русские стали оказывать отпор.
9 июля. Сегодня 50 градусов жары. Вдоль дороги в стороне, в обмороке лежат пехотинцы, на протяжении километра я насчитал 27 человек.
17 июля. На дороге трофей – «сталинский орган» (т. е. «катюша»).
23 июля. Мы вброд переходим речку Чир.
26 июля. Пехота начала атаку на высоту 151. Но вдруг появились на совсем близком расстоянии русские танки…
Наша пехота бежит обратно, и окапывается. Дивизия не имеет противотанковых орудий, нет больше бензина. Мы расстреляли все боеприпасы…
28 июля. В 8:00 нападение шести бомбардировщиков. Это похоже на конец. Ранено 9 солдат и один украинец. Вчера наши собственные пикировщики бомбили первую батарею. 18 убитых, до 50 убитых лошадей. Сообщено еще о двух раненых на нашей батарее – вахмистр Беккер и один украинец.
29 июля. Русские прорвались и захватили мост через р. Чир, оказались в 2 км позади нас. Навели порядок наши танки… Все пленные, взятые во время этого прорыва, расстреляны за то, что русские расстреляли несколько наших раненых и одного, спрыгнувшего на парашюте.
15 августа. Перешли у Потёмкинской.
18 августа. Проходим Аксай.
19 августа. В 15 часов наступление. Проходим 20 км до Абганерово.
…Последняя станция железнодорожная Садовая (там мой лагерь пионерский) у Дар-горы. Волгу отсюда видно.
«Оставим» немца 19 августа. Другой свидетель нашелся: младший политрук минометной роты, командир батареи Михаил Алексеев. Через 70 лет… полковник. Читаю:
«Немцы в Абганерово. Нашей свежей дивизии приказано выбить их оттуда. Подошли (мой полк) поближе. Раннее утро безлунное, темное… Тихо подкатились следом «катюши». Да как дали залп во всё небо! Видим, горят позиции немецкие. Пехота наша не ждет – в полный рост пошла (там ведь никого в живых не должно остаться после такого ада!).
Идут молча. Бегут!
…И в горьком удивлении падают, падают, падают…
«Юнкерсы» над головой вдруг. Как ждали. Расстреливают! И будто из-под земли «сгоревшей» немцы поднялись. Много! Их ракеты светят, как днем.
Оглянулся, кричу: «Помоги, гвардия!»
Но «катюши» уже далеко скрылись в степи.
«Одноразовые» они!»[2]2
Алексеев М. Мой Сталинград: роман. – М.: Дружба народов, 2000. – 256 с.
[Закрыть]
«Поход» немца на Сталинград продолжится. Для вас урок, молодые! Не дайте ему повториться.
И нашим ошибкам!..
31 августа. Ночью «сталинский орган» обстрелял нашу огневую позицию. Убиты ефрейтор Баумгапртвер и украинец, двое ранены. Убито 10 лошадей у нас и 26 лошадей в 9-й батарее.
4 сентября. В 12 часов снаряды стали ложиться совсем близко. Опять творится такое, что нельзя голову высунуть. Уже стреляют русские снайперы и пулемётчики.
5 сентября. Наша пехота и не выглядывает из окопов. Огонь совершенно прекратила, и русские открыто бегают во весь рост. Вечером падает рядом один большой снаряд, затем другой.
Результат – у Пачмаса грязные кальсоны.
10 сентября. Я побывал в тылу. Нельзя выразить, как это приятно! Можно ходить во весь рост, не подвергаясь опасности быть подстреленным снайпером. Впервые за 13 дней я умылся.
11 сентября. Над Сталинградом густые облака дыма, вчера вечером небо над городом было кроваво-красным.
16 сентября. Сталинград горит день и ночь.
Проклятый холод. Вечером нам сообщили «приятную новость», что в дивизии уже готовятся к зимовке на фронте.
Среди ночи вдруг ужасно зашумели падающие бомбы – так близко, что казалось, блиндаж обвалится, а я весь обмазан грязью.
25 сентября. Нам совершенно не дают покоя снайперы. Эти люди стреляют чертовски хорошо.
Вечером всё время приходят румынские пехотинцы, находящиеся рядом с нами и попрошайничают: просят хлеб, папиросы и т. д.
* * *
4 ноября 1942 г. Это уже «мой дневник». Конечно, не «он» придёт к нам среди ночи, откроет тяжелую железную дверь щели и скажет маме: «Уходите на Гумрак! Завтра будет поздно».
Остаётся тайной и то, где он потерял свой дневник.
И голову?
А вы сами кто будете?
Сразу после Нового года, когда фронт ушел (наши гнали фашистов), станица Морозовская осталась «сиротой»!.. Советская власть не успела вернуться, и мы, особенно пацаны из сталинградских «беженцев», стали «хозяевами». Очень было похоже: никому не нужны.
…Склады, где нет продуктов, забиты оружием добрым и битым. Снарядами, минами, патронами. Даже колодцы – доверху! Иди выбирай… если не боишься.
Местные соревновались с нами: торговали порохом артиллерийским…Сами гильзы огромные (длинные, от зениток немецких) легко было «открывать». Снаряд торчит из нее, и надо хорошенько побить носиком по какой-нибудь железяке (лучше рельсу), раскачать, и выпадут… мешочки с порохом. Или ленточки цветные, как лапша крупная.
На молоко меняли.
Печки научились люди растапливать тем порохом. Мы знали, у кого уцелели после немцев коровы.
…Гибли только малыши. Глупые! Говори не говори…
Увидят яркую игрушку, бабочку-попрыгунью (оставили, гады, специально для них, малышей!). Такая она сладко-желтенькая, как дыня, спелая. Только тронь, и подпрыгнет. На метр! Как раз там у детей головки.
…Потом, кто еще может, расползаются по домам. Видел.
И сегодня. Выбежал в соседний дворик – хлопнуло что-то и над головой, как скворцы, пролетело.
Осколки маленькие.
Пацанята там на солнышке игрались… Лежат.
«Убегает» один. Тропинка к его дому. Ползёт, а за ним много чего-то тянется в пыли…
Мама бежит. Увидела. Вернулась. Несет корыто. Собирает всё что можно молча. И сидит рядом. Куда теперь?
…Люди говорят, сердечко у него долго еще билось. А сам не плакал.
Миновала меня та беда! Вы не можете себе представить (и я уже забываю), сколько всего натаскал, по тайникам попрятал. Сколько раз смерть держал в руках… Но не свою, значит.
…Уже запахло весной. Пылит улица… (Мы с мамой потеряли надежду выбраться домой, в Сталинград.)
Отец сам нашел нас!
«Пять минут на сборы!» Меня не обыскивал, просто глянул (комиссар!). Подхватил и в кузов своей зеленой полуторки забросил. Туда же, почти «бегом», маму и Клаву. Они еще пытались взять что-то из нашего «убежища»…
Отца родного дождались! А мы как на суде! Испугались, чуть не дрожим… И «хозяева» понять ничего не могут.
– Всё, поехали! – сел в кабину.
Даже спасибо никому. И мы вдруг языки проглотили…
Так и ехали молча. До парома через какую-то речку.
Отец вышел. Обнял нас. Сам будто боялся, что отнимут…
В Морозовской я не был с того самого 1943-го, когда отец нашел нас там и увез без лишних разговоров.
Не в Сталинград! Его еще «не было»… Место было. И все лежало на том месте… Конечно, и мой дедушка Миша, укрытый жестью с крыши сгоревшего дома…
Отец так и «просидел на передовой» в своем совхозе «Искра». Немцы «прокатились» чуть в стороне, через Серафимович, Вертячий – прямо к нашему Тракторному…
К весне партия дала отцу новое поручение…
Осталось только кожаное полупальто.
В нем я и угадал его за добрую версту… В степи за аэродромом мы сусликов добывали. На жареху…
Испугался в первую минуту: вдруг не он? Но бежал, летел. В правой руке тушканчик… Зачем – не знаю. Забыл, растерялся.
Всегда грозный взгляд: где мать?
Их с Клавой уже нашли соседи.
Тоже бегут. Рады не рады… Больше было удивления: откуда вдруг?
На другой же день был у нас «свой угол». Далеко «в тылу!».
Совхоз «Красный Октябрь». Обоим сразу школа. У меня – драки с местными: я же для них почти «фриц», у немцев был!..
Спасибо, дрался с пацанами всю предыдущую жизнь. И каждый день! И мы скоро подружились…
Летом 45-го уехал в спецшколу ВВС, 7-ю Сталинградскую! Один из всех. Сам решил! И приняли…
…Кадеты, «потешные войска». Девять из десяти (война кончилась!) – сироты.
И все мы – братья. Спецы! Хоть московские, хоть воронежские… Братья!
Таким был мой новый (младший по году выпуска) друг – Ваня Железняк! Хоть и генерал, начальник училища.
Иван Иванович! Царство ему небесное! Доброе было сердце. Но не вынесло, когда погубили (свои же!) такую школу летчиков! Его Качу.
Друг верный. Давай, говорит, слетаем в твою Морозовскую. Ты же рассказывал… А у меня там дело, там наш аэродром.
Он знал, что я все три года, пока учился в спецшколе… боялся! Скрывал. Почти рядом Морозовская! Но никто не должен знать: в анкете ее нет.
…Летим. Уже близко… Вот так точно: отбомбятся «юнкерсы» в Сталинграде и спокойно «подходят» к своему аэродрому. С этой же стороны, наверное…
Где же улица Красноармейская? Граница северная взлетной полосы…
И дом 200А. Это была землянка с таким номером. Нет. Не вижу…
Аэродром Морозовский – маленький. Как говорят летчики, «подскока»… Основной в станице Тацинской. На Сталинград оттуда тяжелые уходили…
Немцам наплевать, что мы «поселились» почти на их взлетной полосе. Пустая землянка…
Сверху, может быть, и землянка.
Метра полтора, саманные стены. Два глазка-окошечка… Земляная крыша, травой весной «на минутку» зарастет… Из досочек пристройка с дверцей, ну типа… но нет такого в домостроении еще названия, не додумались – а там жизнь, мини-курятничек для трех штук. Без петуха.
Пол земляной везде. Мебель: сундук пустой, большой очень. Печка-грубка с духовкой. Топится круглые сутки зимой. Потому что в курятничке есть погребок, полный угля! Прямо под насестом, туда «секретный вход», весь и всегда закаканный пеструшками.
…Немцы вокруг бегают! Самолеты гудят. А «гарнизон» дома 200А сидит тихо.
Сидел. Пока мы не появились.
…Рядом дом. Настоящий, каменный! Три большие комнаты. Там старики-хозяева и их «квартиранты» – летчики-румыны.
…Младший сынок на войне где-то. Старший – машинист паровозный – «по броне» оставался дома. Теперь кочегар. Раз в десять дней, после рейса, отпускают на ночевку.
Семья – жена и дочка-школьница – спрятана на хуторе у родни.
…Как это мама обнаружила такое убежище для нас – одному Богу известно!
Заселились. Нагрели воды. Отмылись…
«Какой у вас дух благородный! – скажет потом бабушка-хозяйка. – Может, вы и погадать можете? На сыночка военного. Карты есть…»
А мне в знак дружбы и из жалости (я уже болел) принесла блюдечко распаренной пшеницы. С сахаром! Никогда такой прелести не пробовал… Спасибо!
…Я валяюсь больной, гнилой весь, руки-ноги (только там почему-то) – раны глубокие.
…Одно окошечко на улицу, второе – двор пустой. Вот и вся моя жизнь, мой мир теперь. Мама с Клавой бегают «промышляют» по домам… Обе мастерицы: иголку-нитку умеют в руках держать. От бабушки! Это во все века кормило… Так и «зажили»! Один я – обуза! Чем лечить? Как спасти? Однажды принесли, бросили целую сумку лука. Торопились.
Вразумил Господь! Кто еще? Ведь есть «рецепт», и я знал: «лук – от семи недуг…»
Самую большую луковицу разрезал пополам. Сок-молоко потек… Приложил к одной язве, самой большой… Хорошо.
Чуть молитву не забыл: и так уже помогло! А их, тех мокрых, вонючих дыр столько!.. Лука не хватит. Плачу. Молюсь…
Вот, можно сказать, и вся моя Морозовская! Два окошечка и сундук…
Мои дамы «заработали» где-то и притащили ящики крашеные, немецкие. В них, наверное, бомбы привозили на аэродром. Вот вам и полы готовые. Не на земле теперь спать!
…Появился, наконец, сам! В свой дом боялся заходить. Без мамы… как маленький.
Он нам сразу понравился. Стеснительный такой хозяин. Василий Никитич!
…Меня переселили. Он открыл свой сундучище, отпер замок… Достал балалайку-три струны. Картуз. Надел его… «Празнышный», – сказал и забренчал какие-то свои мелодии. Все молча. Задумчиво… Далеко, видно, «улетал»… Он же «катался» до самой Европы на паровозе… Столько видел. Может, один и понимал, что происходит, но молчал. И наши пришли – не заговорил… Разве на допросе.
…На другое утро я уже водрузился на «свой» сундук. Василий Никитич чуть свет тихо ушел. И мы увиделись ровно через десять дней, прямо к Рождеству немецкому. Мне полегче стало, сам ходил, встретил его. И он увереннее: командовал! Так интересно было. Вскрыли вместе секретный склад: крышу просто сбросили. Он лег на пол. «Тяни!». Стянул я с него брезентовые штаны, тяжеленные… Как в них ходить можно? А там карманы… до ботинок. Полные отборного угля. Так просто! (Подрасстрельное дело у нас бы завели…). А у немцев это была зарплата ему. За десять дней!
Сундук. Балалайка. Картуз…
Штаны висели в курятничке, карманами прямо в погребок. Сами и разгрузились.
Потом, уже под наше Рождество, вместо хозяина вдруг пришли… наши. Тихо, без шума. Немцы зато столько в Морозовской «нашумели». Без наших обошлись: все, что можно было взорвать, – взорвали.
И сразу все уехали. Половина самолетов не взлетела. Казармы летчиков, говорят, не успели тронуть. В них и поселятся курсанты-качинцы. Потом.
Сегодня к ним прилетел любимый генерал!
…Иван Иванович передал меня своему другу – секретарю райкома. Помогай, говорит, Борису найти человека, кто спас его в войну. Так, по-военному, и секретарь поступил. Сам за рулем. Сразу в милицию. Найдите: Кныш Василий Никитич… Нету. Как? Из живых есть такой, но Кнышов…
И мы поехали! Улица Шолохова. Нашли домик. Никого. Женщина через улицу: вам кого?
…Это дочка Василия Никитича – Лида. Все рассказала… Не дождался меня сам «Кныш», как звали его уважительно соседи. Лиду я видел мало: с неделю, как вернулись они домой. С Клавой в основном общались, ровесницы! Я был еще мал для их секретов. У меня суслики на уме!
Нашли? Нашел! Это я секретарю, он очень спешит. Поехали?
…Поехали. Потому что скоро надо улетать. Домой…
– До свидания, Лида! Я бы сам не узнал тебя…
– До свидания! А вы сами кто будете?
– Лида! Я напишу тебе обязательно. Я тот самый Борька, Клавин племяш…
…Жалко было смотреть на эту женщину. Бабушку – Лиду Кнышову. По отцу.
Писал, конечно. И мама писала. И Клава… Но так больше и не виделись.
Далеко! Когда-то было ближе.
Такое было время…
…Уже вернулись наши ребята с войны. Живыми!.. После госпиталя… Герои. Сын старший директора совхоза ― крепкий, веселый, красивый… Только без руки правой… Мы, школьники, замучили его вопросами… Женщины одно: «А моего не встречал?»
Полшколы у нас девчонок с одной фамилией: почти в каждом классе. Отец их давно ушел добровольцем. Хоть и директор, учитель! Семейство оставил… Такое было время. И люди.
«Двадцать шестой год рождения» ― не брали. Как и нас, после седьмого ― в лагеря почти на всё лето… Стрелять холостыми и ползать ниже травы учили: вдруг и мы успеем… Голодные были всё время. Помним, и не верится.
…На столбе, посреди посёлка, как колокол, ― радио. Не умолкает с шести утра! Говорит и говорит Москва до полночи. Слушаем, слушаем… Уже Берлин взяли! Окружили «под носом» у союзников и взяли. Когда же конец? Гитлера поймаем!
…Тётка родная ― мамина младшая сестрёнка ― мечтает: «Вот бы завтра! Девятого»… День рождения у неё! Одноклассницы хлопочут: сиротка. Все жалели. Родители «остались» в Сталинграде. Маму укрыла тёплым одеялом… Так и лежит на дне щели. Папа ― у входа. Немец застрелил…
Была осень поздняя 42-го. И зима будет у неё, у нас. Пешком пройдём через Гумрак, Калач, Чир, Морозовскую. Не пленники ― остатки большой семьи. Никто уже. И ничто.
…Тогда радиоприемников ни у кого дома не было: не положено! Власти обещали вернуть конфискованное после войны. Кто знает?
И был один мальчишка, мой товарищ. Друг, можно сказать. Да с «подозрительной» фамилией ― Тановицкий (смеялись ― почти Тухачевский. Враг!). Но я дружил с Ванюшкой! Великий изобретатель. Для меня радио ― «тёмный лес». Пытался в самом раннем детстве заглянуть в черную тарелку репродуктора… Разломал… Но не нашел там человечка, который разговаривал… А у Ванюшки что-то настоящее, своё, секретное было… Свистит, шумит, бормочет, поёт на чужом языке!
Позвал меня, и мы спрятались в клубе, когда все ушли. Крутит ручку Ваня! Мне ― наушник…
Совхоз крепко спит. Устали люди от тяжелой работы. От ожидания: «Когда же?» Плакали и во сне матери. Заговорит радио на столбе только в шесть, не раньше.
…Как сказка, как Новый год! Русские слова «поймали»! Наши: «Подписан акт о безоговорочной капитуляции…» Шум, свист… Крутим, ищем своих…
…«Победа в Великой Отечественной»… Кажется, сказали и про «девятое» и «вечную память».
Выскочили мы на улицу. В первый раз небо такое! Как новое. Все до одной звёздочки горят… Далеко где-то не спится петуху… Мы знаем уже: «Победа!» Только двое нас.
Куда бежать? Домой… В тайнике карабин трофейный. Полный магазин! Ванюшка увидел ― уши закрыл руками. Грохнул первый выстрел. Салют!
Разорвал ночь! Еще и еще ― как пушка-карабин ― пока обойма не кончилась. Смотрим, а рядом люди…
Никто не спал?
* * *
Через много лет довелось побывать в том посёлке. У конторы памятник.
Читаю. А ведь это список нашего класса! Где? Когда успели? Это…
Отцы не вернулись с войны.
И старший брат Ванюшки ― Илья. Морской лётчик.
…Как он был от нас далёк, тот май 45-го! Большая капля крови.
И слёз море.
Да не видно берегов.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































