Текст книги "Сердце болит…."
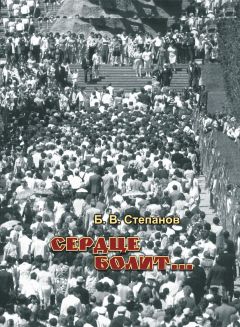
Автор книги: Борис Степанов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)
Гумрак. И далее…
Есть в нашем городе-герое, в здании бывшей школы, очень маленький музей «Дети Сталинграда». Всего одна комната, класс.
Можно сказать, это музей одной девочки, тогда в 42-м ученицы 4-го класса Юленьки Кулешовой.
До последнего дня жизни, уже учительница, вопреки «мнению официальных лиц», она сберегла память о судьбах своих ровесников.
Почему я об этом музее вспомнил?
Я любил Юленьку. Воистину – только святые способны на такие подвиги, на бескорыстие, чистоту, верность, веру во все лучшее…
И еще потому, что на одном из стендов музея и мой «портрет» есть. Правда!
«24 июня 1941 года» (карандаш химический, если посмотреть на обороте…). Уже третий день войны. Грустный, но не испуганный мальчишка. Стриженный «под машинку» как призывник… Не пригодилась стрижка: не успел.
Рядом фотка красавца-суворовца Коли Першина. Только после победы он станет мирным профессором… И моего коллеги, ученика-заочника самого Юрия Левитана – диктора радио «Говорит Волгоград» Клима Коняхина. Теперь еще и ветерана одной из «малых войн». Совсем маленьким был в Сталинграде… Но что помнит – обязательно всем рассказывает.
И много-много других ее, Юленьки, ровесников. С каждого требовала, просила, умоляла: расскажите правду, напишите.
Каюсь… Я свое так и не написал. Не успел. Теперь вот.
Какая же умница – Юля! Воспитала смену себе. И сегодня музей ее жив. И снова почти… вопреки…
Ученики ее стали даже экскурсоводами в своем музее.
А мы, кто живы, встречаемся там без особого приглашения…
Недавно меня «допрашивала» уже новенькая девочка. Строго так: «А по сколько граммов хлеба выдавали вам тогда? Больше, чем ленинградским детям?».
Боже милостивый! Наши дети, уже и внуки понятия не имеют о трагедии сталинградцев, мирных, как принято говорить, жителей. Даже эта девочка, надежда, наследница Юлии… так далека от истины, от правды.
Напоминаю, имею на это право, и теперь возможность! В самом городе с первыми же бомбами сразу прекратилось всякое снабжение населения. Всякое! Скоро семьдесят лет тем дням, а мы молчим, молчим.
Стыдимся вспомнить?
Я о той беде сужу не только по судьбе нашей семьи – дедушки моего Михаила Сидоровича Сиятского, рабочего «Красного Октября». Но даже по тому, что случилось с нами, что пережили брошенные всеми, обманутые.
Десяток селедок – последнюю «зарплату» деда, на всю семью и до конца жизни – помню… Хоть это получить успел.
Да если бы Красная Армия – сама здесь, в городе не очень сытая – не делилась с нами, уцелевшими в бомбежку, последним куском хлеба, ложкой каши, глотком воды… Разве мы выжили бы?
А сколько нас было 23 августа – остается тайной за семью печатями…
Сталин, говорят, запретил эвакуацию. Да и поздно было…
Вместе с беженцами с Украины, ленинградцами было нас около миллиона… Официальная цифра погибших – сорок тысяч – капелька в море… Где остальные? Улетели? Ведь горящая Волга мало кого выпустила на левый берег. На севере – немцы, за тракторным. И на юге, до Бекетовки… И центр, и Мамаев курган – вершина его… А город сгорел, рухнул…
Где люди? Кто их считал?.. Зачем?
…Всего 61 день (и ночь) я «находился под немцем». Прошел, прошагал вместе с мамой и ее младшей сестренкой Клавой от «Красного Октября», от Русской деревни до Морозовской, аж до Ростовской области! И много лет потом боялся открыто сказать об этом. Рассказать, что видел.
Боялся, когда захотел, как все ровесники, в 14 лет вступить в комсомол… Не приняли.
А «не приняли» те, кто и «пороха не нюхал». Смолоду уже чванливые такие…
Как разделились люди!
1943 год. На фронте теперь мы побеждаем. Освобождаются целые города! Возвращаются домой и те, кто «переждал» в глубоком тылу…
Но теперь мы разные граждане! Те, кто был и кто не был… «там». Хоть в лагере, хоть по дороге в лагерь… подыхал от холода и голода.
И как они – «тыловые» – унижали девчонок, особенно комсомолок, кто оставался в оккупации… И не погиб… Исключали, «немецкими овчарками» называли.
Сам переживал… не за себя – за маму и сестренку ее – Клаву.
И молчал. Как все!
Но эта девочка из музея будто «подожгла» мою совесть, память!.. И так захотелось ответить ей – надеюсь, будущему честному историку – и «рассекретить» хоть один день «своего» плена (не солдаты мы, а неволя была сразу всем!).
Хоть один день.
Пока только 5 ноября. Сегодня минус двадцать. С ветром.
Еле добрели мы до поселка Гумрак. Уже ночь. Это был, как показалось, не свет в окошках домиков: костры! Много костров. Больших и маленьких. Толпы людей, паника. Тележки с пожитками, детьми.
Все тянулись к Гумраку. И пришли…
Почти сразу мы потерялись с мамой и Клавой: искали знакомых.
…Я маленький был, худенький… Втиснулся в какую-то пещерку, занавешенную одеялом.
Там несколько женщин с малыми детьми… Они голыми руками, зубами пытались разломать большую доску… обледенелую, как стальную… Рядом, вдоль насыпи железнодорожного пути, стояли щиты снегозадержания… Это такой дощатый забор… Одну доску матери оторвали, притащили, спрятали… И едва не поплатились жизнями! Немецкий часовой даже стрелял. Но, похоже, для устрашения: доску не отобрал… Потом задымили щепки. Мокрые, но загорелись. Детей спасают матери, а сами задыхаются, терпят… Меня, правда, скоро вытолкнули «за порог», за одеяло: не ребенок, оказывается. И чужой.
Да я и не выдержал бы там, просто угорел бы…
Не знаю, что было потом с остальными, с детишками – врать не буду.
Далеко не ушел, пристроился, прилепился к телефонному столбу – дерево! Отдышался, отплевался…
…И увидел вдруг потрясающей красоты черное небо в звездах. Еще и заслушался: столб мой будто пел… Натянулись его струны – провода от мороза, звенят: музыка! И уснул бы, и не проснулся…
Не дал кто-то! Не люди: им было не до меня.
Так и просидел, пролюбовался звездами (там где-то Бог живет!), пока не начали они угасать…
Оторвался от своего «теплого» столба. Побрел… Куда? Не знаю… Там, где люди были, где с мамой потерялись, – никого. Тихо. И костров никаких. Черные большие пятна, едва присыпанные пеплом, как снежком… Много костров было вчера… И вокруг: как обнялись с вечера, пригрелись люди, так и спят. И «не хотят» просыпаться. Холодно на дворе…
Лица у всех одинаково белые… Куклы.
Между насыпью и лесопосадкой, у крайних домов поселка – эта площадь – кладбище. Как поле боя. После боя…
От родного дома ушли (хоть его давно сожгли немцы), похоже, как и мы, поверили им: «Идите на Гумрак!».
А идти уже некуда. И некому…
Когда рассвело немножко, видно стало: от города бредут новые люди. Прямо к этой площади перед поселком. Живые.
Их никто не гнал штыками. Они спасались. Просто уходили подальше от войны… Куда деваться!
Первые и наткнулись на мертвых. И сразу принялись искать, потрошить их сумки, мешки… Может, чего найдут. И ведь не мародеры какие-то! Просто люди. Сами гибнут.
…А совсем рядом, оказывается, другая жизнь – сама станция Гумрак!
Пыхтел, свистел паровоз… Никто мне, пацану, не мешал, и я побрел туда. Там тепло. Пар валит!
Все искал маму и Клаву. Но как-то уже спокойно. Устал. Умереть бы сразу… То ли сон, то ли явь? Какие-то красивые машины легковые. Хорошо, тепло одетые женщины… В шубах! Спокойно садятся в вагон.
Нет, не наши! Нет. Всего один вагон. Значит, это правда: из Гумрака теперь можно уехать. Хоть до Берлина… И едут… Похоже, это жены офицеров, больших чинов поторопились немного на свой праздник победы. Зима русская теперь торопит: домой, домой в теплую Европу… Свидание окончено! Или почуяли беду? Две недели всего оставалось «праздновать»…
…Ни тогда не знали наши люди, ни даже сегодня (откуда?), что деловые немцы – ведь правда, почти победили. И Гитлер обещал приехать – успели «перешить» на европейский стандарт… нашу железную дорогу.
Гумрак, стало быть, их самая «восточная» станция.
Временно, но была.
Сам видел.
Питэр – их «сын полка»!
…Опять вместе наша троица: нашлись! Как «перезимовали», оттаяли немножко. Ту ночь звездную у порога теплых домиков поселка Гумрак – не забыть!
Идем. Страшно оставаться там на кладбище открытом!
…Телега, похожая на повозку цыганскую, под брезентом даже, катится следом, догоняет. Молодые веселые солдатики… Трое. Лошадка (наша) послушно встала рядом. Приглашают… Нет, мы пойдем! Тогда (жестами) хоть сумки свои бросьте к нам! Мама решилась. И мы за ней…
Как легко, радостно стало! Добрые люди встретились. Уже не идем – почти бежим за телегой.
Вдруг – развилка дорог! Немцы свернули на свою. Лошадка послушно потрусила под горку.
…Уехали, уезжают наши пожитки!
Мама командует: беги…
Бегу. Немцы ржут: наверное, это было зрелище. Как во сне: бег на месте… Молюсь, не забыл, зову Михаила Архангела… Ноги не слушаются… Задыхаюсь, молюсь…
И вдруг остановились! Ждут. А я все «бегу»…
Сбросили все наше богатство на дорогу. Тронулась телега.
И уже никто не смеется над мальчишкой смешным.
Кто они? Почему такие добрые… и фашисты… Пришли к нам… или просто вместе с фашистами?
Сел на свой мешок. Жду.
…И вспомнил, как жарко горел наш дом, как засыпали они картечью весь наш поселок, людей сколько покалечили, поубивали… Моего дедушку Мишу спокойно так подошли и застрелили…
Это ведь тоже они!
…К вечеру добрели по той дороге до какого-то лагеря. Как и мы, люди останавливались в низине, похоже, устраивались на ночлег…
Но ведь это не беженцы! Немцы… В сумерках-то не разглядели, даже обрадовались. Теперь ясно – тяжелые капитальные телеги, огромные колеса… Кони-богатыри, сытые… У нас на Тракторном на таких лед по магазинам развозили летом: осколки нам. Вот и запомнились эти куцые тяжеловозы.
Теперь (а это чистые «немцы», не обрусевшие) поскорее домой: зима наша не для них.
…Жители, горожане легко перемешались с обозниками: пленные наши уже «в доверии» у немцев, зеленые шинели без погон. Ну почти «вермахт»!
И очень старались показать верность новым хозяевам… Проверили у нас всех сумки: просто вытряхнули на снег, но взять было нечего. Немцы рядом. Наблюдают спокойно, никого не гонят…
Да мы и не смогли бы идти дальше…
…Здесь когда-то были военные, наши. Подобие блиндажей, землянок… Пообвалилось все… но там и спаслись от мороза. Усердно молились: услышал Господь!
…Утром выбрались на большую дорогу вместе с табором, теперь уже русско-немецким.
…Очень скоро, как ждали нас, встретился настоящий казачий разъезд! Добрые кони танцуют под крепкими наездниками, плетки у каждого, шапки на боку! Хозяева… Даже немцы притихли, кажется, не ожидали… И я-то поверил: наши! Чуть не заорал…
О чем-то «погутарили» казаки с офицером, вроде договорились. Тот приказал: распрягай больного мерина (хромал). Маленький пистолетик немец вставил в ухо коню… Выстрела не слышно было…
Не отдал «земляка» своего, не оставил живым.
Так и прошел обоз через весь хутор, будто под конвоем казачьим.
Большой хутор. Почти станица.
Нас только отогнали в сторону…
Почти в каждой хате (доме! Такой хутор: совхоз!) новые хозяева. Старые во дворе, в летней кухне, землянке…
Ну а нам плетень необмазанный за двором. К нему и прислонились…
…По той же нашей дороге, мы-то ушли «с того света», к Сталинграду идут и идут войска.
Уже не все немцы на колесах. Пешком пошли – переучиваются!
А нам будто теплее стало на душе… Десяток, чуть побольше солдат (офицеры сразу в дом!) остались во дворе. Отдых – привал.
Смотрю и глазам не верю: один из них маленький, прямо ребенок в офицерской форме, кобура от парабеллума на ремне… Шинелька с иголочки, по нему! Сапожки блестят…
Бегает дитя по двору. Солдатам весело: Питэр, Питэр!.. Забежал тот на крышу кухни-землянки (там вся семья – хозяева с детьми), дымок из трубы. Мальчик ловко засунул туда какую-то тряпку. Подбегает к двери, подпирает чем-то… И опять на крышу… Какие-то секунды!
Всем очень весело! Так и погибла бы вся казачья семья! Да нашелся человек, офицер. На крылечке стоял, все видел… Сбежал вниз, выбил подпорки, распахнул двери… Дым валит, крики, проклятья!
…Не помню, кто рассказал или пересказал нам потом: возят немцы с собой этого «сына полка» с самой границы, с Украины… Якобы сирота: родителей большевики расстреляли…
Идут теперь к Сталинграду.
…Почти семьдесят лет тому ноябрю. Жив ли Питэр, юный палач?
Ему уже под восемьдесят…
Если не замерз в Сталинграде. Жалко мальчишку!..
Прости, Кузьмич!
Всем, кажется, прощаю: с собой не унесешь чужих долгов.
…Больше всех искал русского повара с полевой немецкой кухни. «Простить» хотелось…
Очень похожим на него был наш любимый Кузьмич – шеф 33-й столовой. Чудо-мастер, щедрый, гостеприимный… Все шоферы и все наше оперативное телевидение (информация) кормились у него. Кругом позорное разгильдяйство в общепите, а у него «оазис»! Даже по нескольку блюд: закуски, первые, вторые, сладкое… А сам Кузьмич всегда в зале, интересуется: профессионал!
Но уж очень похож! Даже к чекистам хотел сходить, рассказать.
…Солдат-немец (шли долго рядом в обозе «русско-немецком») вдруг заспорил со мной: «А твой Сталин – дурак!». Молчу. «Столько идем, столько земли пустой…» Молчу. «Нам бы эту землю…»
Этот самый солдат и посоветовал, когда остановились, – иди, и тебе дадут… Только котелок найди. А повар хороший! Ваш, русский.
Немцы уже получили свое. Сыты. Кухня стоит.
Пробежал глазами вокруг – правда, котелок валяется. Да «наш», круглый, как ведерко. Подобрал. Пустой… Вытер рукавом… Иду… Повар смотрит, улыбается… Трое офицеров курят невдалеке.
Солдатик тот мне знаки подает: иди, мол…
Взял повар, даже наклонился, мой котелок… тяжеленький!
Я не успел и попросить (встал бы хоть на колени!..), а котелок уже летел мимо моей головы…
…«Хороший! Ваш, русский». И так похож на нашего Кузьмича!..
Очень похож. Он – не он?
…А солдатик добрый потом попросил больше к нему не подходить. Испугался.
Меня теперь «Иваном» зовут. Смеются…
…Прости, Кузьмич! Если я о тебе напрасно… так плохо подумал. Пойми меня.
А ведь тоже плен!
Дней через несколько, по-моему, на пятый – мы уже и Гумрак пережили, далеко ушли, за Карповку… Там ночевали у кого-то во дворе, в соломе… Крепко спали! Соседнюю улицу (там от церкви улицы лучами расходились – красиво!) буквально снесли с лица земли: наши разбомбили.
Танковая колонна «отдыхала». Разглядели их летчицы – «ночные ведьмы». Луна помогла – полная!
А мы поднялись утром и пошли своей дорогой… Даже не увидели той улицы…
Опять пронесло: не до нас было.
…Все никак не могу привыкнуть к чудесному нашему спасению. И на каждом шагу ведь! Судьба? А я столько раз уже – не во сне, наяву будто – стал слышать: это суд Божий!..
Но как мы верим? Почти как те солдаты: поклонился пуле, которая уже просвистела, и спасибо – «не моя». Так и живем дальше, как жили.
Ведь, правда!
…Вспомнился совхоз «Зеленовский». На карте области нет такого. Искал потом…
Там видел своими глазами (мимо проходили) жестянки на углу хорошего, крепкого дома… и по-немецки на ней напечатано: «Калачштрассе». Прочитал легко. Вот так! Уже не улица, и не совхоз, значит…
На крыльце дома – явно начальник местный: полковничий полушубок, папаха казачья и… бурки (!) фетровые… Может, и при советской власти был властью? Или все трофейное…
Смотрит на нас героем! Посмотрел и забыл…
Мама наша – талант! Нашла хозяев сговорчивых. Пустили. В первую, прямо у порога, но с печуркой, комнатку. Мы сразу забились в угол. Рады без ума!
В большой комнате – гости. Немцы. Внучки с ними веселятся… Сами хозяева здесь, с нами. Разговорились.
Они не местные. Давно, как совхоз создавался, приехали, работали. А кто мы, откуда?
Если проговоримся! Отец в соседнем, еще «нашем» районе. Но он – комиссар! И кто их знает, этих простых добрых людей?.. Мама-дипломат наш: о себе, портниха и т. д. Увела.
…Ближе к вечеру в эту нашу кухоньку набилось сразу человек десять. Их знакомые – немцы. Мешки большие с орлами, свастиками, коробки, сумки…
Нас не выгнали.
…Началась раздача подарков солдатам. Уже целая очередь, как у нас «живая». Аж на улице хвост, хоть и зима на дворе.
Продукты, подарки: это консервы, хлебцы вроде нашего бородинского…
Хозяева в сторонке, наблюдают, лампу керосиновую держат…
Мама-активистка – помогает…
Каждому солдату командир вручает сразу весь набор. И главное, перевязанный ленточкой «привет из дома!».
Всем праздник, и мне весело почему-то сделалось…
Так и идут. Строго по очереди. Вошел, получил, поблагодарил фюрера… Следующий!
А следующий – наш! Пленный. В нашей шинели пока. Без погон. Да и не было в Красной Армии погон в 42-м! И ему тоже паек.
За ним – еще один наш. Только им без коробочки с ленточкой.
Опять немец. И еще, еще!
Вдруг – наш. Разговорчивый, шпарит по-ихнему. Пошутил даже насчет подарка «из дома».
Опять всем весело.
…Мешок с хлебцами бородинскими опустел. Всем хватило. И подарки закончились… Немцы любят порядок, учет!
Все ушли наконец. Немая сцена: под печкой одна буханочка черная «задержалась». Я же видел: мама только держала тот мешок «за горло»!
Ведь всем хватило…
Но если бы! Страшно подумать: нас троих отвели бы к оврагу. Без разговоров. Может быть, доверили и самим «нашим».
Наверное.
И хозяев не пожалели бы.
Тепло, уютно, хоть на полу улеглись.
Но я не заснул до утра. От той буханочки таким могильным холодом веяло!..
Мама молчит. Пронесло. Грех великий! Но значит, так было Господу угодно: не дал погибнуть. И накормил.
Я не молился… Признаюсь. Наверное, мама с Клавой.
…Впереди был еще целый день. Тот человек в бурках – староста – указал нам дорогу: власть!
Хутор Кустовский. Это далеко, уже за Доном, за Чиром. Добрались – там битком немцев, греются по хатам (куреням).
Длинные казачьи хутора – рядом новый – Б. Подгорный. Пустили добрые люди погреться.
Мама их деду, что ли, приглянулась? Пошел на речку, рыбки свежей принес.
– Ты городская, – говорит, – приготовь что-нибудь «по-вашему». Надоело вареное, вареное. И мясо надоело!
Ему мясо надоело!.. Дочка, оказывается, работает в колбасном цехе, совсем рядом. Там при наших была фабрика – пуговички перламутровые из ракушек высверливали…
Теперь во двор той фабрики гонят и гонят коров… На колбасу. Для фронта!
А дочка каждый день приносит «зарплату» – шматок добрый вырезки… Еле за пазухой умещается.
И мама взялась – предложила еще и котлеты сделать. Для доброго деда, думаю, старалась. Началась учеба всех домашних: кому лук, кому сухари давить, кому масло, и обязательно топленое (видела!).
У нас с Клавой «глаза на лбу», но терпим.
Вот с мясорубкой получилась «неловкость». Нету. И не было никогда!..
Но так «заболела» семья котлетами городскими, что едва не отправились к немцам просить! На их кухню…
Смешно и грустно! У нас котлеты на уме, а вокруг мир бесится! Целые народы с ума посходили…
…Но нам нужна мясорубка! Как же такое «затмение» могло на нас найти! И Клава-то впервые повеселела…
…Котлеты получились. Мы долго болели. Пустые были… могли умереть… Еле поднялись через сутки. Это только мы с Клавой. Мама убереглась. Она уже успела за это время сшить деду очень теплую рубаху. Из одеяла солдатского! Богатырь русский! Плечи широченные… Особенно теперь, в «маминой» рубахе.
Товарищи! Но мы же все пленные!
Опомнились, а староста приказал – добрый человек – проводить нас подальше от большой дороги, в хутор Солоновский…
Мы чужие, а мимо частенько генералы проезжают, сам Паулюс… Мало ли что?
В станице, рядом, их главный штаб…
Там, говорят, гестапо… Люди знают.
Грустно расставаться. И страшно.
Сами хозяева не рады. Видно. Что могут? Сытно живут сегодня. Но живут-то в летней кухне…
В их доме немцы.
Это ведь тоже плен.
Страшно было? Да нет…
В детстве мы знали: если испугался, значит, сердце в пятках. У нас туда весь страх спрятался? Или мы так намучались? Отвлеклись от жизни: радуемся тишине, доброму человеку. Но боимся представить, что творится в мире! А мы-то сами – в серединке!
И как поверить: все, что видим, теперь не наше! Даже наш воздух – все чужое! Есть мы или нет нас… Наркоз? Не похоже: пытаемся понять. Я о себе.
…Где-то на фронте родные. Как о них не думать? Отец! Мы успели, а он остался в двух шагах от немцев…
…Нас везут куда-то. Отдадут какому-то Копцеву, старосте. Легко фамилию запомнил: «копец» – «капут»… Почему так строго: «Сдать только ему?»
Долго плелись кони еще по Подгорам. Молчат внуки – возницы наши. Мои ровесники. Никто, похоже, не хотел расставаться… Грустно.
…Перед самой фабрикой (мясокомбинатом) поворот крутой в гору, на Солоновскую дорогу. Почти рядом остается станица Нижне-Чирская, Атаманская. Главное гнездо их генералов!..
Нам – не туда.
Но я отвлекусь, обязан: ровно через 20 лет пройдет с этого дня, и я приеду в станицу… Уже журналистом. С особым заданием.
Вот она – судьба! «Суд Божий»…
…Сейчас, в 42-м, там руководит полицией Александр Копцев. Нас везут к его отцу Стефану Копцеву…
Их обоих поймают уже на Украине, привезут в их же тюрьму, осудят… И расстреляют…
Мальчишка, пленник жалкий – я видел их, наверное, тогда. Ведь были рядом!
Теперь я могу рассказать – Бог даст, расскажу все что есть о преступлениях против своих же, даже родных, близких еще вчера, их совершили эти двое.
И не только о Копцевых… Тем более я один из немногих журналистов, кто имел тогда допуск к секретным делам – материалам военного трибунала.
Жив буду – обещаю рассказать.
…А пока на крутом повороте телега наша… потеряла колесо. Даже кони обрадовались! Мальчишки наперебой винят девушку: сразу с тремя пустыми ведрами дорогу перешла! Но радуются…
…Нас ссадили, вернули старосте. А рано утром все повторилось. Кроме колеса… И кони – добрый жест деда – уже другие! (Однако не бедный казачок, хоть и ютится в летней кухне… в ноябре. Со всем семейством!) Понесли они нас, легко, весело. Только мы трое не радовались: как сердце чуяло…
…Никакому Копцеву нас не сдали внуки. Не стали даже в хутор въезжать: сами его, оказывается, побаиваются. Дед говорил, что Стефана «красные» расстреляли еще в 30-м за восстание против колхозов. А он, видишь, с немцами домой вернулся!
…Самый крайний дом. Не хата! Казак бородатый на деревянной ноге встречает. Ему, кладовщику «вечному»! (и при наших в колхозе, и теперь) дяде Косте, нас и оставили. Развернулись внуки, проститься не успели и понеслись налегке… Красиво! И не жалко нас… Нас таких еще много будет…
Мы остались во дворе с Клавой. А маму бородатый увел в комендатуру. Строгий такой. Будто вчера еще не был просто колхозным кладовщиком. (А ведь скоро, весной, опять «пригодится»… Я встречался с ним через 20 лет. И не жалею. Только дядя Костя «не все» вспомнил…)
А к нам вышла девочка. Точно как наша Клава. Разговорились – обе в девятый перешли!
Нам разрешили (не запретили) спрятаться в сенях – холодном коридоре… Я как сел в уголке, прижался крепко к стенке дома, так почти всю на спине (побелку) и унес потом.
Видно, хороши мы были!
Капа, как звали дочку хозяйскую, почти приказала нам: в баню! И мать ее, грустная, забитая какая-то, помогла. Затопили! Меня оставили в сенях.
Скоро вернулась мама. Одна.
Оставаться нам запретили. Всем немедленно в комендатуру и с первой машиной – в Морозовскую… Там сдадут нас на поезд и… в лагерь!
Бабушка, как назвал я хозяйку, успела вынести мне рукавички и носки шерстяные…
Когда открылась дверь в комнаты, я успел увидеть во всю стену почти портрет самого Гитлера!
Но уже ничему не удивился…
Через полчаса, не больше, нас запихнули в машину, захлопнули двери…
Потом всю жизнь мама будет говорить, что из Солоновки отправили нас прямо… в «душегубке»!
Очень похоже, но там в плотно закрытой черной машине без окон… был еще и немец! Спал. Нас не тронул.
…Когда остановилась машина: молча высадил нас. Из «душегубки»!
Но в ней было тепло…
А ведь это была уже Морозовская!.. Вокзал? Не похоже.
Колхозный двор, степь, окраина.
Долго ехали. Ночь уже глухая. Догорают костры, как в Гумраке. Но это уже было что-то другое: коровники огромные, ворота открыты, навоз до самых окошек узеньких под потолком. Горячий, если закопать в него ноги…
…Это лагерь? Уже?
Немец просто высадил нас. К нашим!
Кто теперь знает – почему? Но они ведь, как и мы – разные.
Были. И есть…
P. S. В 1962 году, когда мне поручили рассказать о подвиге партизан нижнечирского отряда «Смерть фашизму», о гибели комсомольцев-подпольщиков и просто комсомольцев, молодежи – уже не было, не оказалось в живых никого… из свидетелей.
Не было и той красавицы-станицы, хуторов…
Не война погубила!
Прогресс: рукотворное море (теперь зеленая лужа) от горизонта до горизонта – все затопило!
И память людей. Будто их самих.
Так спокойнее… Кому?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































