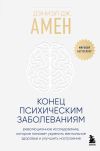Текст книги "Неизбежное. 10 историй борьбы за справедливость в России"

Автор книги: Брячеслав Галимов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)
Гиляровский захохотал так громко, что зазвенели стёкла в окнах, а в дверь заглянула испуганная Евгения Яковлевна.
– И ещё кто-то смеет называть тебя унылым писателем! – выпалил Гиляровский. – Какие идиоты!
– Лика тоже поэтическое создание, полубогиня, но и порядочный крокодил, – переждав его смех, продолжал Чехов. – Самое печальное, что ей удалось-таки укусить меня за сердце. Мы переписываемся, она приезжает в гости, и мне без неё скучно.
– Ну и давай Бог! – сказал Гиляровский, сразу став серьёзным. – Я сам раньше женщин презирал, в гимназии все женщины для меня были «бабьё». В бурлаках мы и в глаза не видели женщин. В полку видели только гулящих девок, которых просто боялись, наслушавшись увещеваний полкового доктора. Потом, когда был в актёрах, почувствовал сердечное волнение при виде одной хорошенькой артистки. Провожал её до дома, принарядился: завёл пиджак и фетровую шляпу. Но тут началась война с турками, и я ушёл воевать, а когда вернулся, моя артистка была уже невестой другого. Думал, что вовсе не женюсь, однако встретил свою Машу, – и вот счастлив, дочь растёт.
– Куда мне жениться, я для этого не гожусь, – возразил Чехов. – Лёгкие слабые, кашляю; пока всё не так плохо, но вспоминая брата Николая… Чахотка, Гиляй, не подходящая вещь для женитьбы… К тому же литература – капризная дама, она требует к себе постоянного внимания и не терпит соперниц. Если мне и нужна жена, то, как осеннее солнце, которое лишь изредка появляется на небе. А Лика не такая: без общества она засохнет или пустится во все тяжкие, станет изменять мне, будет мучиться сама и мучить меня.
Нет, Гиляй, ничего путного у нас с ней не выйдет, – он вздохнул, снял пенсне и тщательно протёр его. – Бог с ними, с этими экзальтированными барышнями, – займусь своим вишнёвым садом. Я насажу роскошный сад; он будет стоять весь в цветах, покрытый росой, – и при виде его тихая, глубокая радость опустится на душу тех, у кого хорошая чистая душа, и они улыбнутся детской улыбкой.
– Антоша, Владимир Алексеевич! – раздался голос Евгении Яковлевны. – Идите чай пить! Павел Егорович встал, вас ждём.
– Приезжай тогда и ты, Гиляй, посмотреть на мой сад, – Чехов крепко пожал ему руку своей горячей сухой рукой. – А пока пойдём к столу. Будем пить чай с вареньем, рассказывать смешные истории и слушать, как дождь стучит по крыше.
Арест Николая Гусева, секретаря Л.Н. Толстого, 4 августа 1909 года
В вечерних сумерках во двор яснополянского дома въехали три коляски. Они были полны вооружёнными людьми в мундирах; лица этих людей были строги и решительны. Не дожидаясь, пока коляски остановятся, капитан-исправник, который командовал всей группой, резким звенящим шёпотом приказал:
– Рассредоточиться! Перекрыть все выходы! Никого не выпускать!
Люди в мундирах побежали кругом дома, стараясь ступать бесшумно и зачем-то пригибаясь. Капитан-исправник вместе со становым подошёл к дверям и громко постучал:
– Откройте, полиция! Мы знаем, что вы дома, открывайте!
Из дверей выглянула испуганная девушка в простом платье:
– Вам кого?
– Николая Гусева зови! Живо! – рявкнул капитан-исправник.
– Ой! – воскликнула девушка и скрылась.
– Теперь не уйдёт: некуда ему деться, голубчику, – довольно проговорил капитан-исправник.
– Куда ему деться, сей момент заберём, – разглаживая свои пышные усы, лениво согласился тучный становой.
Через некоторое время на крыльцо вышел одетый в толстовку молодой человек с густыми русыми волосами и бородой.
– Чему обязан в столь поздний час? – поинтересовался он, насмешливо глядя сквозь очки на полицейских.
– Вы Николай Николаевич Гусев, рязанский мещанин? – сурово спросил капитан-исправник.
– Я самый и есть, – всё также насмешливо ответил молодой человек.
– Мы имеем приказ о вашем аресте и препровождении в Крапивенскую тюрьму, дабы оттуда отправить в Чердынский уезд Пермской губернии, – как можно строже и внушительнее произнёс капитан-исправник. – Извольте собраться и выйти с вещами. Даю вам полчаса, не более.
– Но в чём меня обвиняют? – удивился молодой человек, не потеряв, однако, насмешливого тона.
– В нужное время вы обо всём узнаете, – насупился капитан-исправник. – Собирайтесь!
– Тёплые вещи не забудьте взять, осень скоро, а в Перми, знаете ли, не жарко, – прибавил добродушный становой. – И харчей на дорогу тоже не помешает.
Молодой человек пожал плечами:
– Хорошо, подождите, я скоро выйду, – он ушёл в дом.
– Вечно вы со своим либерализмом, – недовольно проворчал капитан-исправник, обращаясь к становому. – Не забывайте, мы при исполнении.
– Да чего уж там… – смущенно отозвался становой.
Минут через пять из дома вышел бородатый старик в подпоясанной просторной рубахе. Заложив широкие, с вздувшимися венами руки за пояс, он сказал:
– Я граф Толстой. По какому праву вы тревожите меня и моих близких, и нарушаете наш покой?
Капитан-исправник, будто ожидая его появления, тут же вынул из кармана небольшую бумагу и прочёл:
– «По решению министра внутренних дел… По 384-й статье Уложения о наказаниях Российской империи Николай Николаевич Гусев, 27 лет от роду, рязанский мещанин, православного вероисповедания, должен за распространение революционных изданий незамедлительно взят под стражу и сослан в Чердынский уезд, Пермской губернии, на 2 года». Подпись и печать присутствуют, – он показал лист Толстому.
– Мы только исполняем, ваше сиятельство, – прибавил становой. – Сами понимаете, служба…
Капитан-исправник толкнул станового в бок, что опять-таки означало: «вечно ваш либерализм!».
Толстой пристально, не отрываясь, смотрел на полицейских; они невольно отвели глаза. В парке возле дома в последних лучах заката перекликались птицы; запоздалый шмель торопливо прожужжал в воздухе; где-то на лугу затянул свою песню коростель. Всё это так не соответствовало цели приезда капитана-исправника и станового, так было не созвучно прочитанной исправником бумаги, что они стушевались.
– Служба, знаете ли… – вслед за становым и неожиданно для самого себя пробормотал исправник, но сразу же встрепенулся, нахмурился и громко сказал: – Мы можем ждать не больше тридцати минут! Если подлежащий аресту Николай Гусев не явится через это время, мы вынуждены будем зайти в дом для исполнения своего долга.
– Да, я теперь вижу, что дальнейший разговор с вами бесполезен: если вы так понимаете свой долг, нам, разумеется, не о чем разговаривать, – Толстой вынул руки из-за пояса, оправил рубаху и, не простившись с полицейскими, покинул их на крыльце. Двери со стуком затворились.
– Какое неуважение к полиции! – раздражённо заметил исправник. – Ну и что, что он граф и знаменитый писатель, ведь мы – представители власти!
– Толстой!.. – со значением произнёс становой. – Недаром говорят, что в России сейчас два императора: Николай Второй и Лев Толстой.
– Перестаньте! – одёрнул его исправник. – Думайте, что говорите!
– Молчу, молчу! – становой прикрыл рот рукой и усмехнулся в усы.
* * *
В доме была страшная суматоха: все носились из комнаты в комнату, собирая какие-то вещи, роняя их на пол, подбирая и снова роняя; Софья Андреевна, жена Льва Николаевича, принесла из кухни большой узелок с провизией и объясняла Гусеву, что ему надо будет съесть в первую очередь, чтобы не испортилось, а что можно оставить на потом. Гусев был взволнован, но бодр, – он шутил и отпускал весёлые замечания по поводу своего ареста.
Толстой сидел за столом, перебирая дела, которыми раньше занимался Гусев, и слушая его комментарии к ним.
– Какой ужас, какой ужас, какой ужас! – повторяла Софья Андреевна. Она достала платок и вытерла глаза: – Неужели нужна была такая крайняя мера? Боже мой, за что?..
– Все мы слышали и читали о тысячах и тысячах таких распоряжений и исполнений, но когда они совершаются над близкими нам людьми и на наших глазах, то они бывают особенно поразительны, – сказал Толстой, отложив бумаги. – Особенно поражает несообразность с личностью Николая Николаевича этой жестокой и грубой меры, которая принята против него.
– А я, напротив, рад, что эта мера направлена против меня, а не против вас! – воскликнул Гусев. – Каково было бы всем нам, если бы они пришли за вами, Лев Николаевич.
– Они бы пришли за мной, если бы посмели, – возразил Толстой. – Они ведь вот как рассуждают: «Самый простой способ был бы в том, чтобы судить Толстого, а то и просто посадить его в тюрьму лет на пять, – там бы он и умер и перестал бы беспокоить нас. Это, разумеется, было бы самое удобное, но за границей приписывают Толстому некоторое значение, и послать его, как Гусева, в тюрьму, в Крапивну, всё-таки как-то неловко. И потому одно, что мы можем сделать, так это вредить и делать неприятности всем близким ему людям. Так что не мытьем, так катаньем всё-таки заставим его замолчать».
Гусев рассмеялся:
– Простите, Лев Николаевич, я смеюсь не над вами, а над ними! Заставить замолчать Толстого – это всё равно, что остановить солнце на небе! Такой подвиг им не по силам.

18. Л.Н. Толстой с внуками около своего дома в Ясной Поляне, фото 1908 года.
Толстой тоже слегка улыбнулся:
– Дело не в Толстом. Этот подвиг не удавался никому, если не считать сказку об Иисусе Навине, остановившем солнце, – но и он остановил только солнце, а не человеческую мысль; её остановить нельзя. Избавиться от бомб и бомбометателей можно, отобрав бомбы и посадив бомбометателей в тюрьму или убив их, но с мыслями ничего этого нельзя сделать. Насилия же, которые делаются против мыслей и носителей их, не только не ослабляют, но всегда только усиливают их воздействие. Что же касается меня, то как бы ни смотрели люди на мои мысли, я считаю их истинными, нужными и, главное, считаю смысл моей жизни только в том, чтобы высказывать их, и потому я, покуда буду жив, буду высказывать их.
– Я тоже никогда не отрекусь от моих мыслей, – уже серьёзно сказал Гусев.
– Вот этого и не понимают все эти министры, полицейские, жандармы, прокуроры, судьи – все эти люди в мундирах. Они служат, получают за это жалованье и делают то, что полагается делать. О том же, что может выйти из их деятельности, и справедлива ли она, никто не дает себе труда думать – от самых высших до самых низших. «Так полагается, и делаем», – передразнил Толстой этих воображаемых людей в мундирах. – Убили с горя мать, жену, продержали человека целые годы в тюрьме, свели с ума, иногда даже казнили его, развратили, погубили душу… И после этого удивляются бомбам революционеров. Нет, революционеры только понятливые ученики!
– Не все так считают. Вот у Достоевского, например, в его «Братьях Карамазовых»… – возразила Софья Андреевна.
– Достоевский не совсем прав. Его нападки на революционеров нехороши. Он судит о них по внешности, не входя в их настроение, – ответил Толстой
– Лёвушка, неужели ты одобряешь революционеров? – всплеснула руками Софья Андреевна.
– Нет, я никогда не одобрял и не одобряю их. Насилие может породить лишь другое, ещё большее насилие, – убеждённо сказал Толстой. – Однако я не могу не понять революционеров. Революция состоит в замене худшего порядка лучшим, и замена эта не может совершиться без внутреннего потрясения. Замена же дурного порядка лучшим есть неизбежный и благотворный шаг вперёд человечества. В современных государствах революции неизбежны, и эти короли и императоры, помяните мое слово, еще насидятся по тюрьмам!
У нас же, в России, это особенно ясно сейчас, когда мы, русские люди, болезненно чувствуем зло глупого, жестокого и лживого русского правительства, разоряющего и развращающего миллионы людей и начинающего уже вызывать русских людей на убийство друг друга.
– Лёвушка! – с укором проговорила Софья Андреевна. – Ты сам совершаешь жестокость, говоря так.
– Повторяю, никто не заставит меня молчать. И если тебе неприятны мои мысли, то я скорее расстанусь с тобой, Соня, чем с ними, – ответил Толстой, взглянув на неё.
– Лёвушка!.. – Софья Андреевна не нашлась, что сказать, и отвернулась от него.
– Ну, давайте прощаться, время вышло, – Гусев поднялся и взял свои вещи. – Слышите, снова стучат в дверь.
Все жильцы дома, все домашние окружили его и стали прощаться; у всех, от старых до малых, до детей и прислуги, было одно чувство уважения и любви к этому человеку, и более или менее сдерживаемое чувство негодования против виновников того, что совершалось над ним.
Толстой ждал своего черёда. Подойдя, наконец, к Гусеву, он сказал:
– Я как-то написал на имя министра юстиции письмо, в котором просил заключить меня в острог и освободить оттуда всех моих последователей, так как я являюсь корнем всего движения. Ответа я, конечно, не получил… И вот ныне вас, доброго, мягкого, правдивого человека, врага всякого насилия, желающего служить всем и ничего не требующего себе, – вас хватают ночью, чтобы запереть в тифозную тюрьму и сослать в какое-то только тем известное ссылающим вас людям место, что оно считается ими самым неприятным для жизни, – Толстой вдруг осёкся и заплакал.
– Лев Николаевич, что вы, – Гусев неловко обнял его. – Уверяю вас, всё будет со мною хорошо.
– Я знаю, дорогой мой человек, что вы живёте тою духовной жизнью, при которой никакие внешние воздействия не могут лишить человека его истинного блага, – отвечал Толстой, тоже обнимая его. – Я плачу не от жалости, я плачу от умиления при виде твёрдости и весёлости, с которыми вы принимаете то, что случилось с вами, – блаженны страдающие за правду! Ступайте, а я обещаю, что сделаю всё, что в моих силах, для облегчения вашей участи.
* * *
После того как Гусева увезли, в доме установилось неловкое молчание; все избегали смотреть друг на друга, будто были в чём-то виноваты. Спать не хотелось: кое-как уложив детей, вся семья собралась у самовара. Софья Андреевна села во главе стола, Толстой – по правую сторону от неё.
Молчание стало тягостным, тогда Александра Львовна, любимица Толстого после смерти его старшей дочери Марии, сказала:
– Странно, что они не сделали обыск. Помнишь, папа (она сделала ударение на последнем слоге), как ты рассказывал об обыске в шестьдесят втором году?
На лицах домочадцев появились улыбки: это воспоминание было одним из забавных эпизодов семейной жизни.
– Расскажи ещё раз, папа, – попросила Александра Львовна. – У тебя это так смешно получается.
Толстой покачал головой.
– Расскажи, Лёвушка, – попросила и Софья Андреевна. – Сейчас это, правда, смешно, а тогда было не до смеха.
– Смешно это оттого что нелепо, оттого что чуждо обычной человеческой жизни, – сказал Толстой. – Такие нелепые чуждые жизни явления всегда вызывают сначала отторжение, а потом смех, – а эта история безобразна и комична от начала до конца.
Ко мне тогда приходили многие студенты университета, увлечённые моими идеями, – в Москве у нас было нечто вроде кружка, – они приезжали и сюда, в Ясную. И вот кому-то из полицейских чинов почудилось, что Толстой решил создать революционную организацию и уже выпускает подрывную литературу.
Тогда же нашёлся человек, который объявил желание следить за действиями графа Толстого и узнать моё отношение к студентам, приходившим ко мне: это был Михаил Шипов, бывший дворовый человек шефа жандармов князя Долгорукова. Под именем галицкого почётного гражданина Михаила Зимина он прибыл в Тулу, где вместо выполнения принятого на себя поручения, то есть слежки за мной, начал вести разгульную, нетрезвую жизнь, посещая гостиницы низшего разряда и дома терпимости, и, наконец, дошёл до такой крайности, что заложил часы своего товарища, другого секретного агента, приехавшего с ним, – и через этот поступок они поссорились и разошлись.
Обиженный товарищ пошёл к начальнику тульского жандармского управления и сообщил, что Шипов-Зимин болтливостью своею обнаружил секретное поручение, данное ему правительством, а именно – следить за действиями графа Толстого и за лицами, живущими в Ясной Поляне.
Сам Шипов в Ясной ни разу не появился, а товарищ его ездил сюда два раза и вёл наблюдение, впрочем, без успеха.
– Я помню, как он прятался на липе, что стоит напротив крыльца, – вставила, улыбаясь, Софья Андреевна. – А когда мы его обнаружили, сказал, что залез на липу исключительно из уважения ко Льву Николаевичу, желая видеть великого писателя через окно в домашней обстановке. Он даже попросил, чтобы Лёвушка дал ему автограф или хотя бы волосок на память, – помнишь, Лёвушка?
Толстой кивнул:
– И вот, уличённый в недостойном поведении, Шипов был отослан обратно в Москву, а там, чтобы оправдаться, написал обширное лживое донесение о своих действиях, в котором утверждал, что в Ясной Поляне графом Толстым учреждена подпольная типография, где печатаются антиправительственные прокламации.
В жандармском отделении к донесению Шипова отнеслись со всей серьёзностью и снарядили специальную экспедицию к нам, в Ясную, для производства тщательнейшего обыска. Нас с Соней в то время не оказалось в имении, здесь были только моя тётка и сестра, но это жандармов не остановило: обыск продолжался два дня, – помимо Ясной были обысканы школы в Колпне и в Кривцове, и дома учителей.
Подпольную типографию искали так старательно, что взломали полы в конюшне, рыли ямы в саду в поисках подземного хода и даже закидывали невода в пруд, надеясь обнаружить спрятанный на дне шрифт, – видимо, такие подробности указал жандармам в своём донесении Шипов.
Все засмеялись, а Софья Андреевна подтвердила:
– Да, так и было. Вернувшись в Ясную, мы нашли здесь полный разгром.
– Ничего подозрительного жандармы не обнаружили; единственное, что могло привлечь их внимание, были несколько запрещённых в России книг и фотографические карточки Герцена и Огарева, подаренные мне в Лондоне, но всё это горничная Дуняша успела вынести в портфеле и спрятать в канаве, в которую жандармы, перерыв весь сад, не догадались заглянуть.
Это комическая сторона события, а безобразная заключается в том, – продолжал Толстой уже без улыбки, – что жандармами была прочитана вся моя переписка, найденная в доме, в том числе письма сугубо личного характера, а также мои дневники.
Публичное оскорбление, которое мне было нанесено, требовало такого же публичного удовлетворения, поэтому я обратился к главному виновнику творимых в России безобразий – к царю. Я написал ему письмо с подробным изложением произошедшего, в частности, привел слова жандарма, сказанные моей сестре, что он действует по высочайшему повелению, и что «каждый день мы можем снова приехать». Я написал царю, что считаю недостойным уверять его в незаслуженности нанесённого мне оскорбления. Все моё прошедшее, мои связи, моя открытая для всех деятельность могли бы доказать каждому интересующемуся мною, что я не мог быть заговорщиком, составителем прокламаций, убийцей или поджигателем.
Ответа от царя я не получил: мне было объявлено через тульского губернатора, что обыск в Ясной Поляне был вызван разными неблагоприятными сведениями и что «Его Величеству благоугодно, чтобы принятая мера не имела собственно для графа Толстого никаких последствий».
К этому объявлению князь Долгоруков нашёл нужным прибавить, что если бы граф Толстой во время пребывания жандармов в Ясной Поляне, находился сам лично, то, вероятно, убедился бы, что штаб-офицеры корпуса жандармов, при всей затруднительности возлагаемых на них поручений, стараются исполнить оные с тою осмотрительностью, которая должна составлять непременное условие их звания.
За столом снова засмеялись, но Толстой, покраснев от негодования, повысил голос:
– Я решил уехать, громко заявив, что продаю именья, чтобы покинуть Россию, где нельзя знать минутой вперед, что меня, и сестру, и мать не скуют и не высекут! Мне советовали ехать к Герцену, чтобы действовать совместно с ним, – но к Герцену я не поехал, он сам по себе, я сам по себе.
Я остался в России, и с тех пор вот уже почти пятьдесят лет состою под непрерывным полицейским надзором, – да разве я один?! У нас четыреста тысяч человек состоят под надзором.
А в отношении меня обличённые властью, негодяи в мундирах и светском платье продолжают принимать подлые и низкие меры: сначала они выслали за границу одного моего секретаря и ученика, Черткова, теперь взялись за другого – забрали Гусева. Что же, завтра же я напишу об этом во все газеты, напишу всем порядочным людям, кого я знаю, – ни одна мерзость, творимая в России, не должна остаться безнаказанной!
* * *
Толстой так разволновался, что не мог больше говорить; он задыхался, руки его дрожали. Все, кто сидел за столом, боялись на него смотреть.
– Не случился бы опять приступ, упаси Господи! – испуганно прошептала Софья Андреевна. Услышав её, Александра Львовна пошла к роялю и, усевшись за клавиши, стала играть 20-й ноктюрн Шопена. Это была одна из любимых мелодий Толстого, он предпочитал Шопена всем композиторам и говорил, что Шопен в музыке то же, что Пушкин в поэзии.
Толстой слушал, согнувшись над столом и опустив глаза. Когда прозвучал последний аккорд, он вздохнул лёгко и глубоко и тихо проговорил:
– Какая сила – музыка. Она ложь, выдумка, потому что в действительности, вот сейчас, нет того возвышенного и светлого, что есть в ней. Но она заставляет нас верить в то, что это возможно, и хоть на короткое время делает нашу жизнь лучше… Спасибо, Саша, за удовольствие, которое ты всем нам доставила, и за твою доброту.
– Лёвушка, может быть, не надо лишний раз раздражать власть? Я имею в виду твоё письмо об аресте Гусева, – спросила Софья Андреевна.
– Я уже говорил тебе, Соня, что до последнего вздоха не откажусь от своих мыслей и права их высказывать, – возразил Толстой. – Мне нечего к этому прибавить.
– Я хотела сказать, что когда в России такая обстановка, твоё письмо может произвести неблагоприятное впечатление, – пояснила Софья Андреевна, обидевшись на его резкость.
– Именно потому, что в России такая обстановка, я должен высказаться, – ответил Толстой.
– А что за обстановка в России? – саркастически спросил Андрей Львович, один из младших сыновей, тоже присутствовавший тут.

19. Л.Н. Толстой, фото 1909 года.
Толстой живо обернулся к нему. Он не любил этого своего сына, – прежде всего, не любил за то, что тот развёлся со своей женой, оставив её с двумя детьми, и женился на другой женщине, которая развелась ради этого брака, тоже имея детей. Кроме того, Андрей Львович был убеждённым монархистом и православным верующим, исполняющим церковные обряды, не испытывал никакой тяги к народу, бездумно тратил деньги на свои удовольствия и ни в чём не менял своего поведения – всё это также вызывало неприязнь Толстого к сыну.
– А как вы полагаете, что за обстановка в России? – подчеркнуто обращаясь к нему на «вы», поинтересовался Толстой.
– Я полагаю, что обстановка, слава Богу, неплохая, – отозвался Андрей Львович, снисходительно улыбаясь. – Волнения улеглись, разрушительная волна революции разбилась о прочное здание российской государственности. Повсюду наблюдается подъём патриотизма, народ поддерживает государя, вера в которого сильна, как никогда. Столыпин твёрдой рукой помогает государю в управлении, проводя в то же время необходимые преобразования. Ещё несколько лет порядка, и Россия удивит весь мир своими достижениями.
– Вы так полагаете? – переспросил Толстой, сделав упор на «так».
– Да, я так полагаю, – самоуверенно сказал Андрей Львович.
Взгляд Толстого вдруг стал острым и беспощадным.
– А я полагаю, – ледяным тоном, от которого все застыли, начал говорить Толстой, – что одни слепцы или безумцы не видят того, что Россия идёт к пропасти. Разве вы можете верить в то, что, не удовлетворяя определённым требованиям всего русского народа, требованиям самой первобытной справедливости, напротив того, раздражая народ, вы можете успокоить страну убийствами, тюрьмами, ссылками? Вы не можете не знать, что, поступая так, вы не только не излечиваете болезнь, а только усиливаете её, загоняя её внутрь.
А ваш Столыпин своим рождением, воспитанием, средой доведен до той тупости, которую он проявлял и проявляет в своих поступках, и которые во всём поддерживает царь. Эти два человека – главные виновники совершающихся злодейств и развращения народа, они сознательно делают то, что делают, и именно эти два человека больше каких-нибудь других нуждаются в обличении. А вы, все кто поддерживает их, опомнитесь, подумайте о себе, о своей душе.
– Но я… – хотел возразить Андрей Львович, но Толстой, не дав ему сказать, продолжал: – Неужели вам, выглянувшим на один короткий миг на свет божий – ведь смерть, если вас и не убьют, вот она всегда у всех нас за плечами, – неужели ваше призвание в жизни может быть только в том, чтобы убивать, мучить людей, самим дрожать от страха и лгать перед собой, перед людьми и перед Богом, что вы делаете всё это по обязанности для какой-то выдуманной несуществующей цели, выдуманной именно для вас, именно для того, чтобы можно было, будучи злодеем, считать себя подвижником выдуманной России!
– Но мы… – побледнев, снова хотел возразить Андрей Львович, но Толстой по-прежнему не давая ему говорить, продолжал: – Теперешнее правительство держится ведь только на том, что общество, над которым оно властвует, состоит из нравственно слабых людей, из которых одни, руководимые честолюбием, корыстью, гордостью, не стесняясь совестью, всеми средствами стараются захватить и удержать власть, а другие из страха, тоже корысти, тщеславия или вследствие одурения помогают первым и подчиняются. До тех пор пока люди будут неспособны устоять против соблазнов страха, одурения, корысти, честолюбия, тщеславия, которые порабощают одних и развращают других, они всегда сложатся в общество насилующих, обманывающих и насилуемых и обманываемых!
И не верьте тому, что, встречая царя в Москве или в других городах, толпы народа бегут за ним с криком «ура!». Часто эти люди, которых вы принимаете за выразителей народной любви к царю, суть не что иное, как полицией подстроенная толпа, долженствующая изображать преданный власти народ, как это было, например, с Александром Вторым в Харькове, когда собор был полон ликующего народа, но весь народ состоял из переодетых агентов сыскной полиции.
Ещё хуже, ещё отвратительнее то чувство, которое вы называете патриотизмом, потому что патриотизм есть рабство.
– Патриотизм?! – с ужасом воскликнул Андрей Львович.
– Да, патриотизм! – твёрдо сказал Толстой. – Я не устану повторять, что чувство превосходства своей страны есть чувство грубое, вредное, стыдное и дурное, а главное – безнравственное. Исключительная любовь к своей стране и необходимость жертвовать во имя неё своим спокойствием, имуществом и даже жизнью должны быть отвергнуты для торжества высшей идеи братства людей, которая всё более и более входя в сознание, получает разнообразные осуществления. И если бы не мешали этой идее власть имущие, которые могут удерживать свое выгодное в сравнении с народом положение только благодаря чувству превосходства своей страны над другими странами, внушаемому этому же самому народу, – высшая идея давно одержала бы верх.
Именно власть имущие у нас в России, как, впрочем, и во многих других странах, не дают развиться этой высшей идее и прикрывают фиговым листком патриотизма своё безобразие. Посмотрите на чудовищ нашей истории – от жестокого насильника Ивана Грозного до изверга Петра Первого, от развратной и лживой Екатерины Второй до жалкого, слабого, глупого Николая Второго – и вы увидите, что все они прикрывались патриотизмом.
Мне стыдно теперь, что когда-то, в «Войне и мире» я писал о благотворности той любви к стране и государству, которая воспринималась мною как естественное, хотя и не требующее открытого выражения чувство. Нет, история держится не на любви к стране и государству, – вся история есть история борьбы одной власти против другой, как в России, так и во всех других государствах.
– Прямо по Марксу, – язвительно заметил покрывшийся красными пятнами Андрей Львович.
– А что же, он не так уж неправ, может быть, – ответил Толстой. – Во всяком случае, революционеры – не бандиты, не шайка разбойников, а люди, которые ненавидят существующий порядок вещей, и который есть за что ненавидеть. Я писал об этом отцу нынешнего царя, Александру Третьему, прося помиловать Софью Перовскую и её товарищей, но и на это письмо ответа не получил.
Андрей Львович ничего не решился возразить. Толстой подождал немного, не скажет ли ещё кто-нибудь что-то, но все молчали; тогда он поднялся из-за стола, поклонился всем присутствующим и ушёл в свой кабинет. Софья Андреевна сказала Александре Львовне:
– Сашенька, побудь за хозяйку! – и пошла за ним.
* * *
В кабинете Толстой зажёг свечу, он любил писать при свечах, взял лист бумаги, ручку и пододвинул чернильницу. «Заявление об аресте Николая Гусева» – сделал он заголовок, но тут вошла Софья Андреевна.
– Прости, Лёвушка, я тебе потревожу ненадолго, – сказала она. – Можно мне с тобой поговорить?
Толстой вздохнул и отложил ручку:
– Я слушаю тебя, Соня.
– Мне вспомнился твой юбилей в прошлом году, – с улыбкой начала Софья Андреевна. – Сколько было поздравлений! В один только этот день пришли шестьсот телеграмм и почти сто писем, а за неделю мы получили несколько сот писем и две тысячи телеграмм, подписанных пятьюдесятью тысячами человек! Помнишь письмо от тульских телеграфистов, где они писали, что двадцать восьмого августа провели бессонную ночь за беспрерывным приемом телеграфной корреспонденции, в которой выразилась, как они сказали, вся любовь народа к великому писателю.
Художники из «Московского общества любителей художеств» подарили альбом с их произведениями, лучшие писатели прислали тебе в дар свои книги, журналы посвятили твоему юбилею специальные поздравительные выпуски.
А самовар от официантов петербургского театра-сада «Фарс» и сопроводительное письмо к нему, в котором они писали, что ты помог им «из «человеков» стать людьми»! А двадцать один фунт хлеба от пекаря, а сто кос от владельца железоделательной мастерской, – всё это ты раздал крестьянам, и как они были довольны, и как ты был доволен, что довольны они! Ты помнишь, Лёвушка?
– Я помню, Соня, – ответил Толстой, терпеливо слушая её.
– Были письма и от людей, близких ко двору, – продолжала Софья Андреевна. – Великий князь Николай Михайлович прислал поздравительный адрес. Ты знаешь, Николай Михайлович очень уважает тебя: когда он был у нас, рассказывал, что при дворе составилась целая «толстовская партия». Её возглавляет мать Черткова, Елизавета Ивановна, а она близка с вдовствующей императрицей Марией Фёдоровной. В личном разговоре Николай Михайлович прямо заявил мне, что они не дадут в обиду Толстого, великого писателя земли русской.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.