Текст книги "Булатный перстень"
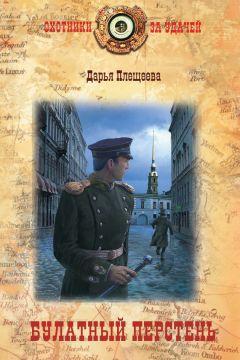
Автор книги: Дарья Плещеева
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 30 страниц)
Глава четырнадцатая
Побег
– Я люблю тебя, Мурашка, – сказала Мавруша, в который уж раз. – И всегда буду любить. Ты мне как сестра.
– И я тебя, Сташка, люблю.
– Так отчего ты молчишь? Отчего ты мне не расскажешь, что с тобой творится? Думаешь, я глупенькая, не пойму? Оттого только, что я еще никогда и ни с кем не целовалась? Ну, что я могу для тебя сделать?
Поликсена не ответила. Она не хотела вспоминать былое. Мавруша с неуемной жаждой дружеских излияний уже становилась навязчива, а Поликсене более всего хотелось бы оказаться в обществе женщины пожилой, этакой доброй бабушки, которая не допытывалась бы подробностей, а сказала попросту: вот здесь ты, голубушка, будешь жить, под моим теплым крылышком, тут будет тебе хорошо, и это уж навсегда.
Как большинство смольнянок, Поликсена не знала, что такое родной дом, не знала материнских забот, и хотя отменно разбиралась в древнегреческих колоннах и орнаментах, не умела жить среди людей. Ей требовалось сейчас одно – чувство безопасности, а его-то в доме Александры и не было. Поликсена понимала – ее приютили, как ту кошку, что живет на конюшне, взяли в дом ради Мавруши и христианского милосердия, но это милосердие не беспредельно. Сейчас Александра занята своими делами, но когда появится ребенок – она непременно отыщет московскую родню Поликсены. А возвращаться в Москву нельзя – лучше умереть.
Плохо все сложилось у смольнянки, очень плохо. Не приучи ее наставницы к возвышенному образу мыслей – она бы вцепилась в невенчанного супруга зубами и когтями, шум бы подняла на всю столицу, и плевать на его роковую любовь – коли постараться, то удалось бы его привести под венец. А вот не смогла – было в ней сильнейшее убеждение, что нельзя становиться на пути подлинной любви, а коли окажешься между двумя созданными друг для друга сердцами, непременно нужно отступить. Итог же таков – дитя под сердцем и порог монашеской кельи впереди. Поскольку лучше в келью, чем к родне.
Угловая комнатка, где жили Мавруша с Поликсеной, была довольно далеко от гостиной, но и сюда долетел шум. В жилище госпожи Денисовой творилось нечто невероятное, дворня носилась взад и вперед. Вдруг влетела горничная Танюшка:
– Барыня велела взять турецкий таз!
Этот огромный медный таз, со сложным узором насечкой по краю, прислал брат покойного мужа Александры с турецкой войны – он тогда всю родню оделил военной добычей. Она отдала таз в пользование Мавруше, и вот он понадобился.
– Что случилось? – спросила горничную Мавруша.
– Ах, сударыня, такое, такое! – Танюшка скрылась с тазом, а Мавруша сказала подруге:
– Ты будь тут, а я схожу погляжу. Сдается, гости. Но ведь она гостей не ждала…
Мавруша ушла и пропала.
Поликсене было нечем заняться. Она подсела к большим пяльцам, на которые была натянута недавно начатая Маврушей вышивка, но сделав несколько стежков и поняла, что портит работу. На этажерке стояли мольеровы комедии, вольтеровы трагедии, Расин, Корнель, Сумароков – Мавруша не представляла себе жизни без пьес: читая, она устраивала в голове настоящий спектакль с декорациями и костюмами. Однако желания читать у Поликсены не возникло. Она сама не знала, чего желает: со Сташкой, тягостно, без Сташки – уныло.
А шум не утихал – там, за дверью, творилось нечто любопытное, настолько, что Сташка ушла и пропала. Поликсена подумала – и вышла из своего заточения.
Все двери были отворены, раздавался голос Сашетты – звонкий и радостный. Поликсена впервые слышала, чтобы госпожа Денисова говорила так громко. Это был прямо-таки детский восторг!
Поликсена пошла на голос. Зачем – неведомо. Александра ей не очень-то нравилась – слишком деятельная, самоуверенная, слишком нарядная, бог весть что о себе вообразившая лишь потому, что малюет акварели с цветами. Поликсена совершенно не видела в ней возвышенных чувств – одно кокетство с кавалерами. И будущее Александры казалось ей самым заурядным – разумный брак с человеком того же круга, который может быть в семейной жизни добрым товарищем, не более, без самозабвенной страсти, и на что ей страсть, без жертвенной любви – да ей и не понять таких слов…
Казалось бы, не все ли равно, отчего хохочет эта женщина? А вот нет – какая-то пакостная сила влекла ее, глумливо подталкивая: иди, смотри, иди, смотри!
Сашетта не заметила, что Поликсена стоит в дверях. Сашетта была занята – веселясь, вытирала большим полотенцем голову стоящего перед ней человека, завернутого в простыню на древнеримский манер, а он держал ее в объятиях. Потом он поцеловал ее в губы, и она хотела этого поцелуя.
– Какое счастье, что мы встретились, – сказал мужчина, и тут Поликсена узнала его. Это был супруг! – Она отступила на шаг, по продолжала смотреть и слушать, только руку к губам поднесла – чтобы не вскрикнуть.
– Теперь ты не считаешь более, что между нами преграда? – спросила Александра.
– Преграда есть, несокрушимая, но не будем говорить сейчас о ней! Как-то все образуется… Не может быть, чтобы не образовалось…
И Поликсена все поняла. Это с Александрой говорил ночью супруг, это в нее он влюбился со всей силой души, и от осознания, что он, возвышенный и тонко чувствующий, предпочел даму простую, с мыслями обыкновенными, Поликсена впала в растерянность: ведь этого быть не могло, однако ж случилось!
– Вместе мы эту преграду одолеем, – сказала Александра, – какой бы она ни была. Ты доверься мне – и одолеем!
– Если бы только она… Мне кажется, что Господь дал нам только этот день. Я спешил к тебе, я должен был видеть тебя, но есть ужасные обстоятельства…
– Нет никаких обстоятельств!
Она сама поцеловала его. Поликсена сделала еще шаг назад. И еще.
Вот теперь надежды не осталось совершенно. Несокрушимая преграда, ужасные обстоятельства – вот, значит, чем кончилась его любовь…
Нужно было где-то спрятаться, собраться с мыслями.
Поликсена вошла в угловую комнатку. Подруги там не было. Где-то пропадала Мавруша, не чувствовала, насколько сейчас нужна. Пропала связь, – и более ничто не держит Поликсену в этом доме. Оставаться в нем – смерти подобно.
Она понимала одно – бежать, бежать прочь из дома, в котором он счастлив с другой! Бежать – не быстро переставлять ноги, высоко задирая коленки, а двигаться с самой большой скоростью, на какую способно отяжелевшее тело, даже невзирая на одышку, что в последние дни совсем некстати привязалась.
Хотя живот и не позволял Поликсене шнуроваться, но под платьем было все необходимое приличной женщине – и сорочка, и нижнее юбки, и карманы, что подвешивались к охватившему сорочку пояску. Уходя из дома на Второй Мещанской, Поликсена сунула туда и «хозяйственные деньги», выданные Нерецким на месяц. Живя у Александры, она их не трогала – ну вот и настал час.
Отойдя подальше, она остановилась, чтобы перевести дух. Нужно было срочно искать новое жилье и написать оттуда Мавруше, чтобы переправила вещи и приданое для дитяти. Но где, как? Сколько оно стоит? Откуда взять повитуху?
Все бы уладилось, если бы нелегкая не принесла Нерецкого именно в этот день и час! Незнание позволило бы Поликсене жить под опекой Александры, и с родами тоже все бы уладилось, но незнание кончилось. И возвращение было немыслимо.
Останавливаясь через каждую дюжину шагов, Поликсена уходила все дальше от счастливой соперницы. Вдруг ее осенило – она уж которую неделю не была в церкви! Нужно идти, просить прощения у Господа и у Богородицы, они сжалятся, выход из положения найдется! Плохо понимая, какая улица куда ведет, Поликсена направилась к Казанскому собору, но оказалась на невской набережной. Напротив была восточная оконечность Васильевского острова, которую называли «стрелкой», там Нева разделялась на два рукава. Поликсена видела крошечные дома вдоль Невы, а вдали, – Исаакиевский наплавной мост, по которому неторопливо двигались телеги и экипажи – совсем крошечные, как на панорамной гравюре.
Странные зигзаги делает рассудок, когда душа в смятении. Мысль о молитве потащила за собой мысль о Божьей воле: вот ведь зачем-то ведет Господь бывшую смольнянку не к Казанскому собору, а вдоль реки, в сторону моста… зачем?.. Что ей нужно на Васильевском, где она отродясь не бывала?..
Что-то все же было с ним связано, следовало только вспомнить. Поликсена остановилась, отошла в сторонку, уставилась на мост. Это было что-то недавнее, не связанное ни с годами учебы, ни с Москвой, ни с человеком, которому больше не нужны жена перед Богом и родной сын.
И вспомнилось! Где-то там на кладбище строят новую церковь, а у церкви божий человек порой бродит, как же его звать? Кухарка Авдотья сказывала – тех, кто приходит к нему, на ум наставляет. Звать его… да, именно так, Андрей Федорович!
Суеверия в Воспитательном обществе не поощрялись, сама государыня вышучивала их в своих комедиях, доводя до неимоверной нелепости. Среди девиц они бытовали – вроде как в шутку, для баловства. И странно было бы образованной смольнянке идти за истиной к божьему человеку, промышляющему по окрестным кладбищам, скорей всего – смущающему народ туманными предсказаниями. Смольнянке следовало бы в трудную минуту читать творения господина Руссо или в церковь идти к батюшке, да еще не ко всякому, а к образованному.
Но господин Руссо не мог предусмотреть таких заковыристых обстоятельств. А батюшка в любой церкви скажет одно – возвращайся, блудная дочь, к родне и замаливай грехи. К родне Поликсена не хотела – она словно бы ножом отрезала всю эту седьмую воду на киселе. Да и что ее ожидало, вздумай она вернуться? Отправили бы к кому-нибудь из шестиюродных теток в деревню, словно в сибирскую ссылку, – сиди там безвыездно, нянчи дитя.
Она не раз обещала Мавруше, что, родив, примет постриг, но это ведь тоже долгая история – в обитель могут сразу и не взять, соберут сведения, и в этом деле скорее всего тоже нужна протекция. Так, может, на кладбище божий человек укажет на инокиню, которая возьмет с собой? Как-то все уладит?
Извозчиков в столице осталось мало, и то, что прямо на набережной ее нагнали порожние дрожки, она сочла добрым знаком. Залезть, правда, было трудновато, но Поликсена справилась.
Впервые за все это время она ощутила радость – ехала неведомо куда, по колышущемуся «живому» мосту, не зная, что будет есть, где ночевать, а радость протиснулась в сердце, расправила там пушистые крылышки, и дитя угомонилось, словно бы задремало, беззвучно говоря: неси меня, матушка милая, не беспокоясь, туда, где нам обоим будет хорошо.
Поликсена отвечала дитяти: да, да, может, Господь будет милостив, и нам не придется разлучаться. Может, случится такое чудо…
Сойдя с дрожек у кладбищенских ворот, она пошла наугад, благо дорога была прямая. По правую руку строился новый храм, и Поликсене приходилось пропускать горластых мужиков с тачками и носилками. Дорога уводила в глубь кладбища, и там за кустами среди потемневших крестов мелькали головы в пестрых платках, повязанных узлом вперед, как это было модно у пожилых петербуржских мещанок.
Сейчас Поликсене торопиться было некуда, она огляделась, увидела у ближайшего креста лавочку, подошла, присела. Чудо не торопилось, где-то задерживалось. Поликсена смотрела на работников, что тащили к будущему храму бревна, и на детишек, которые, сбежав от скорбящих бабок, устроили беготню на небольшой площади перед храмом. Кладбище – а Поликсена впервые в жизни оказалась в таком месте – жило своей жизнью, и сейчас, когда не случилось ни одной похоронной процессии, эта жизнь была по-своему приятной: старушки приветствовали друг дружку, рассказывали новости; дети возились в кустах; нищие у ворот, перекликаясь, поддразнивали строителей; мелькнуло молодое лицо духовного звания в новеньком подряснике, строгое до невозможности.
Вдруг Поликсена услышала за спиной взволнованный шепот:
– Там он, там…
И другой женский голос воззвал:
– Митька, Митька, паршивец! О Господи, где ты так извозился-то? На вот копейку, снеси Андрею Федоровичу, от тебя примет.
– Коли на копейке – царь на коне, то примет…
Поликсена повернулась и увидела дивную картинку – молодая мать, тоже беременная, поплевав на ладони, приглаживала волосики малолетнему сыну. Сынок уже зажал в кулаке копейку и смотрел на кулак с понятным сожалением – чем на эти деньги пряничек дитяти купить, их кому-то чужому посылают.
Тут дитя во чреве Поликсены всколыхнулось, словно спросило, ведь и мы так будем, и мы?
Поликсена была далека от модной светской чувствительности, из-за чего смольнянки ею даже возмущались. Но тут сама ощутила, как лицо исказилось, как перед рыданиями. Слез в последнее время было пролито немало, – Поликсена и не подозревала раньше, что так плаксива.
Между тем чужое дитя было развернуто носом в нужную сторону и, получив легкий шлепок, понеслось по боковой дорожке. Поликсена, встав, пошла следом. То, что ей указывает путь босоногое дитя, тоже было хорошим знаком.
Андрей Федорович стоял перед крестом и молча молился. Длинные седые волосы были кое-как собраны в косицу, которая лежала на выцветшем, когда-то зеленом, сукне старинного, «с юбкой», кафтана. Роста он был невысокого. В руке божий человек держал древнюю черную треуголку, уже похожую на тряпицу. Худые ноги – голые, без чулок, – были обуты в неимоверно огромные башмаки, обвязанные веревочками, чтобы не отлетела подошва.
Со всех сторон к нему торопились женщины, но шли как-то осторожно, боязливо. Поликсена поняла – у каждой есть какая-то просьба, вслух высказывать нельзя, нужно лишь надеяться, что этот странный молитвенник поймет без слов.
Митька совсем не знал этикета – попросту дернул Андрея Федоровича за рукав. Тот повернулся, ребенок протянул копейку. Андрей Федорович копейку взял, оглядел и молча покивал.
– К добру, к добру… – зашептали женщины.
Обнаружив себя окруженным василеостровскими мещанками, Андрей Федорович пошел прочь, не разбирая дороги, по той узкой тропке, что разделяет два захоронения. Нельзя было его отпускать, и Поликсена поспешила следом, споткнулась, упала на колено.
Божий человек обернулся.
Его худое лицо показалось Поликсене странным – она лишь потом поняла, что ее смутило: такие люди обыкновенно не бреются, Андрей же Федорович не имел бороды.
– Ну что тут бродишь? – спросил он. – Тебя муж заждался. Ступай, ступай… в дом высокий под парусом… Отведите ее… – И пошел себе дальше.
Голос был хрипловатый, тонкий, в загадочном соответствии с лицом. Женщины, слышавшие эти слова, подошли к Поликсене, помогли подняться:
– Куда тебя, сударыня, отвести? Где ты живешь, кто такова, за кем замужем?
Поликсена не знала, что отвечать. Объяснять здесь, на кладбище, что жила с супругом невенчанной, что он любит другую, она не могла. Оставалось только молчать.
Но коли муж заждался – стало быть, Нерецкий сделал выбор? Предпочел ту, что носит его дитя? Это был недопустимый выбор. Что бы ни говорил Андрей Федорович, Поликсена не могла вернуться в дом Александры, да и на Вторую Мещанскую – тоже.
– Да она не в себе! – догадалась какая-то из женщин. – Ее утешить нужно, уложить!
– Покормить, может?
– Отведем к Настасье, она убогих богомолок привечает! Агаша, ты где запропала?
– И ведь дом у нее высокий, в два жилья! К ней, стало быть, велено?
– Что ж за парус-то? Какой такой дом под парусом?
– И хлебца даст! Митька, паршивец! Отстанешь – уши надеру!
– Отведем! Пойдем с нами, сударыня, пойдем! Нехорошо брюхатой по кладбищу бродить, нехорошо…
Поликсена позволила взять себя под руки, позволила вывести с кладбища. Они все пыталась понять – что хотел сказать Андрей Федорович. Неужто ей судьба повенчаться с Нерецким? Все бы за это отдала – кабы супруг любил ее хоть так, как тогда, в Москве… А получится ли у него – бог весть…
Вдруг у нее стали подкашиваться ноги и закружилась голова.
Наказ божьего человека четыре мещанки выполнили старательно и доставили Поликсену во двор двухэтажного дома, уже одно это говорило, что хозяин не бедствует, окрестные домишки были сплошь одноэтажные. Этот же имел еще славную примету – флюгер на крыше, что означало – здешний хозяин связан с портом, и ему важно знать направление ветра. Флюгер был в виде кораблика под парусами. Увидев флюгер, мещанки закричали и заахали – именно этот дом имел в виду Андрей Федорович. И сами себя похвалили за понятливость.
Постучав в окно, они стали звать Настасью, но появился мужчина, судя по всему – хозяин дома, статный и круглолицый, в ночном колпаке, из-под которого торчали вороные седеющие космы, а на вид – лет сорока.
– В саду она, чай пить изволит, – не слишком дружелюбно сказал он.
Мещанки не столько повели, сколько потащили Поликсену вокруг дома, в сад.
Название для клочка земли с одной яблоней и полудюжиной кустов, смородинных и крыжовенных, было чересчур громкое. Годился этот сад для того лишь, чтобы врыть там в землю стол с двумя лавками и по летнему времени обедать и ужинать на свежем воздухе.
На этом столе стоял сияющий медный сбитенник, чуть ли не ведерный, были расставлены миски и мисочки с угощением, кружки и сливочник, на лавках же сидели три особы в благопристойных темных платьях и платках, четвертая – в монашеском одеянии. Надо полагать, и застольная беседа была весьма благочестивой.
Мещанки, что привели Поликсену, обратились к хозяйке застолья и наперебой попросили ее покровительства для женщины, которой сам Андрей Федорович доброе слово молвил и про дом под парусом – особо изрек.
Но Настасья, худая и горбоносая женщина лет сорока, была не в духе. Даже концы платка, повязанного на голове узлом вперед, торчали сердито, словно бодливые рожки.
Встав, она оглядела Поликсену с ног до головы и заговорила сварливо:
– Да с ума вы, что ль, сбрели, ко мне девку на сносях тащить? Да она ж у меня разродится! Что я с ней делать буду? С дитем нянчиться? Вот еще выдумали – парус, парус! Ведите прочь сейчас же! И ваш Андрей Федорович мне не указ!
– Идите, идите, милые, – поддержала толстуха-гостья, раскрасневшаяся от горячего чая. – Тут не богадельня. Дом-то у нее есть?
Монахиня, коловшая посеребренными щипчиками желтоватый сахар, хотела было вступиться, да воздержалась.
– Ты, Настасья Григорьевна, Бога побойся! – сказала самая бойкая из мещанок, Митькина мать. – Видишь, девка молодая, до смерти напугана! Чаю кружку хоть не пожалей, напои ее.
И тут случилось неожиданное – у Поликсены пошла носом кровь.
Во время беременности с ней такое случалось дважды, и беда стряслась совершенно не вовремя.
– Это еще что такое? – закричала Настасья. – Видеть кровищу не могу! Да уведите вы ее, христа ради! Пусть у кого другого полотенца пачкает!
– Грех тебе, Настасья, – укорила бойкая мещанка. – Ее к тебе Андрей Федорович послал, а ты?
– Да она ж рожать собралась! – догадалась толстуха. – Со мной так же было!
– Рожать – этого недоставало! Да что же, метлой вас из сада гнать? Сидели, беседовали душеспасительно, а тут вы с какой-то девкой брюхатой… Сил моих нет!.. К себе забирайте!
– Да не доведем же!…
– А мое какое дело?!
На крыльце, что выходило в сад, появился хозяин дома. Был он в расстегнутом зеленом камзоле поверх грязной рубахи с закатанными рукавами, в штанах чуть за колено и турецких парчовых остроносых туфлях на босу ногу. Толстухины слова он услышал, и выводы сделал быстро.
– Так, – молвил он угрюмо. – Лопнуло мое терпение.
Подойдя к столу, он сгреб край скатерти в горсть, дернул – и все полетело на траву, толстуха еле увернулась от горячего сбитенника.
– Да ты очумел! – крикнула Настасья.
– Очумел, коли с тобой столько лет живу и до сих пор не выгнал, – отвечал он. – Собирай свое тряпье и выметайся к чертовой матери!
– Ты кого, ты меня гонишь?
– Тебя.
– Жену свою?
– Пошла вон, пока я тебя через забор не перекинул. К нам дитя в дом, а ты гонишь? Додумалась! Пошла, пошла, долго я твои затеи терпел… И вы убирайтесь, гостюшки дорогие.
Мещанки, что привели Поликсену, глядели на здоровенного хозяина с восторгом.
Первой опомнилась монахиня. Она выбежала из сада так, словно за ней собаки гнались. Толстуха и третья гостья, по виду – немолодая купеческая вдова, поспешили следом, не оборачиваясь.
– Ведите ее, – распорядился мужчина, – да осторожнее. Вот тут ступенечка чуть качается… за мной ступайте…
Он привел Поликсену и женщин в неприбранную спальню, сдернул с кровати несвежую простыню и вдруг оторвал от нее еще чистый край.
– Вот, утрите личико. Ты, сударыня, не бойся… Надо же – дитятко обидеть… Погоди, я сейчас… – Он быстро вышел, бойкая мещанка выскочила следом, а две ее подруги усадили Поликсену на кровать.
– Каково тебе? – спросили ее. – Промеж ног схватывает? Вот тут тянет, тут – давит? Спинка болит?
– Да… – прошептала Поликсена.
– Рожает… Ахти мне, рожает!
– А что Андрей Федорович сказал? Божий, божий человек!
– Он про мужа сказал!
– Ну, и муж появится во благовременье. Чай, ищет ее уже у всех соседок! Ну-ка, рассупоним ее, платье снимем… Потерпи, красавица… Это первый у тебя?..
– Ой, ой, матушки мои, что творит! – закричала, вернувшись, бойкая мещанка. – Сундук в окно вытолкнул! Сундук-то развалился! Платьица, туфельки в окошко летят! И шубка, и платочки!
– Ему обратно ее придется принять, жена все-таки. Ну-ка, Феклушка, беги живо за Карповной, скажи – первородка.
Поликсена, освобожденная от платья и уложенная, прислушивалась к себе. Боль была – но покамест еще терпимая. Вдруг вошел хозяин дома. Его пытались удержать в шесть рук, толковали о родах, до него насилу дошло, что мужчине этого видеть не положено.
– Так ведь замечательно! – сказал он. – Детки – это радость! Хоть чужое дитя в моем доме родится – и то счастье. А я его потом хоть нарисую.
Он выглянул в окно.
– Ну, слава те господи, узлы увязала и прочь плетется. Как гора с плеч. Ей-богу, долго терпел. Пусть живет, как знает, лишь бы от меня подальше.
– Иди, сударь, иди прочь! Нельзя тебе смотреть!
– Радость в дом, – сказал хозяин. – Жаль, ненадолго…
– Как знать, – загадочно произнесла бойкая мещанка. – Коли сам Андрей Федорович брюхатую девку в твой дом послал – неспроста это.
– Андрей Федорович? Та несчастная, что в мужском обличье по улицам бродит и под крышей не ночует? – спросил хозяин дома.
– Он самый.
– Она.
– Он. Коли так велит себя звать – стало быть, так и нужно. Он божий человек, ему виднее… да что ты, сударик, в дверях встал? Ступай, ступай, тут сейчас начнется! Да где ж Карповна? Ох, Митьку уведи! Вишь, паршивец, в угол забрался и глядит!
Хозяин дома взял мальчишку за руку и повел его с собой.
– Идем, идем, – говорил он. – Ты крокодила когда-либо видел?
– Нет.
– Я тебе крокодила покажу. И рыбу акулу на картинке. И глобус покажу, – обещал хозяин дома, – и астролябию! И разных рыб тебе нарисую, и кораблики – шхуны, фрегаты, бриги, и различать их научу…
– А пряника дашь? – спросил практически мыслящий Митька.
– И пряника дам. В саду по травке их много разлетелось, пойдем, соберем. Там и пастила лежит, ты какую любишь – яблочную, малиновую?
– А как тебя, дяденька, звать? – соблазненный пастилой Митька вспомнил о светском обхождении.
– Владимиром Данилычем меня звать. Ну, пошли в сад за пряниками. Сколько там есть – все твои.
Пока Митька ползал по траве, хозяин дома уселся на скамейку и задумался. Он столько лет прожил с бесплодной женой, что препятствий к разводу быть не должно – развод отнимет немало времени и денег, но состоится. Если пойти к отцу Амвросию, который лет пятнадцать, поди, прослужил судовым священником и флотских привечает, то будут разумные советы, как это дело уладить с наименьшими потерями. А потом – свобода и новая жизнь. Можно выписать наконец младшую сестру с детишками, поселить ее наверху, дом оживет – зазвенят смешные голосишки…
– Детки, – усмехаясь, сказал Новиков. И, словно в ответ, из спальни донесся крик.
– Что это, дяденька? – спросил Митька.
– Та девица, что вы привели, кричит – брюшко у нее болит.
– А я знаю! Она рожает! Мамка так же голосила, когда Феньку рожала!
– Экий ты грамотный…
Следующий крик заставил Новикова вскочить. Он и сам не знал, что так отзывчив на чужую боль.
– Эй, хозяин! – позвали его из-за угла. Он вышел и увидел бойкую мещанку и дородную тетку в тех годах, когда накоплены и сила, и разум, а до старости еще далеко. Эту тетку он знал – она так разругалась с Настасьей, что на их крики сам частный пристав прибежал.
– Иди в дом, Карповна, – сказал он, – заступай на вахту.
– А твоя дура где же?
– Нет ее. Ты вот что – ты там побудь, пока я не вернусь. Я заплачу. Дождись меня, ради бога. Я, может, к полуночи буду, а может, вовсе к рассвету. Что надобно – полотенца там, ну, я не знаю, – все бери. Ох, черт, я ж тряпье в окошко покидал…
– А твоя?
– Не придет, говорю. Делай, что надобно.
– Верно Андрей Федорович сказал! Сюда-то и следовало вести! – вмешалась мещанка. – Идем, матушка, идем. Там, поди, и котла с водой еще греть не поставили!
Поликсена опять закричала. Новиков кинулся к калитке и вдруг остановился – если бы он в таком виде побежал по улицам, непременно следом погнались бы десятские, связали и сдали в бешеный дом. Он поспешил обратно – хоть чулки натянуть и туфли обуть. Старые туфли стояли в кабинете, а вот чулки лежали в комоде, который был в спальне, а там женщины хлопотали над роженицей.
Моряк всегда найдет выход из положения. Новиков вошел в кабинет и достал из тайничка деньги. Потом он, взяв в сенях ту епанчу, которой укрывался частенько при ночной рыбалке, закутался и отправился в ближайшую лавку.
Там уже знали, как он вышвырнул из дому супругу.
– Твоя-то кричала – молодую девку завел, она к тебе с брюхом притащилась, – сказал приказчик, выдавая простые нитяные чулки и рубаху.
– Дура она. Дай-ка я тут у тебя и оденусь. Жаль, кафтана на мои телеса у тебя не найдется.
– Кафтана точно нет, а могу дать балахон, он чистый, потом вернешь.
– Белый, поди? – Новиков вовремя вспомнил, что предстоит ночная беготня. – Может, бурый есть? А лучше бы черный.
Вдруг приказчик расхохотался.
– На грех ты меня, сударик, навел! Ох, на грех!
– А что такое?
– Да у хозяина нашего какой-то женин дядька скончался, был дьяконом, оставил сундук с рухлядью. А там – подрясники старые, как раз твоей милости впору. Хозяйка хотела на тряпки пустить…
– Тащи сюда!
– Так подрясник надеть – благословение, чай, нужно?
– Один раз можно и без благословения.
Так и вышло, что в дом к Колокольцевым Новиков прибыл в почти маскарадном наряде. Считая себя великаном, он все дивился тому, что покойный был даже его выше, и только что не наступая на обтрепавшиеся полы.
– Собирайся, – сказал он Михайлову. – Лодочника я нанял, лодчонка ходкая. Сам он – на руле, гребцами – парнишки, его племянники.
– Ты кого это обобрал? – изумленно спросил Михайлов, глядя на величественную фигуру в подряснике.
– Ох, у меня сегодня такой денек… потом расскажу…
Новиков посмотрел на циферблат напольных часов.
– Она, может статься, уже и отмучалась…
– Кто?
Разумеется, первым делом Михайлов подумал о Настасье.
– Девица. Может, уже сыночка родила… Да что ты на меня вытаращился?! Идем! Как ты – тростью пользоваться выучился?
– С грехом пополам. Вытащи меня отсюда, трость-то стучит, как бы мое «ни то ни се» вдогонку не кинулось.
Но оказалось, что без Родьки не обойтись. Михайлова привезли в дом разутым, в обуви пока нужды не было. А отправляться на прогулку босиком, с бинтами на одной ноге, он не мог.
Родька, безумно довольный, что может помочь в загадочном деле, приволок откуда-то старые валяные сапоги с обрезанными голенищами. Это для Михайлова была сейчас самая подходящая обувка. Опираясь о мощное новиковское плечо, он без лишнего шума выбрался в сени. Там караулил Кир Федорович. За десять копеек он согласился молчать и даже перекрестил Михайлова с Новиковым.
– Скорее, скорее, – торопил Михайлов. Родька должен был идти за ними следом, да застрял, и появилась надежда, что удастся от него сбежать.
Но отчаянный гардемарин в чине «за мичмана» ухитрился выскочить из дома раньше старших по званию, да еще и стоял посреди улицы с пистолетом в руке. Откуда взялся пистолет – признаваться не желал, а только просил, чтобы ему как следует надели на плечи епанчу.
– Ладно, будь по-твоему, – сказал Михайлов. – Новиков, не спорь. Нам нужен человек, который будет стеречь на Адмиралтейской. Я буду в лодке, ты с Усовым – на Мещанской, а на Адмиралтейской кто Майкова при нужде перехватит?
– Я должен буду задержать его? – взволнованно спросил Родька. – Могу ли я в него стрелять?
– В самом крайнем случае, – позволил Михайлов, уверенный, что сумеет прежде побеседовать с Майковым и обойдется без стрельбы.
Новиков с некоторым трудом спустил Михайлова с Родькой в лодку. Довольно скоро добрались до условленного места, деревянного спуска к воде, и Новиков, взяв с собой парнишку-гребца, пошел на поиски Усова.
Ефимка Усов устал неимоверно, однако усталость была ему в радость – он знал, что занят важным делом, но пребывал в странном состоянии – уже на грани сна и яви. Хорошо, что Новиков знал, где его искать. Оставив наблюдать парнишку, Новиков повел Ефимку к лодке, и там Усов на радостях, что встретился с крестным, несколько очухался.
Он доложил, что люди, поставленные Майковым, исправно сменяют друг дружку, но тот, за кем они охотятся, еще не появлялся.
– А что, братцы? Коли мы все тут – не посмотреть ли, что хранится в квартире господина Нерецкого? – предложил Михайлов. Нас трое, вот еще дядя Ефрем четвертый…
Ефремом звали пожилого лодочника, крепкого мужика, ростом лишь чуть пониже Новикова. Он остался с Михайловым в лодке, а Новиков с Усовым стояли у сырого деревянного барьера набережной.
– Через мой труп, – сказал Новиков. – Мало ли что – а ты еле ковыляешь.
– У меня трость!
– Много от нее будет толку, коли ты грохнешься и последнюю целую ногу поломаешь!
– Чертов топорик!
– В ножки поклонись Стеллинскому, что первый догадался тебе ногу разрезать, да немцу, что язву вычистил, да Киру Федоровичу! Вообще мог без ноги остаться! – прикрикнул на товарища Новиков. – И пришлось бы тебе спешно венчаться на какой-нибудь шустрой вдовушке, чтобы ходила за тобой, одноногим! Вроде моей Настасьи, – продолжал простодушный друг. – Может, и на личико-то ничего, моя тоже смолоду была смазлива, а в душе – преисподняя!
Нужно было как-то своротить Новикова с этой неприятной темы.
– А что, крестничек, ты женат? – обратился Михайлов.
– Не до женитьбы, крестненький. Когда в голове булат, по сторонам на девок не глядишь.
– А то присмотрел бы себе кого тут, в столице, – посоветовал Новиков.
– Это плохой совет, – вмешался Михайлов. – То есть жить тут – можно, покровителя искать – можно, а жениться – не вздумай! Это я тебе как крестный запрещаю. На кой тебе столичная девка? Они не жены, а так… побаловаться…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































