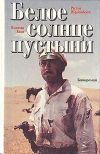Текст книги "Белое братство"

Автор книги: Элеонора Пахомова
Жанр: Книги о Путешествиях, Приключения
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
– Нажрался, сука, – процедил Стрельников, узнав одного из своих ребят, и побежал к нему.
– Наверное, это эйфория, вызванная горной болезнью, – услышал Погодин слабый голос Роднянского, донесшийся из-за левого плеча.
Глава 10
Вадим Сигизмундович с вечера лежал горячий, как паяльник и, похоже, бредил. «Это не я, не я…» – почти неразборчиво бормотал он в тяжелым забытьи и мотал головой, на которой белела влажная прохладная салфетка. «Конечно, не ты… Не ты», – шептала ему Света, одной рукой поглаживая его по впалой горячей щеке, а другой строча сообщения по всевозможным каналам связи с представителями СМИ. Она и сама чуть было не свалилась с недугом, обессилев от пережитых эмоций, но чувство долга превозмогло в ней слабость плоти. Выпив успокоительное, выкурив пару сигарет, Света мобилизовалась, взяла себя в руки. Упускать такой момент было нельзя.
Вчера, лежа на кушетке в салоне красоты, где давно и хорошо знакомая ей мастерица проводила привычную процедуру восковой эпиляции, Света чуть сознания не лишилась, когда на радио вдруг приостановилась трансляция веселых песен и сдержанный голос сообщил: «Срочная новость: потерпел крушение пассажирский самолет российской авиакомпании…, рейс…, Амстердам – Нижний Новгород. На борту авиалайнера находилось двести сорок пассажиров, преимущественно граждане Российской Федерации. Детали трагедии уточняются».
Как раз в это время Света все еще прокручивала в уме неудачный «выход» Успенского перед журналистами и посыпала пеплом амбициозные планы по масштабной пиар-кампании «пророка», запущенной так гладко. Мастерица ловкими движениями срывала полосы воска с ее ног и, пусть не сильная, но резкая боль, резонируя с грустными мыслями, становилась острее, раздражала. И вдруг эта новость! На мгновенье Свете показалось, что ее оглушили тяжелым предметом, – уши заложило, взор помутился. «Что? Что?» – вытянула она шею, поднимаясь и пытаясь приблизить лицо к мастерице, чтобы прочесть ответ по губам. «Что там сказали, по радио? Авиакатастрофа?» Мастерица растерялась от такой реакции, потом заволновалась: «Да… У тебя что, кто-то был на этом рейсе? Ох, Господи…» Она прикрыла ладонью рот, а Света уже соскочила с лежанки, натягивая юбку. Так она и выбежала из салона, не закончив процедуру. Метнулась было к машине, но поняла, что за руль в настолько взволнованном состоянии не сядет. Вышагивая по району на высоких каблуках около получаса, она ждала, когда эмоции растворятся в усталости, и лишь после этого завела двигатель, чтобы доехать до Успенского и передать ему весть.
Вадим Сигизмундович, как и следовало думать, сообразительностью блеснул не сразу. Вытаращил на Свету свои темные глазищи, заблеял про людей, погибших на борту. В общем, смазал весь эффект нечаянной радости, на который Света рассчитывала, чтобы разделить с ним то чувство, которое не помещалось лишь в ее груди. Пришлось ему втолковывать что к чему, объяснять, потряхивая за плечи, из-за чего первозданная радость, конечно, несколько пожухла, скукожилась, как сушеный чернослив. «Вадик, да я не про людей тебе говорю. Не в них же дело. Что ты завелся – «люди, люди»? Родственники они тебе, что ли? Ты пойми, сбылось твое пророчество! Сбы-лось! Ты вчера сказал, что сегодня самолет упадет, он взял – бумс! – и рухнул. Ты сказал – он упал. Понимаешь? Ты-ска-зал-он-упал! Доходит?» «Я сказал – он упал… Я сказал – он упал! Я сказал, а он – бумс…”, – начал повторять он на разные лады. «Именно, Вадик! Именно так. Получается, что ты у нас пророк настоящий, а не деланный!»
Успенский отстранил от себя Свету (которая всем своим немалым весом ерзала на его худых ногах) поднялся. Сначала он пересек комнату размашистым шагом по диагонали, потом прошествовал мимо окон, затем снова по диагонали в другой угол. Когда, по Светиным подсчетам, он исходил по квартире примерно метров двести, от ее радости осталась лишь косточка. В атмосфере угадывалось нечто тревожное. «Чего ты мечешься, Вадим? Что не так?», – раздраженно выкрикнула она в сторону коридора, из которого доносились отзвуки шаркающих шагов и невнятное бормотание. Успенский появился на пороге комнаты с воспаленным взглядом. «Устал я что-то, полежу немного», – сказал он и тут же увалился на диван, на котором до ее прихода дремал перед включенным телевизором, натянул до ушей плюшевый плед. Света дотронулась до его лица и поняла, что он весь горит. Жаропонижающее не действовало, но она решила дождаться утра, прежде чем обращаться к врачам.
Утром, к ее удивлению, Вадим Сигизмундович был уже в норме, температура спала, правда, лицо его казалось бледнее обычного. А еще с самого пробуждения он был совсем уж тих. Успенский и так не отличался разбитным характером, но в это утро Свете не удавалось вытянуть из него и двух связных слов, – он хмурился, тем самым выдавая напряженную мыслительную деятельность, и молчал. Проснувшись, он умылся, взял свой ноутбук и ушел в другую комнату, прикрыв за собой дверь. Света заглянула к нему осторожно, увидела, что он сидит за столом сосредоточенно глядя на монитор, и решила оставить его на время в покое. «Наверное, изучает информацию о крушении самолета, – догадалась она. – Ну Бог с ним, пусть изучает, это даже полезно. Мне в ближайшие часы он не нужен».
Она и в самом деле пока отлично справлялась без него. Запросы на комментарии о случившемся сыпались на ее телефон со вчерашнего вечера в виде звонков, смс, сообщений в мессенджере и по электронной почте. Они продолжали поступать и сейчас, когда Света нетерпеливо переминалась возле кофемашины, ожидая утреннюю порцию кофеина. Телефон на кухонном столе голосил на разные лады и суетливо подпрыгивал. И каждый сигнал, каждая мелодия отзывались в ней радостным возбуждением, которое хоть и было похоже на состояние абсолютно нечаянного счастья, но очень мешало собраться с мыслями. К работе хотелось приступить немедленно, так хотелось, что даже дрожали руки, и Света от греха спрятала ладони под мышки, обхватив себя под грудью, а для верности плотней прижала их предплечьями. По опыту она знала – сейчас нельзя поддаваться эйфории, чтобы не нарубить дров. Стратегически важные решения надо принимать на холодную голову. Сначала кофе, сигарета, потом все обдумать.
Журналисты подождут, это пойдет делу только на пользу. Ее временное молчание нагнетет ажиотаж, сделает Успенского в их глазах еще более желанным спикером. Вчера вечером она уже дала слабину от радости, хорошо хоть ничего конкретного никому пообещать не успела. Совпадение случайного пророчества и реальных событий взбудоражило не только всю «желтую прессу», но даже заинтересовало пару главных федеральных телеканалов. «Вот что значит попасть в струю», – шалея от удовольствия думала Света, и руки ее не слушались, когда она торопливо набирала ответные сообщения. Состояние Вадима Сигизмундовича, который полночи неспокойно елозил головой по подушке, то и дело скидывая охлаждающий компресс и шепча себе оправдания, конечно, вызывало опасения. Поглядывая на него в перерывах между перепиской, Света прикидывала, когда он придет в себя, и мысленно молилась, чтобы это случилось как можно скорее. К счастью, кто-то там на небе услышал ее мольбы.
Журналистам же вчера она отвечала, что пока Вадим Успенский недоступен для комментариев, тем самым убивая сразу несколько зайцев: во-первых, набивала «пророку» цену; во-вторых, выигрывала время (не только для того, чтобы привести Успенского в чувства, но, прежде всего, чтобы спокойно обдумать дальнейший план действий, определиться со стратегией, тактикой, а главное – с тем, какие заявления делать); в-третьих, она хотела дождаться запросов от самых топовых СМИ, чтобы поставить их первыми в очереди на эксклюзивную информацию.
«Надо же, я был уверен, что твой Успенский ряженый, а оказывается он у тебя и правда что-то может», – читала она сообщения от тех, кто еще недавно наотрез отказывался публиковать новости про ее Вадика, несмотря на то, что Света из кожи вон лезла, чтобы задобрить их и водить дружбу по всем правилам. Особенно ей льстили обороты «он у тебя». «Да, он у меня. То есть он мой», – с удовольствием думала она, красочно представляя под прицелом теле– и фотокамер на различных пафосных мероприятиях не только Успенского, но и себя. Она будет держать его под руку на правах законной супруги, красуясь на фоне пресс-волов в дорогих вечерних платьях, которые ей без сомнения будут предоставлять самые статусные модные бутики, чтобы новоявленная светская львица сделал им рекламу своим появлением. «Так все и будет. Обязательно», – в полумраке комнаты снова пестовала она свою очень давнюю мечту, зародившуюся еще под облезлым потолком ее отчего дома.
Раньше в этой мечте образ спутника был несколько расплывчат. Довольно четко она представляла себе лишь его дорогой костюм и часы, а на месте лица в ее фантазиях плавало белое облачко, за которым было не разглядеть черты. И вот наконец настал момент, когда дымка рассеялась и картинка прояснилась: вместо белого пятна вырисовалось лицо Успенского, не молодое и не то чтобы красивое, но уж какое Бог послал, и на том спасибо. Чего уж теперь? Последние пару лет она всерьез начала волноваться, что молочный туман не только не явит ей лицо успешного супруга, но и вовсе затянет годами вожделенную картинку. Главное, что костюм, часы и антураж остались на том же месте и заменять их декорациями беднее и печальней не придется, а лицо Успенского со временем можно будет и омолодить различными ухищрениями эстетической медицины. С такими приятно волнующими мыслями она и заснула, переместившись на двуспальную кровать, а Вадика на всякий случай накрыла поверх пледа еще и одеялом, оставив на диване.
Наконец кофемашина, бодро фыркнув, брызнула в чашку последними каплями порции двойного эспрессо. В том месте куда попала прерывистая струйка, собралась кремовая пена; наполнивший кухню аромат, казалось, преобразил ее. Света аккуратно взяла чашку, предвкушая отличный день, и медленно донесла ее до стола. Закурила, сделала обжигающий глоток, прикрыла глаза от удовольствия. «Ну что, понеслась?», – подумала она, подняла крышку нетбука, нажав на кнопку пуска. Телефон взяла с особым трепетом, быстрым движением провела пальцем по экрану, прокрутив список входящих. Среди прочих вызовов обнаружились два пропущенных от секретарши магического салона. Света перезвонила.
– Светочка, привет, – раздался из динамика звонкий девичий голос. – Хочу напомнить, что у Вадима Сигизмундовича на сегодня четыре записи. Первый клиент в двенадцать.
Света мысленно выругалась. Со всей этой радостной кутерьмой она совсем забыла, что сегодня приемный день. Очень некстати. Но переносить приемы сразу после вынужденного двухнедельного отпуска было бы наглостью. Тем более что клиенты их и кормят.
– Спасибо, дорогая. – ответила она в тон секретарше таким же фальшивым звоном. – Вадик будет ко времени, не волнуйся.
– Светочка… – секретарша отчего-то понизила голос, и он зазвучал загадочно и вкрадчиво. – Тут у нас такой ажиотаж! Вадима Сигизмундовича с самого утра караулят на крыльце журналисты. Там две камеры и еще человек пять ошиваются. Наш главный места себе от радости не находит, уже заговаривает им зубы, типа интервью дает. Хочет твоему таксу за прием в два раза повысить. И клиентура косяком пошла, звонят и звонят, записываются к нему.
– Тааак… – процедила Света, забарабанив пальцами по столешнице. – Аллочка, послушай меня. Важно, чтобы сегодня ни один журналист к Вадику не приблизился. Он зайдет через черный ход. Я надеюсь, сегодня клиенты только те, что записались заранее, не накануне?
– Да, конечно! Эти еще неделю назад записывались.
– Хорошо. Сама сегодня приеду, так что увидимся.
Света уже собиралась сбросить звонок. Но голос секретарши снова зашелестел в динамике.
– Слушай, а он правда того? Ну, прозрел.
– Правда, Аллочка, того. Позже посекретничаем, собираться надо.
«Понеслась так понеслась, – подумала Света, отложив телефон. – Главный обрадовался! Конечно он обрадовался, упырь, хочет присосаться к нашей славе. Кто бы, кроме теток, про его салон еще вспоминал. Нет, отпускать Вадика одного сегодня определенно нельзя, атакуют со всех сторон, а он, рохля, даже отбиться не попытается. А если главный его за шкирку к журналистам выведет, пока я тут стратегию буду продумывать? Опять все мои старания накроются медным тазом.
Света с тоской оглядела приготовления к работе, которая сегодня обещала быть особенно плодотворной (чашку с ароматным, горячим еще кофе, привычно стоящий на столе нетбук, любимые печеньки в вазочке в центре стола), вздохнула и решительно встала.
В комнату Успенского постучала деликатно, будто дверь костяшками пальцев погладила. Заглянула. Сидит, в монитор смотрит. Рабочий стол Вадима Сигизмундовича стоял ребром к окну, так что приглушенный хмурым небом утренний свет только подчеркивал его нездоровую бледность, делая похожим на восковую куклу.
– Вадик, собираться пора. Вставай. Света мягко, по-кошачьи, дошла до стола. Кокетливо присела на край, выставив вперед дородную белокожую ногу, ту самую, которую вчера успела проэпилировать полностью. Шорты шелковой пижамы игриво задрались, присборившись складками в области бедер.
– Куда? – вяло поинтересовался Успенский, продолжая смотреть в монитор.
– Как куда? На работу. У тебя клиенты сегодня.
Вадим Сигизмундович молча помотал головой, как это сделал бы ребенок, перед лицом которого кружит юркая, коварная ложка манной каши.
– Это что значит? – осведомилась Света настороженно.
Она протянула руку к его лицу, дотронулась до лба, замерла на пару мгновений. Температура, кажется, нормальная. Рука скользнула вверх, зарылась в редеющую шевелюру и взлохматила мягкие волоски с заметной сединой. С высоты стола ей хорошо была видна наметившаяся у избранника плешь. Но Света все равно улыбнулась ему жизнеутверждающе. Он же поднял на нее глаза, под которыми пролегли нездоровые тени, посмотрел будто сквозь – и снова уставился в монитор.
– И долго ты собираешься так сидеть? – весело спросила она, решив перевести ситуацию в шутку.
– Не знаю, – честно ответил Вадим Сигизмундович.
– Вадик, вставай! Ждать ведь тебя люди будут. Тебе их не жалко?
– А чего они, Света, будут жать? Когда я приду и облапошу их? Оберу до нитки? А тебе, тебе их не жалко?
– Та-ак. Вот, значит, как мы заговорили? Жалостливый, значит, стал? То есть два года тебе их не было жалко, а теперь вдруг стало? Ну, чего молчишь? Припомнил от какой жизни тебя на эти подвиги потянуло?
– Легко тебе, Света, рассуждать, ты людей в упор не видишь. А если и смотришь на них, то куда-то мимо: на часы, телефоны, обувь, загар. А я их каждый день вижу, людей. И у тех, кто ко мне приходит, кроме как в глаза и посмотреть-то больше не на что. Потому как то, что помимо глаз, еще хуже. Точнее, жалостливее. Что у них, кроме глаз? Одежонка потрепанная, стоптанные ботинки? Сядут передо мной, руки трясутся, теребят какие-нибудь бумажки или фотографию покойника поглаживают. А сами взгляд мой ловят, да так ловят, что не отвертишься. Я ведь у них последние деньги забираю, а помощи от меня никакой. А они верят мне. Недавно тетка приезжала, я даже не запомнил из какого города, чудно́е название, далекое. Взмыленная вся, замученная. Волосы короткие торчат во все стороны, лицо морщинистое, обветренное, будто и не женское вовсе. А глаза женские, живые, измученные, слезятся. И мальчишка с ней, худой, забитый, тоже вытаращился на меня и затих в углу. У нее дочка в Москву на заработки поехала и четвертый месяц уже на связь не выходила, а мальчишка этот – дочкин сын. Вот она кредит и взяла, чтобы ко мне, мудаку, приехать, про дочку узнать. Двое суток в поезде, ночь на вокзале, двадцать пять тысяч в кассу. Они, похоже, масло сливочное на хлеб только по праздникам намазывают, а тут кредит взяли, чтобы ко мне приехать и послушать тот бред, который я на ходу сочиняю. Ну я и сочинил. Сочинил, что дочка живая и вернется с большими деньгами скоро. Тетка эта мне в ноги падала, а я, кажется, умер тогда. Но ничего, быстро ожил. Я же привычный, не первая и не последняя она такая у меня. Вот какая, Света, у меня работа. Не хочешь подменить? У тебя, уверен, отлично получится.
«Ого! – подумала Света. – Тут, похоже, нервным срывом дело пахнет. Как не ко времени. Действительно, на сегодня отменять приемы надо».
– Вадик, миленький, ну, может, ты и не врешь им вовсе. Может, ты правду им говоришь, просто сам не знаешь? Вон как с самолетом получилось – ты ляпнул наобум, а оказалось, что как в воду смотрел. Вдруг и правда дар у тебя и говоришь ты все не случайно? Может, вернулась дочка уже при деньгах?
Успенский метнул на Свету выразительный взгляд.
– С самолетом получилось, спорить не буду. Я сказал – он упал. А там, Света, был полный самолет глаз. Не часов, Света, не костюмов! Полный самолет глаз, понимаешь?
– Ну потерпи, миленький. А как, ты думал, деньги приходят? Зарабатывать их надо. Или ты хочешь как раньше?
– Я всю жизнь только и делаю, что терплю.
– Теперь хотя бы есть ради чего терпеть, а не как раньше – зазря.
Света снова протянула руку к его жидкой поросли. Успенский упрямо качнул головой в противоположную от нее сторону.
– Да что с тобой такое?
Голос ее выдал досаду. От несвойственного Успенскому поведения повеяло недобрым ветром на Светину мечту. Умозрительная картинка, которая так явственно стояла перед глазами этой ночью, тревожно колыхнулась, как мираж, грозя рассеяться.
– Думаю я, Света. Можно мне побыть одному?
– Можно. Только скажи о чем, и я уйду.
Успенский обреченно вздохнул.
– Хорошо. Я думаю о том, что вдруг там правда кто-то есть? – он воздел к потолку указательный палец и подкатил в том же направлении глаза, так что белки над нижними веками обозначились двумя полумесяцами, точно на иконах великомучеников.
Света тоже посмотрела в том же направлении. Надо бы потолок перетянуть, подумала, цвет какой-то неудачный. А вслух сказала:
– Понятно. Ты, главное не переутомляйся, тебе сейчас вредно. Да и силы надо поберечь. Сейчас самый ответственный этап.
С этими словами она наконец-то вышла, оставив его в покое. Что крылось за словами «ответственный этап», Вадим Сигизмундович узнал лишь ближе к вечеру, когда пытался тихой сапой пробраться к холодильнику. Весь день до его слуха доносились звуки ее голоса (из чего можно было заключить, что Света ведет оживленные телефонные переговоры) и, время от времени, топот в коридоре (что могло значить, что Света не находит себе места от каких-то сильных эмоций). Когда все затихло, Успенский решил, что она все же утомилась и отдыхает в одной из комнат. Он заглянул на кухню, но увидел расслабленную и довольную сожительницу, которая лениво полулежала на «уголке», водила пальцем по тачпаду и курила. Его появление вызвало в ней новый приступ оживления.
– Вадик, я все придумала! Завтра у тебя будет большая пресс-конференция. Готовься. Я решила не распыляться на эксклюзивные и прочие интервью, а ударить сразу по всем фронтам. Ну, ты рад?
– Безмерно.
Вадим Сигизмундович вздохнул, сделал себе два бутерброда с сыром и сладкого чая, подхватил снедь и вернулся к себе.
«19 апреля 20… 01.05
это спам
Мама была учительницей. Не простой учительницей. Советской! Такой, знаешь, впитавшей в себя все самое правильное, светлое, высокопарное, чем слепила глаза советская власть. Она была наивной, простой, бесхитростной. Хотела от жизни простоты и ясности, поэтому так самоотверженно верила в «светлое будущее», в порядочность, в то, что каждый человек либо хороший, либо заблудший. И если заблудший, то надо ему помогать. Помнишь советские фильмы? Там все герои делятся на хороших, высокоморальных и тех, кого жизнь обделила человеческим участием и они стали не пропащими, но теми, кому надо помочь. И хорошие помогали им, и они тоже становились хорошим, правильными. А совсем плохих героев, безнадежных, в тех фильмах не было. Помнишь «Неподдающихся», Петрыкина из «Большой перемены», Анфису из «Девчат»? Наверное, поэтому мама и взялась учить детей, она видела в этом особую важность.
Мамы уже нет, той страны тоже, на старые фильмы можно лишь изредка наткнуться в эфире. Их показывают больше по праздникам, наверное, потому, что среди ужаса и грязи, которыми обычно теперь заполнен эфир, они выглядят веселыми анекдотами, призванными рассмешить своей наивностью. Ничего не осталось с той поры, а во мне по-прежнему живет неистребимая вера, что нет людей плохих. Что чем злее человек, тем терпимее к нему надо быть, участливее, и тогда получится отогреть его, расколдовать. Поэтому некоторые за глаза зовут меня блаженной)). Я знаю, зовут. И во дворе шепчутся: «вон, пошла блаженная», и на работе тоже от девочек доводилось услышать шепоток. А Васька, сосед, вообще в глаза меня так называет. Особенно когда пьяный. Это потому, наверное, что я никогда не отвечаю злом на зло. А может, потому, что я квашня и рохля)).
А зла вокруг много. Оно как-то вдруг полезло из всех щелей после того, как распался Союз. Треснули и надломились те идеологические скрепы, которые поддерживали и объединяли всех нас, делая из частного общим. Каждый стал сам по себе, а в одиночестве человек дичает.
Иногда я думаю, как сложилась бы моя жизнь, если бы тогда, давно, в юности, я бы уехала отсюда? Из города, который заводским серым смогом застлал мою жизнь, и она полностью растворилась в нем? Хотя… Чего теперь уж об этом думать? В моей советской юности я не особо рвалась уезжать. Тогда считалось, что советскому человеку хорошо живется везде. А потом, после распада Союза, когда со временем выяснилось, что наш маленький город больше не часть обетованной земли, а черная дыра, уезжать стало поздно и страшно. Да и мама начала сдавать, потому что верить вдруг стало не во что.
Когда верить не во что, то внимание фокусируется на реальности. Каждая ее деталь становится четче, разрывает острыми углами пелену радужного тумана, возвращая сознание из далеких далей, ради которых стоило жить, в пресловутое «здесь и сейчас»… Реальность вдруг оказалась безысходной и пугающей. А мать и не замечала этого раньше, а вместе с ней и я. Она, как настоящая идеалистка, всегда смотрела вперед, а в настоящем лишь поступала так, как следовало, для того чтобы не спугнуть то прекрасное, что должно было случиться. Обязательно должно было. Ей сказали, что будущее будет общим вот она и делала то, что нужно для «общего будущего», а о своем «личном» даже не догадывалась вспомнить. Наверное, ее подкосило, что мое «светлое будущее» перестало ей видеться таким уж светлым.
Конечно, я осталась. Ходила на работу, ухаживала за мамой, смотрела телевизор с любопытством, а иногда страхом. Наверное, я не была готова окунуться с головой в тот хаос, который сопутствовал эпохе сотворения нового мира. Наверное, я вообще не была готова к тому, чтобы оказаться самой по себе. Все вокруг словно очерчивали вокруг себя линию. Отделялись от общего – и вслепую, неумело нащупывали частное. Я не борец по натуре, мне было привычней, проще в стае. Сбившись в кучу. Так легче сохранять тепло. Я мерзла и спешила домой. В четыре стены, дальше от сквозняков. А когда мамы не стало, то прятаться от сквозняков стало негде, они проникли повсюду. Но я не решилась что-либо менять, просто стала еще тише и неприметней. Наверное, мне хотелось затаиться. Знаешь, как бывает с детьми, когда они закрывают руками лицо и думают, что теперь их никто не видит? Так и мне, наверное, казалось, что если зажмуриться и замереть, то, открыв глаза в какой-то момент, я увижу, что вокруг все изменилось. Вдруг, разом. И я замерла.
Что у меня есть теперь? Комната в коммуналке, любимая кошка (кстати, она, похоже, беременна), сосед Васька (который никого не любит, а кошку мою больше всех), работа в душном кабинете нашего градообразующего предприятия, вечно дымящего черным смогом завода, коллектив, в котором я чувствую себя чужой и неприкаянной. Вот, пожалуй, и все. Хотя нет. У меня еще есть одиночество. Как я могла его не отметить? Ведь оно в моей жизни есть явно – ощутимо и почти осязаемо, как невидимый кокон, отгораживающий меня от жизни, внутри него зябко и тоскливо.
Я до сих пор будто все жду, когда можно будет открыть глаза широко и понять, что мне не страшно. Я даже не знаю, откуда взялось вдруг во мне столько решительности, чтобы полюбить. Смешно, конечно, угораздило тетку на пятом десятке влюбиться в экранного героя. Правда смешно, даже спорить не стану. Но я так долго жила в пустом, монохромном сне, и проснуться, выбраться из него не удается никак. Может, я и не в тебя влюбилась, а просто набралась решимости впустить в свою жизнь то, что способно побудить к действию? Ведь любить – значит быть готовым на поступки. И мне кажется – я, наконец, готова к ним. Может, потому, что после хаоса и растерянности я снова (а может, и впервые за всю жизнь) обретаю веру? Моя уязвимость как отдельной единицы перестает быть пугающей или вовсе перестает быть».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.