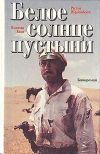Текст книги "Белое братство"

Автор книги: Элеонора Пахомова
Жанр: Книги о Путешествиях, Приключения
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 24 страниц)
Глава 19
Сознание возвращалось мучительно, будто продираясь сквозь непроходимую густую поросль шипастых вьюнов, застящих свет разума, – еще один рывок, и ресницы Погодина дрогнули, голова тяжело, как неуклюжий каменный шар, повернулась на шероховатой земле вправо, потом влево. Он открыл глаза, не успев еще задуматься о том, что с ним случилось. Россыпь мерцающих звезд, далеких и близких, поначалу показалась остаточным явлением той яркой, вдруг вспыхнувшей белым светом боли, предвестившей провал в пустоту. Первое, что он осознал, – левый глаз почти не видит. Узкую щелку заволокла мутная патина. Мирослав поднес пальцы к надбровью и, только коснувшись липкой от крови кожи, вспомнил все. От резкого движения та, первая, слепящая боль, снова мигнула вспышкой – он сел, пытаясь разглядеть сквозь нее то, что его окружает.
Сначала он увидел два желтых округлых пятна палаток, пестревших на темном фоне ночного плато. Правее палаток, метрах в пяти от того места, где был он сам, различались два темных силуэта, склоненные над догорающим бивачным костром. Жар тлеющих углей поднимался от земли зыбким взволнованным маревом, а таящееся в их сердцевинах пламя подсвечивало лица собравшихся снизу, уродуя их пляшущими, искаженными тенями. Хоть память Мирослава и оживила в сознании события, предшествовавшие его провалу, но мысль пока ворочалась лениво, будто нехотя просыпалась после глубокого сна. «Роднянский, – наконец сообразил он, – …Алиса».
– Ну неужели! Оклемался-таки. Я уже думал, всю ночь тебя караулить придется, – тон Стрельникова был обычный, насмешливый и бодрый, будто ничего не случилось.
Его массивная фигура в полный рост обозначилась на фоне скрадывающей перспективу темноты, которая где-то дальше обволакивала подножье огромной снежной пирамиды Кайласа и поднималась к звездному небу остроконечной, как хищная пасть, ломаной линией гор. Пока Стрельников вальяжно двигался от костра в его сторону, по ходу разминая плечи и поясницу, Мирослав торопливо шарил взглядом вокруг. Из-за того, что левый глаз заплыл от удара, обзор был непривычно узким, да и темная земля не стремилась выдавать доверенных ей тайн. Но вот он различил все же прямоугольное возвышение справа от себя, ближе к озеру, которое явно имело не природное происхождение. Он пригляделся и понял, что эта тела мертвецов, прикрытые черным брезентом. Ветер, беспрестанно гулявший у самой земли, норовил сорвать прикрытие, которое пузырились под его порывами и клокотало, как крылья рвущейся на волю птицы. Но увесистые камни, уложенные по периметру и между тел, удерживали материю на месте. Все же с правой стороны ветер выпростал из под груза угол брезента, и Мирослав рассмотрел белокожую руку и светлые пятна трогательно-старомодных брюк. «Роднянский, – понял он. – Роднянский…»
– Алиса! – выкрикнул Мирослав в темноту, ощущая в горле непривычную солоноватую помеху, но собака не отзывалась.
Уже через мгновенье он увидел ее неподалеку. Она лежала неподвижно на боку, вытянув лапы, и ветер теребил ее длинную рыжую на концах шерсть. Никогда еще Алиса не позволяла себе проигнорировать хозяйский зов.
– Как самочувствие? – Голос Стрельникова прозвучал совсем рядом.
Мирослав не взглянул на него. Он вообще не хотел сейчас ничего видеть, слышать и знать. Ветер упрямо бил его в затылок, и ему хотелось лишь того, чтобы воздушная стихия одолела его плоть, пробив затылочную кость, выдула из головы все и разметала на четыре стороны. Сейчас в его сознании все спуталось, наслоилось, и он нестерпимо желал опустеть, а еще лучше – перестать быть хоть на время. Картинки из прошлого, как фотокадры памятных моментов, непрошено являлись одна за другой, оставляя за собой шлейф давних ощущений и мыслей, бередящих нутро. Он видел кадры со Стрельниковым молодым и повзрослевшим, казавшимся ему когда-то близким, пусть странным, особым, но близким. На этих памятных моментах, прорисовывающихся в памяти красочно и реалистично, Стрельников был частью его привычной жизни, той, что осталась за контрольно-пропускным пунктом Шереметьево. Сейчас Мирослав осознавал, что того Стрельникова никогда не было, вместо него существует какой-то другой, незнакомый, чужой и страшный человек, а потому и декорации, в которых он проступал в памяти, вдруг показались Погодину плоскими, как бумага, и тут же смятыми, конфетным фантиком отброшенными под ноги. А ведь эти декорации, вплоть до этого момента объемные, живые, теплые, и были привычной для него реальностью – миром, в котором существовала его семья: отец, мать, несносная, но любимая сестра; посиделки в пронизанной светом гостиной; вечера с видом из окна на горящую огнями Москву; ленивые и суетливые утра с уютными убранствами спален – в отцовском доме и собственной квартире; частые проделки Алисы, вечно настигающие врасплох. «Алиса…» – Слово моргнуло в уме новой болезненной вспышкой, как угасающий пульс.
Теперь, здесь, на ночном пустыре, существующем будто за пределами привычного мира, в другой непостижимой и страшной реальности, Мирославу стало мерещится, что он проснулся от долгого красочного сна. Что та его прошлая жизнь была наваждением, иллюзией, а истинная реальность – она такая: темная, одинокая, пугающая пустошь, в которой предстоит выживать под пронзительным ветром, и каждая душа, встретившаяся на пути, окажется такой же химерой, как Стрельников, – будет меняться, настигать и ускользать, оборачиваться то добром, то злом, хаотично чередуя маски, но никогда не станет константой. А может, он и сам в какой-то момент внезапно обнаружит, что является такой же химерой? Взглянет на зеркальную гладь воды и увидит в отражении кого-то другого? «Может, это и есть момент истинного рождения, а вся моя прошлая жизнь была сладким снов в утробе мироздания. Иначе почему так непонятно, дико и больно то, что происходит сейчас?» – подумал он. А потом он мысленно взмолился, по-детски сильно зажмурив глаза: «Пусть ничего этого не будет…»
– Ну, извини, сынок, перестарался, – раздался у самого уха знакомый голос из приснившийся счастливой жизни, который он мечтал никогда больше не услышать.
В этот момент Погодина будто и впрямь больше не стало. Что-то в голове лопнуло, и он перестал помнить себя. Издав звериный рык, он изо всех оставшихся сил бросился на того, кто склонился над ним, – бил бездумно, слепо и яростно, без всякой тактики, лишь бы бить, лишь бы кулак достигал цели, чтобы рассеять химеру, вытрясти дрянь, которая правит этой оболочкой человека. Но, бросаясь на Стрельникова из сидячего положения, он просчитался и попал в захват – сильная рука зажала его шею под мышку. Погодин все же изловчился свалить противника на землю. Бить из такого положения было неудобно, Мирослав успел лишь пару раз всадить кулак в вертлявый корпус и почти сразу ощутил неистовый жар в солнечном сплетении, дыхание перехватило. А потом какая-то сила отдернула его назад, подняла на ноги, и он сообразил, что подручный Стрельникова, сидевший с ним у костра, подоспел на помощь хозяину. Жесткие, сильные, как стальные тиски, руки заломили ему предплечья. Подсечка – и Мирослав, без того обессилевший не столько от внешнего воздействия, сколько от эмоциональных потрясений, рухнул на колени и был придавлен сверху тяжелым корпусом бойца.
– Все, хорош, осади… – Владимир Сергеевич, которого Мирослав неслабо достал кулаком, сидел перед ним на земле, держась за ушибленный бок, и говорил с трудом, пытаясь отдышаться.
Но на борьбу у Мирослава и так больше не было сил. Он сплюнул на землю кровь – похоже, в драке Стрельников ударил его не только под дых, но по касательной в челюсть. Нахлынувшая перед схваткой ярость отупляла, сбивала дыхание больше, чем любой удар. Физическая боль пульсировала в его теле на втором, далеком плане. Явственней всего он ощущал, как полости внутри него заполняет выжигающая все человеческое злость.
– Ну чего ты так переживаешь, Мироша? Из-за собачки расстроился? А у дяди Володи для тебя сюрприз – жива твоя дворняга. Она просто спит, – ласково, как с ребенком, заговорил с ним Стрельников. – Не веришь?
Он поднялся с усилием и неуверенным шагом, кренясь, двинулся к костру. Вернувшись обратно с рюкзаком в руках, он достал из него пистолет. В сумерках Мирославу показалось, что это обычный шестизарядный кольт.
– Понимаю твое замешательство, – даже сейчас не удержался от иронии Владимир Сергеевич. – Смотри.
Он направил дуло в землю и выстрелил. А потом нащупал в том месте, куда ударил заряд, тонкую металлическую трубку с маленьким ярко-желтым воланом на конце.
– Инъекционный дротик со снотворным, – пояснил он, покручивая в пальцах серебристую соломку перед лицом Мирослава. – Видишь, какой дядя Володя предусмотрительный? Я ведь знал, что ты не простишь мне эту псину.
– Но как это все? Зачем?
На мгновенье Погодин понадеялся, что произошедшее накануне было неумелым, жестоким розыгрышем и те, кто принимал в нем участие, сейчас откинут брезент, поднимутся, рассмеются над ним, растерянным и потрясенным. Но надежда угасла, едва обдав его своим согревающим дыханьем. Ничего не изменилось, мертвецы остались неподвижны, из-за палаток не выскочил весельчак-режиссер с видеокамерой. Только голос Стрельникова зазвучал снова, да ветер, казалось, стал свирепее.
– Что – как? Ты, возможно, хочешь спросить, как я провез это добро через границу? – Вслед за ветеринарным пистолетом Стрельников показал ему боевую «Беретту», потом тряхнул рюкзак, и тот отозвался недобрым металлическим лязгом. – А я не провозил, я же не волшебник. Все это я достал в Лхасе, по заранее налаженным каналам. В первый день, когда вы с покойным ныне Роднянским изволили осматривать достопримечательности. А вот вопроса «зачем» я от тебя не ожидал. Ты что, забыл? Наша цель – Олмолунгринг, сынок. Если ты обещаешь вести себя хорошо, то Дима сейчас тебя отпустит. Залижешь раны – и двинем к цели вместе, плечом к плечу.
От обобщения «наша», да и самой мысли стать сподвижником Стрельникова, Мирослава передернуло. После всего содеянного им с такой легкостью и бесстрастностью, предложение прозвучало как личное оскорбление. Погодин посмотрел на него единственным пригодным для этого глазом презрительно и зло.
– Понял, не дурак, – тут же иронично отреагировал Владимир Сергеевич. – Ну, тогда извини, придется применить вынужденные меры. Надеюсь, что временные.
Он выудил из рюкзака веревку и скрылся у собеседника за спиной. Мирослав ощутил, как заломленные руки опутывает жгут.
– Не понимаю, – проговорил он вполголоса, словно самому себе.
– Ну чего ты не понимаешь, Мирослав? Все ведь теперь понятней некуда, – заговорил Стрельников над самым его ухом, продолжая орудовать веревкой. – Не мог я оставить в живых этого проклятого гида. Никак не мог. Семен с легкой руки нашего благородного отравителя Роднянского, пусть земля ему будет пухом, окочурился в самый неподходящий момент. Несчастный случай в группе – значит, гид сразу, безоговорочно, связывается с агентством, группу снимают с маршрута, в экстренном режиме возвращают в Лхасу и высылают из страны. Таковы правила, их не обойти. Я ведь уже был здесь, в Тибете, все разведал, все продумал. Здесь иностранцам без гида и шага ступить нельзя. Ушел с маршрута, отклонился от утвержденной программы – домой, случилось ЧП – домой. Если бы я не выстрелил в него, он в следующую минуту звонил бы в свое агентство и нас бы живо отловили, как обезьян, не дав больше шага ступить. Водителя тоже пришлось ликвидировать, он такой же сотрудник агентства, как и Чоэпэл. Отпускать его было нельзя, по тем же причинам. Я разбираюсь в людях, гида пытаться подкупить было рискованно, он мог отказаться или схитрить. Я выбрал самое слабое звено, одного из водителей. По-тихому договорился с ним, пока якобы чинили машину, к тому моменту Сеня уже испустил дух. Столько денег сунул, что у него руки задрожали. Сейчас он разыщет нам все, что нужно, чтобы замаскироваться под местных, и мы пойдем дальше.
– Бред какой-то. Расстрелять людей потому, что они мешают тебе гулять, где вдумается. А нельзя было приехать в другой раз, а перед этим отвезти Семена в госпиталь?
– Нет, Мироша, так поступить было никак нельзя. Слишком долго я шел к этой поездке. Слишком значительные и масштабные приготовления предшествовали этому моменту. К тому же…
– Ты все равно их убил бы, – закончил его мысль Погодин.
– Ну, да, убил бы все равно, твоя правда, – нехотя признался Стрельников. – При них я не смог бы уйти с маршрута.
– А Роднянский?
– Что Роднянский? Роднянский сам выбрал свою участь. Мне кажется, мы оба с тобой понимаем, он ехал в Тибет зная, что останется здесь навсегда. Ты, возможно, мне не поверишь, но он сам отдал богу душу, пока ты тут отдыхал, я даже пальцем его не тронул. Удар хватил. Возраст.
Мирослав снова оглянулся туда, где темнота укрывала безжизненное тело профессора, будто прибирая его к рукам и навсегда затягивая в сумеречный мир. Закончился жизненный путь человека, взволновавшего когда-то его юношеское сердце.
– А Ринпоче? Он тоже под брезентом?
– Как бы не так. Удрал твой лама, так быстро, что даже пятки не сверкнули. Дима вон чудеса рассказывает, мамой клянется. Говорит, он только этого досточтимого схватить пытается, а тот – оп! – и прям в захвате исчезает, а потом метров на десять дальше появляется, как из-под земли. Так он за ним и бегал километров пять, пока не ошалел в конец. А я вот думаю, что Дмитрия нашего тоже горная болезнь шарахнула. Короче, досточтимого изловить не удалось. И это добавляет нам проблем, надо двигать отсюда поскорей.
– Я все равно не понимаю. Совсем ничего, – тихо прохрипел Погодин, чувствуя, как кровь липкой соленой волной обволакивает носоглотку и гортань, склеивая проходы, мешая дышать и чеканить слова. – Зачем сейчас тебе тратить время и силы, связывать меня, усыплять Алису, куда-то волочь, не проще ли сразу прибить и пойти дальше? – Он сплюнул на землю кровавый сгусток. – Тебе, как я понял, это вообще ничего не стоит.
Возможно, было опрометчивым подбрасывать подобные идеи тому, кто на его глазах, не задумываясь, приговорил несколько человек. Хитрей было бы попытаться заговорить ему зубы, прикинутся другом, чтобы получить возможность что-то предпринять, а не провоцировать на скорую расправу. Но Мирослав ощущал тонкую вибрацию между ними, такую, которая бывает между людьми не посторонними, когда в общении друг с другом позволительно то, что запрещено другим. Поэтому он говорил прямо, интуитивно чувствуя, что пока смерть от руки Стрельникова ему не грозит.
– Зачем же ты так, сынок? – Последнее слово прозвучало с усилием, и Мирослав ощутил, как веревка глубже врезается в запястья. – Я ведь не какой-нибудь одержимый потрошитель, который бездумно косит всех направо и налево. Я не убиваю без острой необходимости. Больше того, твоя смерть не входит в мои планы, наоборот, я хочу, чтобы ты жил очень долго и счастливо. Я даже псину твою пощадил, как ты думаешь, почему?
– Почему? – Мирослав снова сплюнул скопившуюся в гортани кровь. – Я прямо-таки теряюсь в догадках.
– Потому что я не хочу, чтобы между нами было что-то, чего ты не смог бы мне простить. Я ведь знаю, как сильно ты привязан к этой дворняге.
– С чего вдруг такая забота?
Стрельников вышел из-за его спины и присел на корточки, так, что лица их оказались на одном уровне. Он вдруг стал по-настоящему серьезен, без той неизменной усмешки, которая более или менее явно, но всегда угадывалась на его лице, словно отгораживая его от мира людей, воспринимающих жизнь всерьез. Светлые глаза смотрели не так, как обычно, странно, ощупывали каждый миллиметр погодинского лица.
– А разве раньше ты не чувствовал мой заботы, сынок?
Он поддел подбородок Мирослава согнутым указательным пальцем и приподнял его немного выше, чтобы тот не смог отвести взгляда. Погодин тряхнул головой, высвобождаясь от подпорки властной руки, – мокрые от крови пряди разлетелись веером и прилипли к лицу.
– Мне казалось, мы всегда были добрыми друзьями, имели общие интересы, особое внутреннее родство. Разве ты не замечал, что я отношусь к тебе как к сыну, Мироша? Ты прости меня за это. – Стрельников обвел руками сгорбленную, будто сломанную, фигуру сидящего перед ним Погодина. – Все это вынужденная мера, временная. Просто пока ты не готов вот так с ходу понять и принять то, что происходит. Я должен избавить тебя от соблазна сделать что-то резкое и необдуманное. Ты ведь пока еще идеалист и пытаешься сортировать все в жизни по черным и белым ящикам. Я должен дать тебе время подумать, прийти в себя, осмыслить. Я рассчитывал ввести тебя в курс дела при других обстоятельствах, но события развернулись так, что выбора у меня нет.
– Зачем тебе я? Ты ведь, как я понимаю, всерьез рассчитываешь примкнуть к властителям этого жалкого мира, стать полубогом. Зачем тебе кто-то еще?
– Собираюсь. Но я хочу, чтобы ты остался со мной. Даже у бонских жрецов потомственная преемственность. Возможно, когда-нибудь ты назовешь меня папой.
Погодин от неожиданности прыснул со смеха. Потом прочистил горло и сменил тон с обычного на тот, которым разговаривают терпеливые, ко всему готовые психиатры с безнадежными пациентами.
– Ты, возможно, забыл, но папой я уже называю другого человека, хорошо тебе знакомого. И меня это вполне устраивает.
Стрельников рассмеялся. Смех этот был умильным, благостным.
– Мне нравится, что ты в любой ситуации, даже такой критической, держишь лицо, умудряешься иронизировать, – довольно сказал он, продолжая рассматривать Мирослава, будто картину в музее. – Есть в этом что-то царственное. Мне нравится, что, побитый и связанный, ты не трясешься за свою шкуру, не пускаешь слюни, не просишь пощады. Если бы ты повел себя так, я, возможно, даже скорей всего, пристрелил бы тебя здесь и сейчас. Но ты не разочаровал меня.
– Ты просишь называть тебя отцом и тут же заявляешь, что готов пристрелить меня при малейшей оплошности. Оригинально, – не в силах больше скрывать сарказма сказал Погодин.
– Ну, во-первых, не при малейшей, не передергивай. А во-вторых, не вижу противоречия.
Мирослав перестал прослеживать хоть какой-то смысл в этом абсурдном диалоге, потому промолчал.
– Помнишь Андрея, моего сына? – не успокаивался Владимир Сергеевич.
Погодин кивнул.
– А знаешь ли ты, при каких обстоятельствах его не стало?
– Несчастный случай, кажется. Меня в детстве не посвятили в подробности.
– Да, тот случай, действительно, сложно назвать счастливым…
Стрельников развернулся к Мирославу боком и уселся на землю, глядя куда-то в темноту. Через минуту молчания в голосе его проступило раздражение. «Ну чего ты вылупился как баран? Неси аптечку. Не видишь, человек кровью истекает?» – гаркнул он на помощника, который стоял рядом и не спускал с Погодина глаз, видимо, опасаясь, что он опять надумает выкинуть какой-нибудь фортель. Массивная фигура отделилась от темноты и двинулась к палаткам. Заполучив футляр с медикаментами, Владимир Сергеевич смочил ватный диск жидкостью и поднес его к рассеченному надбровью Мирослава. Жидкость зашипела, щекоча рану. Погодин чувствовал себя как ребенок на приеме у школьного доктора, но связанный сделать ничего не мог.
– Это я застрелил Андрея. Сам, – сообщил Стрельников, не прерывая процесса. Он сосредоточенно всматривался в ту область, к которой деликатно прикасался ватой, подсвечивая себе фонариком.
Мирослав дернулся, как от удара током. Отстранился.
– Н-да… – непонятно с чем тихо согласился Стрельников.
Отбросив испачканную вату, он снова уселся на землю, отвернувшись от Мирослава. Закурил. «Роднянский, сволочь, все бухло попортил…”, – пробурчал он, запустив руку в футляр с медикаментами. В одно движение серебристая крышка слетела со стеклянного пузырька. Стрельников сделал пару глотков, вдохнул глубоко, будто вынырнул на поверхность из под толщи воды. В воздухе запахло спиртом. От ожога слизистой на глазах Стрельникова проступила влага, он заговорил.
– Так случилось тогда, в девяностых. Я наглый был, никого не боялся. Из любой заварухи выходил сухим. Кураж и смелость были, а вот мозгов, видимо, не хватало. Я легкомысленно завел семью. Случайно. Сначала с Танькой, матерью Андрея, просто весело время проводили, она красоткой была, для меня трофейная добыча, перед пацанами рисонуться, себя потешить. Потом вдруг заявляет, что беременна. Я беспечно тогда решил, сильно не думая, ну беременна – пусть рожает. Денег валом, не обременит. Да и привык к Таньке, любила меня очень.
А он родился, такой… Козявка умильная. Хрупкий, чуть сильней коснешься – и, кажется, хрустнет. Я и не знал, как прикасаться к нему своими ручищами. И какое-то странное, неожиданное чувство во мне обнаружилось, горячее, топило оно меня изнутри, и вся моя внутренняя твердь поддавалась этой запредельной температуре, плавилась. Жидкий терминатор – я тогда сам себя так подкалывал, чтоб хоть немного трезветь. А он еще рос нежным очень, от Танькиной юбки на шаг не отходил. Как телок к ней жался. И еще больше это меня топило, хоть и жалел я, что не в меня парень пошел.
А тогда ведь время сам знаешь какое было. Ну, девяностые, что говорить? Я только тогда, после перестройки, вдруг понял, кто я есть и что есть жизнь. Развеялась вся эта рукотворная мишура. Мир стал первозданным. Я очень явственно это ощутил. Россия обернулась диким полем, а люди зверьем. Кто-то слабее, кто-то сильнее. Кто-то травоядное, кто-то хищник, хочешь быть сытым – подомни под себя травоядное стадо. Я понял, что я хищник. Как будто шоры спали с меня. Вся эта чушь: «товарищ», «равенство», «братство» – наносная хрень, призванная усыпить истинную человеческую природу, вдруг оказалась картонной декорацией, которая пошатнулась и пала, а за ней – дикий пустырь и вольный ветер. Я вдохнул его тогда полной грудью, ощутил простор и будоражащую кровь опасность, и понеслась душа в рай. Люди не знали, как приноровиться, а я будто попал в естественную среду – жестко, люто, но так, как и должно быть в живой природе – выживает сильнейший.
Никто не мог меня согнуть, переломить. Я делал, что хотел, и жил как хотел. Ни приручить, ни выдрессировать меня было нельзя. Не хотел я ни делиться, ни сотрудничать. Судьбу испытывал. Все думал, ну и что вы мне все сделаете? Я фартовый был, казалось, даже пули отлетали. И ты знаешь, нашелся способ, очень для меня неожиданный. Андрея выкрали и вызвали меня на стрелку – его в обмен на бизнес.
Захожу в ангар. Ну, думаю, слава богу, живой еще. А он сидит напуганный, маленький, трясется. Личико все вытянулось, в глазах ужас. А рядом с ним амбал сидит. Демонстративно держит его лапой за шею, типа, мне предупреждение – если начну чудить, он лапу сожмет и хрустнет та шея в одно касание. У меня все клокочет. Никогда я не чувствовал себя таким беспомощным, поверженным. Я готов был все отдать. Собирался. Поднял бы новый бизнес, фартовый же. Потом бы с каждым из этих мразей поквитался в подходящий момент. Но вдруг я понял. Так очень четко, ярко, как озарение, понял, что сын мой – травоядное и хищником не станет никогда. И жизнь всегда будет нависать над ним, как этот амбал, и держать за тонкую шею, и он всегда будет таким же напуганным и растерянным. А я не вечный. С моей-то натурой риск, что рано или поздно меня все-таки завалили бы, был очень велик. Так страшно, как в тот момент мне никогда не было, ни до, ни после. Я только тогда узнал насколько мерзкая, липкая природа у страха. Я понял, что страх за него может изменить меня навсегда. Понимаешь, я ощутил, что моя собственная природа и природа этого страха несовместимы, противны друг другу.
В общем, не знаю точно, что именно подумал тогда. Многое в голове в тот момент смешалось, даже не мысли это были, а какой-то спазм. Защемило невыносимо внутри, оборвалось. Как будто грудная клетка провалилась – так сосало меня это подлое чувство жалости и страха. А эти мрази еще стоят ухмыляются. Видят, как меня перекосило, что поджилки трясутся. Поняли, что в точку попали, где мое больное место и куда теперь всегда надо бить, чтоб наверняка, чтоб даже глаза на них впредь поднять не смел. Да я и сам я в тот момент ясно осознал, что, пока сын уязвим, загонят они меня (а не они, так другие, желающих много было) этим страхом в собачью конуру и на цепь посадят. Ты много видел затравленных хищников на цепи? А сын всегда под ударом будет. И вот, в какие-то секунды, буквально пара мгновений – и новое озарение, вспышка, как концентрированная истина, сошедшаяся в одну ослепительную точку, – как обезопасить его от всего раз и навсегда. Таким неоспоримым открытием мне это тогда показалось. Чтобы никто и никогда больше. Никто и никогда… И тогда я выстрелил. В него, в Андрея. Он сразу умер. Я подхватил его на руки, развернулся и пошел к выходу. Спокойно так, даже не прослезился. А эти только рты открыли и застыли на местах. Никто из них даже остановить меня не попытался. И копать под меня они больше не пытались никогда. Да я и перебил их потом всех со временем, до единого.
Я только потом, дурак, понял, почему «законникам» детей иметь нельзя. Чтобы не иметь уязвимого места. Почему сразу не подумал, когда она сказала, что беременна? Мог ведь догадаться, к чему дело. Я хоть законником становиться не собирался, но уязвимость была не по мне. Не должно было быть у меня этой ахиллесовой пяты. Не понимал я даже не того, как с этим жить, а как это пережить, тот момент, когда щемило. Такая вот история.
Стрельников снова приложился к склянке со спиртом, отдышался, слегка повернул голову в сторону Погодина и украдкой посмотрел на него слезящимся глазом.
– Ты думаешь, значит для меня что-нибудь после этого смерть узкоглазого гида или водителя? Нет, Мирослав, ничего не значит. Все равно, что до ветру сходить. А вот отправлять тебя к праотцам мне бы не хотелось. Я способен на это, но мне это дастся нелегко. Ну, что ты смотришь на меня? Конечно, я могу тебя убить. Я после Андрея кого угодно могу убить. Черту достаточно переступить раз, и мир вокруг меняется, сразу или постепенно, и человек меняется. Как будто переходит из одной реальности в другую, и все, что осталось за четой, отдаляется, бледнеет, а потом исчезает. Я таких черт миновал много, а ты еще нет. Поэтому я не рассчитываю, что ты сходу поймешь меня и примешь. Но ты рос у меня на глазах в постоянной, почти сыновней близости. И я видел, что ты другой. Я видел, что твои синие глаза далеко не всегда излучают мягкое свечение. Иногда они превращаются в омуты с ледяной, жесткой водой. Ты можешь стать хозяином жизни, ты можешь высвободить свое звериное первоестество. И я полагаю, что, когда ты откроешь его в себе, вполне может статься, что мы с тобой одной породы.
Погодин молчал.
– Сейчас я принесу эти тела в жертву духам. Хочешь поучаствовать?
– Нет.
– Ты, наверное, устал. Девять часов безмятежного сна. Хочешь?
Стрельников повертел перед Мирославом инъекционным пистолетом.
– Хочу, – бесцветным голосом ответил Погодин.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.