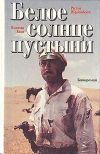Текст книги "Белое братство"

Автор книги: Элеонора Пахомова
Жанр: Книги о Путешествиях, Приключения
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц)
Глава 6
В застенках каземата Вадим Сигизмундович испытывал сильный дискомфорт. Дискомфорт не только физический, вызванный жесткой койкой, затхлым сырым духом тюремных стен, непотребным нужником и неприятным соседством, но в большей степени моральный. Он, интеллигент Бог его знает в каком поколении, сидит (стыдно сказать) в КПЗ, в обезьяннике! И за что? За мелкое хулиганство! Мелкое! Одно уже это слово казалось Успенскому оскорбительным, принижающим его человеческое достоинство. А в сочетании с понятием «хулиганство», которое само по себе вызывало стойкую ассоциацию с мелким пакостничеством, и вовсе унизительным. Нет – уничижающим! Получалось, что он напакостил не просто мелко, а мелко-мелко, как какая-нибудь псина, пометившая соседский забор. Это было мучительно и несправедливо в отношении него. Так попрать человека из-за жалкого недоразумения…
Хорошо, что его мама не дожила до появления этой постыдной отметины в биографии сына, которого всегда считала ребенком нравственным, подающим надежды большого интеллектуала. Моментами, лежа на узких нарах и разглядывая серый тюремный потолок, похожий на неровную поверхность луны, испещренную кратерами, Успенский думал о том, что, если бы его закрыли по статье, допустим, политической, ему, пожалуй, сиделось бы легче. Морально. Не потому, что он имел какие-то политические амбиции или, чего хуже, стремился изменить мир. А просто потому, что политическая статья с понятием интеллигентность вязалась тесней, чем судьба и воля. Тогда его пребывание в этом ужасном месте воспринималось бы им не как нечто унизительное, а как мученическая жертва во славу пусть размытой, но высокой цели. Тогда и уборку прилегающей территории в воспитательных целях можно было бы производить с гордо поднятой головой, со взглядом отрешенным и снисходительным в сторону надзирателей – сломленных рабов презренной деспотической, системы. А не так, как сейчас, – судорожно вцепившись в древко метлы и стыдливо пряча лицо от толстокожих бесцеремонных надсмотрщиков.
Сейчас ведь как все происходило – не воспитательные работы, а натуральная психологическая атака, нацеленная на подрыв его эмоционального равновесия. Выйдет Вадим Сигизмундович во двор, возьмется за метелку, а эти животные давай ржать да улюлюкать. Вот на днях, например, метет себе Вадим Сигизмундович двор… Ну, как метет – возит туда-сюда этим общипанным веником (что им выметешь, он, небось, еще Солженицына помнит…). Но Вадим Сигизмундович все равно метет дисциплинированно, никого не провоцирует, внимание к себе старается не привлекать. А они, увальни в погонах, на него пальцами тычут и ржут. «Давай, – говорит один другому, – его цепью на всякий случай за ногу к дереву привяжем? Он же ведьмак, а мы ему метлу выдали. Вдруг он на нее сядет и улетит?» И гогочет, паскуда, на весь двор. Да еще так заразительно, что все вокруг подхватывают. «Эй ты, колдун недоделанный, умеешь на метле летать?», – это уже Успенскому. Вадим Сигизмундович от прямого к нему обращения растерялся, весь вспыхнул, уставился на вопрошателя, а что сказать не знает. «Да ладно, Слава, не задирай ты его. Вдруг он правда что может. Вон зенки какие вылупил, прям буравит. Сейчас нашепчет чего… А что? У меня жена во все это верит. Как поедет к матери в Беларусь, обязательно всех местных бабок обойдет…» Так Вадим Сигизмундович все пятнадцать суток только взглядом и отбивался. Ох уж этот взгляд…
Тогда, почти два года назад, он шел на кастинг программы, породившей глумливую и алчную ведьму, преисполненный негодования. Душа требовала высказать всё организаторам бардака, который вводил в заблуждение и без того заблудший и несчастный люд. Пожалуй, это был самый решительный поступок за всю его жизнь. Причиной внезапной метаморфозы послужил реактивный психоз, постигший Успенского после всех пережитых волнений. Ресурсы человеческой психики не безграничны, она хрупка. А Вадим Сигизмундович и так слишком долго существовал в состоянии сомнамбулическом, страшась взглянуть правде в глаза, трезво оценить свою жизнь. Но когда он допустил надежду на лучшее, умозрительный туман, окутывавший все эти годы его настоящее, рассеялся сам собой. Неприглядность реальности, скрывающаяся за его дымкой, обнажилась, и желание перемен стало навязчивым, нестерпимым. Оно было так велико, что Успенский даже заставил себя пройти через дикий, коробящий ритуал, испытывая отвратительную ломку. «А вдруг получится? Ну, вдруг?», – уговаривал он себя, умываясь кладбищенской водицей, и в голове его самопроизвольно рисовались радужные картины. И что в итоге? Надежда, которая за время между визитами к ведьме окрепла, набрала красок и вольного ветра, словно огромный веселый аэростат, готовый унести Вадима Сигизмундовича в лазурную счастливую высь, в одночасье превратилась в мираж, покачнувшийся в мареве и растаявший. Успенский снова обнаружил себя в пустыне жизни одиноким и отчаявшимся. Только после обнадеживающей встряски реальное положение вещей показалось ему более удручающим, чем раньше. Лучше бы он и не знал этой надежды никогда, так бы и жил сомнамбулой.
К месту сбора создателей телепередачи он двигался стремительно, меря непривычно размашистым шагом мокрый от талого снега тротуар. Московский апрель в том году выдался слякотным и грязным, но Вадим Сигизмундович уже не страшился испортить единственные и почти новые демисезонные ботинки. «Хлюп-хлюп» – чавкала сдобренная реагентами жижа под тонкой подошвой. Маркие сырые комья подпрыгивали, оседая на штанинах и развевающихся полах длинного плаща. Он шел, вжав голову в плечи, сжимая правой рукой под горлом отложной воротник, со стороны похожий на огромную озябшую птицу. Сходство довершали тонко очерченный с горбинкой нос и черные глаза, которыми Успенский дорогой провожал общественный транспорт. «Ах, люди, люди… Бедные люди, бедный я…» – думал он, разглядывая тусклые поникшие силуэты сквозь замаранные стекла троллейбусов. Он чувствовал, что эта прелюдия к действию добавляет ему решимости, и неосознанно упивался нарастающим внутри страданием. Всю дорогу в мыслях у него рефреном крутилась цитата Островского: «Даже самого кроткого человека можно довести до бешенства».
В таком настроении Вадим Сигизмундович добрался до места сбора будущих звезд всякого рода мракобесия. Томясь среди многочисленных кандидатов на участие в следующем сезоне шоу, он обдумывал свою речь, старательно подбирая слова. Согласно его замыслу все должно случиться примерно так: сейчас он проникнет в гнездо аспидов, посмотрит на них презрительно и скажет: «Я пришел сообщить вам, что вы не люди, вы демоны-искусители! Вы на убой бьете несчастных людей по самому больному, жизненно важному, святому! Вы даете людям веру в чудо, надежду на избавление, чтобы потом безжалостно выдрать их из сердец вместе с плотью. Лишая людей надежды и веры, вы делаете их инвалидами, а некоторых и вовсе убиваете! Я, Вадим Сигизмундович Успенский, требую прекратить это безобразие немедленно! Опомнитесь…»
В длинной очереди потенциальных упырей и вурдалаков, магов и колдунов время тянулось медленно, вязко. Решительность Успенского постепенно уступала место сомнению. Но Вадим Сигизмундович боролся с химерой, он твердо вознамерился довести задуманное до конца. Кто, если не он? Переминаясь с ноги на ногу, он мысленно все прокручивал свою обличительную речь, то переставляя местами слова, то возвращая обратно, проговаривал ее, будто пробуя на язык, обдумывал взгляды и жесты. Наконец вызывавшая претендентов по списку девица выкрикнула: «Успенский Вадим Сигизмундович». «Как, уже?» – только и успел подумать он перед дверью.
Переступая порог комнаты, где проводился отбор, Успенский разволновался совершенно. Хорошо обдуманный текст, нацеленный призвать злодеев к ответу, напрочь вылетел из его головы. На нервной почве он сделал несколько размашистых шагов, остановившись точно по центру помещения, резко развернулся к собравшимся так, что полы его длинного грязного плаща распахнулись, как мантия супергероя, вдохнул побольше воздуха и… «Д-демоны!» – вдруг истошно заголосил он. От испуга и растерянности глаза его, казалось, еле удерживались в орбитах, он неистово шарил взглядом по присутствующим, пытаясь приноровиться к ситуации. Однако неимение навыка выяснять отношения давало о себе знать. Он старался, но не мог взять себя в руки. Ситуацию усугубляли оператор и впечатляющих размеров телекамера на штативе в углу.
Лица кастингующих поначалу выглядели устало и безразлично, но уже после первого выпада Успенского на них обозначилась некоторая оживленность. «Демоны, я, Вадим Сигизмундович… – предпринял Успенский вторую попытку проорать что-нибудь членораздельное. – Д-демоны, остановитесь… Вы!» Он порывисто вытянул вперед руку, гневно указывая пальцем на центральную фигуру за прямоугольным столом напротив. На этом силы, казалось, покинули его. За случившиеся краткие мгновенья он выплеснул всю свою энергию и на глазах становился будто меньше, сутулясь и поникая.
Как позже выяснилось, фигура, в которую метил его указующий перст, являлась главным режиссером шоу. «Однаако…”, – протянул он, чуть подавшись вперед, и заглянул в лицо сначала соседу справа, потом слева. Затем снова откинулся на спинку стула, взялся за подбородок, как роденовский «Мыслитель», сощурился: «Какой типаж! И про демонов как убедительно. Как будто он правда их видит… Талантище!» Успенский не спорил, молчал, по-видимому переживая нечто вроде катарсиса. Несколько секунд главный режиссер задумчиво озирал его, пока тот вытирал со лба проступившую испарину и вид имел уже не возбужденный, а, скорей, провинившийся. «А взгляд какой! – продолжал вслух размышлять «центральный» злодей. – Нет, коллеги, это интересно…» Режиссер запустил пальцы под черную бейсболку с надписью «Born to be dead» и почесал мелькнувшую плешь.
– Тащите Гертруду! – вдруг властно скомандовал он после непродолжительной паузы.
Экспозиция за столом ожила, колыхнулась, от нее тут же отделилась молодая девица в рваных джинсах, сидевшая с краю, и исчезла за дверью соседнего помещения. Гертрудой оказалась большая пупырчатая жаба, которую девица вынесла через пару мгновений в маленьком квадратном аквариуме. Жаба была не простой, экзотической, с красными пятнышками и большими на выкате глазами с кошачьим зрачком, но все равно мерзкой. Помощница подошла к Успенскому и зачем-то подняла аквариум на уровень его лица, а сама отстранилась. От отвращения и ужаса тот оцепенел, не в силах отойти от хладнокровной твари. Вдруг прямо перед ним возник слепящий свет – это была вспышка «Полароида».
– Вы можете еще раз, как вначале, выпучить глаза и крикнуть «Демоны»? – дошел до слуха ослепшего на мгновенье Успенского голос «центрового».
Глаза он выпучил. Непроизвольно. Но сказать – ничего не сказал. Вспышка мелькнула снова.
– Ну, не знааю… – задумчиво проговорил режиссер, поглядывая то на подопытного, то на полароидные снимки, то снова почесывая плешь. – А принесите-ка сюда Аида.
К счастью, Аидом оказалось не земноводное, а птица – черный ворон. Он, вероятно, был ручным – принесли его без клетки, но привязанным за ногу к цепочке. Дальше ситуация повторилась – сомнительное существо рядом с лицом Вадима Сигизмундовича, вспышка. «Полароида» ворон спокойно снести не смог и отвесил Успенскому крылом ощутимый подзатыльник, от которого редеющие мягкие волосы на голове у того вздыбились.
– Что скажете, коллеги? Гертруда или Аид?
«Только не Гертруда!» – мысленно взмолился Вадим Сигизмундович, хотя пока даже не понимал, о чем речь.
– В чем, собственно, дело? – осторожно поинтересовался он, приглаживая шевелюру.
– Видите ли, ммм… – «центровой» глянул на бумажку на столе, – Вадим Сигизмундович, дело в том, что вы нам подходите. Поздравляю! Мы вас берем. Перед вами открываются блестящие перспективы.
– То есть как?
– А вот прямо так, берем и все. Мое слово! – Он подошел к Успенскому и по-отечески ласково похлопал его по плечу. – Подмахнем договорчик, создадим вам образ, пропишем сценарий. Потом несколько месяцев съемок, годик-другой работы в нашем магическом салоне, и вы известный, обеспеченный человек. Как вам такой план?
Судя по довольному выражению лица, благодетель предвкушал бурю восторгов и благодарностей.
– Но как же люди? – наконец-таки вспомнил Успенский главный драматический поворот своей заготовленной речи.
– А что люди? – удивленно вскинул бровь режиссер, недопонял и тут же бросил через плечо: – Зоя, что у нас с людьми?
– Массовка – 300 рублей на человека за съемочный день, – отчеканила помощница.
– Вадим Сигизмундович, помилуйте, с вашей фактурой зачем вам в массовку? – Режиссер поморщился.
– Я не про то. Я про телезрителей. Вы… мы ведь их обманываем. Им же плохо… – неуверенно пролепетал Успенский.
– Ах, вы об этом. Нууу, голубчик, а кому сейчас хорошо?
«Люди, люди… А что, в конце концов, люди? Не я их обману, так кто-то другой», – размышлял Успенский дорогой домой. «Люди, они ведь как влюбленный Пушкин: „я сам обманываться рад“…» – призвал он на помощь философский опыт. «Ну право же! В конце концов, разве людям можно помочь? Спасение утопающего – дело рук самого утопающего! Каждый сам несет ответственность за свои решения и поступки… Я, по сути, лишь предоставлю им дополнительный вариант выбора: идти к экстрасенсу или не идти, верить – не верить. Но при этом выбор у каждого будет свой, сознательный! Это ведь шоу. Оно так и называется – „телевизионное шоу“! Дураками же надо быть, чтобы принимать шоу за чистую монету!»
Размышляя таким образом, Вадим Сигизмундович отчего-то сильно разнервничался и, приближаясь ко входу в метро, пнул в бок бродячую псину, запутавшуюся под ногами. Удар вышел резким, злым. Успенский тут же разнервничался еще сильнее и даже расстроился. С усилием толкая тугую дверь «подземки», он обернулся на побитую бродяжку, которая немного креном, занося в сторону больной бок, семенила в направлении одной из каменных колонн. Отвернувшись, Успенский издал тихое, но истошное: «Аааа…”, то ли прощая себя, то ли проклиная, и провалился в утробу метрополитена. Долгой дорогой от станции А до конечной станции Б он сидел на коричневом дерматиновом кресле закрыв глаза, запрокинув голову, и думал, думал.
Добравшись до квартиры, он с порога, не разуваясь, не скинув плащ, бросился на кухню и схватил сломанный чайник, который еще утром питал надежду все же починить. С этим предметом в руках он метнулся к мусоропроводу. Выкрикнув: «К чертовой матери!», он швырнул его в грязный мусорный ковш. Чайник не сразу провалился в металлическую кишку, застрял широким круглым днищем в щели между краем ковша и стенкой провода. Тогда Вадим Сигизмундович двинул по нему кулаком: «К чертовой матери» – повторил он при этом со злобным шипением, оставшись стоять на месте, пока брошенный мусор не достиг дна. Отчего-то Успенскому хотелось дослушать, как, грохоча, чайник падает в пропасть. И он слушал, потирая немного саднящие костяшки пальцев, ободранные о край квадратного проема. Через десять минут после этого он уже звонил главному режиссеру, договариваясь о времени и месте подписания контракта.
Спустя две недели Вадим Сигизмундович впервые оказался на съемочной площадке. Ему было приятно ощущать себя объектом внимания. Гримеры, костюмеры, сценаристы – все были обходительны с ним. Осветители направляли на него софиты, операторы – камеры, продюсеры помогали разучивать текст. Он впервые за многие годы, а может, за всю жизнь, почувствовал себя важным и нужным. Вот только противный ворон нет-нет беленился и хлестал его крылами по напудренному лицу. Но куда от него было деться?
В такой почти дружественной атмосфере прошли несколько месяцев, на протяжении которых Успенский все навязчивей, четче, ярче проявлялся на экранах телевизоров по всей стране. Отсматривая выпуски программы со своим участием, он удивленно отмечал, что «потомственный колдун Вадим Успенский» и впрямь довольно харизматическая личность. В черном длинном плаще, высокий и худой, с впалыми щеками и рельефной линией скул, с огненным взглядом и демонической черной птицей на предплечье. «Ну надо же… – шептал Успенский, все еще с сомнением разглядывая себя в зеркале. – Кто бы мог подумать? Оказывается, вон я какой…» И демонстрировал услужливой амальгаме свой горбоносый профиль.
Когда последний день съемок завершился заранее прописанным в сценарии триумфом победителей, а Вадим Сигизмундович даже вошел в их число, он поймал себя на том, что испытывает неявную грусть. Она, как мелкая заноза в ладони, не ныла, но стремилась обнаружить себя. Что-то похожее он испытал последний раз десятки лет назад в летнем лагере, когда пришло время прощаться с пионервожатыми. Они тогда махали маленькому Успенскому своими чудесными, позолоченными солнцем руками, которыми, казалось, могли сделать всё – разобрать палатку, разжечь костер, вскрыть любую жестянку обычным ножом, ударить по струнам. Всё было им по плечу, делалось весело, бесстрашно, а потому их близость отдавалась чувством защищенности и сопричастности. Тогда они улыбались ему своими чудесными белозубыми ртами, а он понимал, что ему предстоит дорога в городские стены в автобусе с пыльным стеклом. К ним же, вожатым, вот-вот приедет вторая смена – дети, которым достанутся эти улыбки, волшебные руки и сопричастность. И сейчас, когда то детское чувство и нынешнее вдруг породнились, грусть его стала отчаянной, как сирота на паперти. Конечно, телевизионщики не во всем походили на тех идеализированных детством персонажей, но все же были у них схожие черты. А главное, они так же кружили Успенского в своем шебутном хороводе, веселом и многолюдном, иногда даже выставляя в круг.
После того, как погасли софиты и «центровой» последний раз провозгласил: «Всем спасибо! Снято!», Успенский осмотрелся по сторонам прощальным взглядом, вздохнул под влиянием обострившейся грусти. «Центровой» подошел к нему сам, протянул прохладную ладонь.
– Ну что ж, Вадим Сигизмундович, давайте прощаться. Вы отлично смотрелись в кадре, спасибо за работу!
– А… – хотел было что-то сказать Успенский.
– А Аида вам сейчас отдадут, – подхватил режиссер. – Зоя, тащи птицу!
– Зачем он мне теперь? – опешил «потомственный колдун».
– Как это зачем? Как же он без вас? Это теперь ваш питомец. Для нас он материал уже отработанный, в кадр больше не возьмем. Да и привык он к вам, привязался.
Успенский с сомнением покосился на Аида и даже потянулся к нему, чтобы проверить эту теорию, но ворон возмущенно каркнул и цапнул его за палец. Отчего-то Вадиму Сигизмундовичу все время казалось, что ворон смотрит на него осуждающе, презрительно. Похоже, что интуиция не обманывала его, но отделаться от пернатого трофея ему не удалось. Последним решающим аргументом в судьбе птицы стало заявление «центрового»: «Вы, Вадим Сигизмундович, не забывайте, что вам по контракту еще три года обязательной работы в магическом салоне предстоят. А ворон по сценарию ваш неотъемлемый колдовской атрибут. Ну и как вы без него морочить людям голову собираетесь?»
Так Успенский притащил Аида сначала домой, а потом переселил в свой кабинет в магическом салоне. Кабинет был небольшим, уютным с виду, но на поверку мало пригодным для комфортного обитания. Тяжелые пыльные шторы скрадывали свет, низкие столик и пуфы скрючивали Успенского в три погибели, свечи коптили. Но главным неудобством этой комнаты было удушливое одиночество, вновь появившееся в его жизни. Это при том, что ему редко доводилось быть здесь наедине с собой, – поток прихожан на его магическими сеансы был довольно плотным, вполне хватало на полный рабочий день. Но эти несчастные, наивные люди лишь обостряли в Вадиме Сигизмундовиче чувство неприкаянности. Он будто ощущал непроницаемую стену между собой и ними, ведь они смотрели на него с надеждой, а ему приходилось врать им в глаза. Так много раз ему хотелось прошептать или крикнуть: «Идите отсюда, бегом, немедленно! В полицию/к хирургу/психиатру/святому отцу…» Но он не кричал: боялся, что о такой выходке прознает администратор салона, а еще хуже – «центровой», и тогда не сносить ему собственной головы. И вместо этого он говорил: «муж ваш вернется», «сын ваш жив», «ваша раковая опухоль рассосется через год и три месяца». Говорил и чувствовал, как стена матереет и высится.
А потом появилась Света. Она напомнила ему телевизионщиков своим напором, деятельностью, поначалу пугающими и не до конца понятными инициативами, вечной суетой. И он впустил ее в свою жизнь под влиянием ностальгии. Очень скоро Света сокрушила все барьеры между ними и прижала Успенского к груди. Давно не знавший женской ласки, он по первости растаял и даже распознал в этом жесте что-то материнское. Но потом нечаянно осознал, что душные Светины объятья не дарят ему умиротворения. Наоборот, утыкаемый носом в ее пышную и зыбучую, как опара, жадную грудь, он испытывает безотчетную тихую панику. Ему мерещилось, что эта женщина – трясина, способная поглотить его целиком, вобрать в себя и разложить на микроэлементы, питающие ее. Но вот парадокс – со Светой ему было лучше, чем без нее. Ведь она, похоже, знала, что делать с его жизнью, а он нет.
Уже завтра тесные тюремные меха, пожевав, выдохнут его на волю, как случайный звук, и он снова попадет в руки этой женщины. Сейчас Успенский уже не понимал, грядущая встреча с ней – повод для радости или печали. Хотя имело ли это значение? Все одно – бунтарство не его конек.
А пока он лежал на нарах и посматривал на потолок поверх бумажной книги «Ванга. Пророчества болгарской целительницы». Света принесла ее и строго-настрого наказала прочесть. Признаться, книга была нудной. Успенский продирался сквозь ее тугие строчки, борясь со сном.
Но тут замок на двери его камеры лязгнул в неурочный час. «Успенский, на выход», – раздался зычный голос. «С чего бы это?» – мелькнул в голове задержанного тревожный вопрос. Его повели не в комнату свиданий, для которых, впрочем, сейчас было не время, а в кабинет. Там, не за столом, но рядом, сидел на стуле здоровый детина с простоватым лицом. Детина махнул корочкой и представился: «Майор полиции Замятин Иван Андреевич».
– Присаживайтесь, – пробасил он, указывая Успенскому на стул рядом с собой.
Около минуты Замятин вглядывался в лицо Вадима Сигизмундовича, а тот в свою очередь разглядывал майора (без вызова, исподтишка): белесые брови на круглом лице, здоровый румянец, глаза светло-голубые, бесхитростные, ручищи – как лопаты. Сидел Замятин подавшись вперед тяжелым корпусом, упираясь локтями в колени, а Успенский напротив него весь вытянулся на стуле, закинул ногу на ногу, руки на коленке сложил, от чего стал казаться длинней и у́же, чем был.
– Что же это вы Вадим Сигизмундович хулиганите? По соборам лазаете, людей концом света пугаете? Не стыдно вам, взрослому человеку, так себя вести? – пожурил его майор.
– Я больше не буду, – по инерции выдал Успенский, поддавшись на тон. Потом выдохнул, приосанился и пояснил:
– Произошло недоразумение, мы лишь хотели провести художественную фотосессию и переборщили с декорациями. Такого больше не повторится… К тому же, я уже понес заслуженное наказание, – после короткой паузы присовокупил он несколько обиженно.
– Вы не телемит случайно? – прищурился Замятин. – Теориями этого, как его, Алистера Кроули, не увлекаетесь?
Вопрос прозвучал неожиданно, но Успенский ответил честно, как на духу:
– Нет. Я даже не уверен, что понимаю, о чем вы…
Майор смотрел на него с сомнением, будто обижая вопросом: «Бесноватый или нет?», и думал.
– Зачем на собор полезли?
– Честное слово, ради удачного кадра!
– Что вам известно про теракты и авиакатастрофы?
– Только то, что они сейчас случаются сплошь и рядом. И больше ничегошеньки, правда. Я про них ради красного словца ввернул…
«Даже и не я ввернул», – добавил он мысленно, вспомнив про Свету.
– Придется мне, гражданин Успенский за вами приглядеть, неспокойно мне как-то от вашего самовыражения. Вы уж ведите себя поскромнее. А то у нас в уголовном кодексе Российской Федерации статья есть 148, «Оскорбление чувств верующих», до трех лет лишения свободы. Так и по этапу пойти можно. Если помните, не так давно был уже один такой громкий случай.
Иван Андреевич попытался изобразить строгий взгляд, получилось неубедительно. Больше смахивало на гримасу человека с острой кишечной болью. Но чувствительный Успенский все равно впечатлился.
На следующий день после этого странного разговора положенные пятнадцать суток истекли и двери тюрьмы наконец отворились. Вадима Успенского пригласили с вещами на выход. Он шагнул на волю и чуть не уткнулся носом в объектив телекамеры. Тут же корреспондентка поднесла к нему микрофон. Рядом с ней были несколько фотографов и журналистов с диктофонами. Чуть поодаль стояла взволнованная Света, показывая ему кулак, что означало: «Работаем, Вадик!» Завидев этот жест, Успенский подобрался, вошел в образ и постарался оправдать возложенные на него надежды.
– Люди, – завел он в той манере, к которой приноровился во время съемок телешоу, – две недели назад я сделал попытку сообщить вам архиважную весть, но силы зла (тут он многозначительно покосился на защитника правопорядка, курившего на крыльце) помешали мне в этом! Мне было видение, в нем явилась сама Ванга и сказала: «Иди, божий посланник, к людям и скажи им, что время третьей мировой, о котором я пророчила, наступает. Пусть готовятся! Она приведет к апокалипсису!»
Успенский отметил, что после этих слов затворы фотоаппаратов защелкали чаще, да и Света, кажется, была довольна, кивнула ему одобрительно. Вновь обретенная свобода, присутствие телекамеры, одобрение Светы – все это придало ему куража. Успех захотелось закрепить, и Успенский заговорил снова.
– А потом мне было еще одно видение – как огромная серая птица разбивается о скалы. Полагаю, это был самолет. По моим подсчетам, трагедия должна случиться уже… ммм… завтра!
Затворы фотоаппаратов продолжали неистово щелкать, телекорреспондентка поднесла микрофон к его губам предельно близко, но вот Света больше не демонстрировала одобрения. Хуже того, она прикрыла лицо рукой и смежила веки. Обычно подобный жест сопровождается словами «все пропало», и Успенский сообразил, что ляпнул лишнего.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.