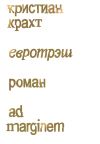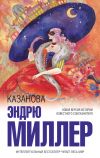Текст книги "Подснежники"

Автор книги: Эндрю Миллер
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 13 страниц)
Глава семнадцатая
В конце концов мы с Паоло, уступив нажиму и банков, и нашего лондонского начальства, отправились на север, чтобы своими глазами взглянуть на производимые Казаком работы. Мы вылетели из смахивающего на скотобойню, обслуживающего внутренние линии аэропорта Шереметьево, самолет не разваливался, как мне показалось, исключительно благодаря клейкой ленте и возлагавшимся на него надеждам. Вид сверху открывался чудесный: северный ландшафт – сосновые леса, припорошенные все еще не желавшим сдаваться снегом, речушки, которые извивались, пенясь, среди деревьев, и море – спокойное и темное.
Ближайший к месту строительства аэропорт находился в Мурманске – городе, в котором выросли, по их словам, Маша и Катя. Я вспомнил об этом, лишь когда мы приземлились. То, что все завершилось именно здесь, представляется мне теперь и правильным, и горьким сразу. Тогда же я просто испытывал волнение, хоть волноваться было уже поздно, поскольку всему пришел конец. А волновался я, думая о том, что увижу парки, на скамейках которых они могли сидеть, улицы, по которым они ходили, картины, составлявшие фон их жизней. Собственно, и дедушка мой навещал этот город в то время, когда здесь располагался ад на земле. Однако о дедушке я почти не вспоминал. На окраине города имелся большой военный мемориал, но я его не посетил. Не нашел времени.
Адрес проектной компании Казака относился, как объяснила нам гостиничная портье, к построенному в давние советские времена району. Это рядом с колесом обозрения, сказала она, – его мы уже увидели вращавшимся на горе у порта. Мы позвонили по номеру, который дал нам Казак, однако трубку никто не снял.
На следующий день мы с Паоло поехали на берег – туда, где, по уверениям Вячеслава Александровича, очень скоро должна была начаться перекачка нефти по протянутым к супертанкеру трубам. Дорога обрывалась в нескольких сотнях метров от моря. Мы вылезли из такси и пошли по ухабистой тропе. Стояла жара, в воздухе тучей вились комары. Мы сняли пиджаки, набросили их на плечи и шли, ругая этих тварей последними словами. На плоской площадке над морем глазам нашим предстала прямоугольная, с покрытым засохшей грязью дном яма размером с корт для игры в сквош – в такой мог бы держать похищенную им девушку злодей из какого-нибудь триллера. Ни малейших признаков трубопровода, супертанкера или нефти мы не обнаружили. Ничего.
Паоло закурил сигарету и вытянул ее в одну затяжку. Мы простояли там минут десять, понемногу осознавая, как здорово нас поимели, – я, во всяком случае, занимался именно этим. А потом вернулись в гостиницу, чтобы напиться.
Обосновались мы в баре – дагестанец бармен и кореянка мадам – на верхнем этаже гостиницы. Пили долго и выпили много. Летом в этих местах светло круглые сутки, и даже в три часа утра мы отчетливо видели рисовавшиеся на фоне сентиментально розовых облачков силуэты похожих на парализованных насекомых портовых кранов и чаек, которые вились вокруг них. На самом деле, говорили мы друг другу, все произошедшее не было нашей виной. Бумажную работу мы проделали безупречно. Ну разве что Казаку предоставили свободу действий, быть может, несколько большую той, какой он заслуживал. Возможно, моя голова оказывалась иногда занятой совсем другими делами. Но ведь мы же не инженеры и не частные детективы – мы всего лишь юристы. По сути дела, согласились я и Паоло, нам просто не повезло, мы оказались открытыми для удара именно в тот момент, когда Кремль изменил правила игры, когда кто-то решил, что месяц за месяцем вести бизнес и получать прибыли – работа слишком тяжкая, куда легче просто взять да и обобрать банки.
И все-таки мы понимали, что запятнали себя до скончания наших дней. Мне теперь о партнерстве и думать было нечего, а Паоло, вероятно, выставят на улицу – и ни бонусов, ни, весьма возможно, Москвы мы больше не увидим. И о неограниченной свободе действий тоже можем забыть.
– Гребаные британские Виргинские острова, – сказал Паоло. Я в это время смотрел вниз, на площадь перед гостиницей, на стоявший там, обгаженный птицами памятник Ленину. – Гребаный Казак. Гребаная Россия.
Зрачки его сузились до размеров налитых злобой черных точек. Впоследствии я немало думал о нем – гадал, к примеру, не был ли Паоло и сам замешан во всем этом. Думал о том, как он вел себя с Казаком, как временами выходил из себя, думал о состоявшемся в канун Нового года совещании в «Народнефти», на котором мы одобрили ссуду, пытался припомнить подробности и слова, на которые не обратил тогда внимания. Однако все это мало что мне дало – во всяком случае, недостаточно для предъявления обвинений.
Мы выпили за нас, за Москву, за прощелыгу президента. Затем Паоло ушел в свой номер, прихватив с собой для уюта одну из пухлых подопечных корейской бандерши. Я же отправился к себе в номер, лежал на кровати, глядя в млечно-белое северное небо. Мне хотелось плакать, но я не плакал.
Несколько часов спустя – точного времени не знаю, однако я все еще был пьян и подавлен, хоть и ощущал странное воодушевление человека, которому нечего больше терять, – я встал, вышел из гостиницы и направился к кранам и к порту. Перешел железнодорожные пути по размалеванному граффити пешеходному мосту и оказался у одного из грузовых причалов. Тут до меня донеслась музыка: невдалеке стояло у воды кафе, и оно было открыто. Плиточные пол и стойка, за стойкой – толстый, с густо татуированными руками мужчина в переднике.
– С добрым утром, – сказал я.
– Слушаю, – сказал он.
– Кофе, пожалуйста.
Он насыпал в чашку чайную ложку «Нескафе», ткнул пальцем в электрический самовар, возвышавшийся в конце стойки. Я налил в чашку горячей воды, помешал ее, сел. В кафе пахло нефтью. Угрожающе гудел древний холодильник.
И тут я вспомнил, что рассказывала мне Маша о своем отце, и спросил:
– Скажите, атомные ледоколы здесь швартуются?
– Нет.
– А где?
– На другой стороне залива. Там особый военный поселок. Секретный.
И подводные лодки тоже там, прибавил он. Ту, что затонула несколько лет назад, как раз туда и отбуксировали, чтобы извлечь из нее разложившиеся тела несчастных ребят. Я видел – ему охота поговорить, но он считает нужным притворяться, будто это не так.
– И «Петроград» там?
– Кто?
– «Петроград». Ледокол.
– Нет. «Петрограда» там нет.
– Ну как же. Я уверен, что есть. То есть… я так думаю… Хотя, может, он раньше там стоял, а теперь его в утиль списали, а?
– Да нет, – ответил толстяк. – Нет там никакого «Петрограда». Я на этой базе двадцать пять лет протрубил. Механиком. «Петрограда» на ней нет и не было.
Я накрыл чашку ладонью. Руки мои дрожали. И мне вспомнился еще один рассказ Маши о ее мурманском детстве.
– А скажите, – попросил я, – колесо – ну, то, здоровенное… – Я ткнул большим пальцем себе за плечо, в сторону горы. – Дорого оно стоило в восьмидесятых? Я хочу сказать – слишком дорого для детей, не каждый ребенок мог на нем прокатиться, так?
– Да его там в восьмидесятых и не было, – ответил толстяк. – Колесо поставили в девяностом. Последнее, чем осчастливила нас советская власть. Я это помню, потому что женился в том году. И после загса мы пошли кататься на новом колесе.
С секунду он смотрел в пол, словно перебирая какие-то воспоминания – любовные или горестные, сказать не могу.
– Прокатиться на нем за двадцать копеек можно было, – прибавил толстяк, – но в восьмидесятых его там не было.
«Народнефть» сняла с себя какую-либо ответственность за аферу Казака, сославшись на то, что обещала лишь перекачивать нефть и платить налоги – после того, как будет построен причал. Вывод своих акций на нью-йоркскую биржу она отложила. Разного рода министерства, в которые мы обращались, посылали нас на хер – в менее, впрочем, благовоспитанных выражениях. О Вячеславе Александровиче мы ничего больше не слышали. Скорее всего, люди Казака просто перевербовали нашего инспектора, – вероятно, при первом его исчезновении, после которого он представил нам лживый отчет. Может быть, припугнули или соблазнили деньгами или женщинами, а скорее всего, и то, и другое, и третье. Я его винить не могу. Нашу компанию утешало лишь то, что арктическую катастрофу, которую она потерпела, вскоре заслонили российские новости еще и худшего толка: крупные экспроприации в Москве, танки на Кавказе, страхи и вражда, которые словно изливались из Кремля, затопляя Красную площадь, а за нею и всю нищую, оглушенную Россию. Мы удостоились нескольких абзацев в «Уолл-стрит джорнал» и «Файнэншл тайме» плюс почетного упоминания в статье Стива Уолша о наивных банкирах и нравах Дикого Востока.
Вскоре после случившегося с нами русские снова не поделили что-то с американцами, Кремль отложил выборы, и большая часть московских иностранцев начала поглядывать в сторону аэропортов. Я думаю, впрочем, что Паоло остался бы в Москве, если бы наша компания не уволила его в надежде умиротворить банкиров. Насколько мне известно, он обосновался в Рио.
Меня же не уволили, но отозвали в Лондон и со всевозможным тактом перевели, как тебе известно, в корпоративный отдел нашего головного офиса, чтобы я просиживал штаны в подвалах покупаемых или продаваемых кем-то компаний, просматривал документы и никогда, ни при каких обстоятельствах не заговаривал с клиентами, – это примерно то же, что перевод полицейского детектива обратно в регулировщики уличного движения. Я вернулся к тусклой жизни, каковую теперь и веду. Старые университетские знакомые, которые водятся со мной лишь из чувства долга или потому, что им не хватает духу дать мне от ворот поворот. Работа, которая меня убивает. Ты.
Думаю, я мог бы уволиться из компании и как-то зацепиться в Москве – попытаться, скажем, найти работу у какого-нибудь многообещающего стального магната или алюминиевого барона, – мог бы, если бы у меня все еще была Маша. Я знал, что она, в сущности, не любила меня – не могла любить. Но наверное, продолжал бы тянуть прежнюю лямку, встречаясь с нею два раза в неделю, приводя ее к себе, сознавая, что другого или лучшего меня не существует, что я и подался бы куда-то еще, но прикован к Москве тяжкой инерцией приближающейся поры среднего возраста. Не думаю, что меня так уж сильно тревожили бы мысли о том, многое ли в рассказах Маши о себе было правдой, – и даже о том, что она натворила. И без Татьяны Владимировны я как-нибудь прожил бы. Наверное, даже сумел бы забыть о ней. И потому, на мой взгляд, Маша оказалась в конечном счете лучшим, чем я, человеком. У нее было оправдание – Сережа. И она, по крайней мере, вела себя, как человек, понимающий, что он совершает зло. Не знаю, кто там был у них главным, но надеюсь, Маша получила достойную долю того, что они прибрали к рукам.
За пару дней до моего отъезда из России я снова пришел к старому дому Татьяны Владимировны. Пришел в последний раз и, если говорить честно, скорее из ностальгии, чем по причинам нравственным и благородным. Как обычно, я стал беспорядочно набирать на дверном переговорном устройстве номера разных квартир, и в конце концов кто-то впустил меня в дом. Я поднялся по лестнице к двери ее квартиры. Дверь оказалась обитой бордовой кожей, которой я прежде на ней не видел, а над верхним левым ее углом была закреплена неторопливо поворачивавшаяся камера наблюдения, которая провожала меня, приближавшегося к двери, словно собираясь пронзить лазерным лучом. Я нажал на кнопку звонка, услышал шаги, почувствовал, что меня разглядывают через глазок, услышал три-четыре поворота ключа и лязг сдвигаемого засова.
Мужчина был в шелковом кимоно, с зеленой косметической маской на лице – поначалу я его не узнал.
Я начал:
– Извините, пожалуйста… – И умолк, пытаясь понять, где же я его видел. Видел точно, но где, вспомнить не мог. Может быть, на работе, думал я, или на каком-нибудь приеме – скажем, на одном из коктейлей, которые английское посольство устраивает в день рождения королевы.
– Да?
– Извините, пожалуйста…
Мы стояли у двери, он ждал, когда я закончу уже дважды начатое мной предложение, и я видел, как выражение скуки сменяется на его лице выражением не сильного, но беспокойства. И тут я вспомнил. Это был тот самый мужчина в шикарном пальто, с которым я столкнулся несколько месяцев назад у Татьяны Владимировны, – я тогда только-только вошел в ее квартиру, а он уходил. Подстрижен он был, как и в тот раз, безупречно. Взглянув поверх его шелкового плеча, я увидел, что вывезенная из Сибири люстра исчезла, а стены коридора окрашены зеленой, как трава, краской. Впрочем, неизбывный паркет остался на месте. Я слышал звуки текущей из крана воды и лившейся из радиоприемника музыки. И подумал: «Они продали ее еще до того, как купили».
– Я хотел спросить, не известно ли вам, где сейчас старая женщина, которая жила здесь прежде? Татьяна Владимировна?
– Нет, – ответил мужчина. – Не известно. Извините.
Он улыбнулся и неторопливо закрыл дверь.
Я вышел из дома, постоял немного у пруда. И решил еще раз – последний – набрать Машин номер. Я услышал длинные гудки, гудки, гудки, но автоматического сообщения о том, что абонент недоступен, не получил. Гудки, гудки, гудки – и неожиданно она ответила.
– Алло? – Нетерпеливый, говорящий, как это принято у русских, «время – деньги», голос.
Не Машин – мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, кто это. Катя.
– Алло?
– Катя?
Она замолчала. Где-то на другой стороне пруда, рядом с гревшимися на солнце фантастическими животными, со звоном разбилась бутылка. Думаю, на Машиной сим-карте остались какие-то деньги и девушки не захотели терять их. Решили, скорее всего, что я или кто-то еще, с кем они не желали разговаривать, уже устал набирать этот номер и потому можно снова без опаски активизировать его.
– Катя, это я, Коля.
Какое-то время она продолжала молчать, но затем:
– Да, Коля.
– Как ты?
– Нормально.
– Я могу поговорить с Машей?
– Нет, Коля. Невозможно. Маша уехала.
– Повидаться с Сережей? – спросил я и не узнал своего голоса. – Она поехала к Сереже?
– Да, Коля. К Сереже.
Я не обдумал толком того, что собирался сказать, – и что хотел выяснить. И понял: Катя сейчас прервет разговор.
Поэтому начал я с самого начала:
– Почему именно я, Катя? Почему ваш выбор пал на меня?
Катя снова помолчала, пытаясь, я полагаю, сообразить, стоит ли говорить мне правду, во что это может ей обойтись. И должно быть, решила, что ничего я им сделать не смогу.
– Ты слишком долго смотрел на нас, Коля. Тогда, в метро. Мы поняли, что с тобой будет не сложно. У нас имелись в запасе и другие возможности. Но потом выяснилось, что ты юрист. Это оказалось нам на руку, было очень полезным. Да еще и иностранец. Но мы могли выбрать и кого-то другого. Нам просто требовался человек, которому она поверила бы.
– И это все? Я говорю о Маше. Все сводилось к моей полезности?
– Может, и нет, Коля. Может, и нет. Я не знаю. Прошу тебя, не надо об этом.
Голос ее был прежним, наполовину детским, только очень усталым.
– Дело есть дело, – сказала она. – Понимаешь?
– А деньги? – спросил я. – Зачем вы забрали мои деньги?
– Так почему же их было не забрать?
Странно, но сердит я был вовсе не так, как мне хотелось бы.
– Когда я увидел тебя в узбекском ресторане – помнишь, зимой? – почему ты не хотела, чтобы Маша узнала об этом?
– Боялась, что она разозлится. Решит, что ты нас раскусил. А когда она злится, мне приходится туго.
– Вы с ней действительно двоюродные сестры, Катя? И действительно из Мурманска? Кто такой Степан Михайлович?
– Это не имеет значения.
У меня остался только один вопрос.
– Где она? – спросил я. – Где Татьяна Владимировна?
И трубка сразу умолкла.
Во второй половине моего последнего дня в России, последнего из четырех с половиной лет, которые казались мне целой жизнью, я отправился на Красную площадь. Прошел по бульвару, миновал летнее кафе и пивные тенты площади Пушкина. Спустился по Тверской к подземному переходу под безумной шестиполосной автомагистралью. В него тощей струйкой стекала небольшая компания несгибаемых коммунистов с кустистыми бровями и драными, украшенными серпом и молотом флагами, направлявшаяся к автосалону «Феррари» и памятнику Марксу, чтобы провести там митинг. Я увидел сотни три омоновцев, по большей части сидевших в смешных раздолбанных автобусах, в которых они всегда разъезжают, – лишь некоторые из них курили снаружи, лениво постукивая дубинками по щитам. Мужчина, выглядевший как пародия на Ленина, фотографировался с китайскими туристами.
Я прошел под арку. Впереди показались фантастические купола храма Василия Блаженного. Высоко над ацтекским мавзолеем наливались под солнцем кровью колоссальные звезды кремлевских башен. Был самый разгар лета, но уже чувствовалось, что где-то за Москвой-рекой набирается сил, готовясь к возвращению, зима. Сквозь тепло словно прорастал холодок. Я постоял в центре площади, смакуя и воздух, и само ощущение столицы, – пока меня не прогнал милиционер.
Ты хотела знать, почему я не рассказывал тебе о России. Главным образом, потому, что она казалась мне такой давней и далекой – прежняя моя жизнь без ремня безопасности, слишком сложная, чтобы описать ее кому-либо, слишком личная. Думаю, то же самое можно сказать и о жизни любого из нас. Где б ты ни обитал, в Чизике или в Гоморре, никто, кроме тебя самого, прожить твою жизнь не сможет, а попытки изобразить ее словами имеют лишь ограниченный смысл. И мне – отчасти из-за того, чем она закончилась, – казалось самым лучшим похоронить ее. До последнего времени я не думал, что смогу рассказать тебе всю мою историю, – ну и помалкивал.
Однако дело не только в этом. Поскольку я честен с тобой – или стараюсь быть честным, – поскольку говорю тебе почти все, мне следует назвать и еще одну причину. И может быть, главную. А ты уж решай, как тебе с ней поступить.
Конечно, когда я вспоминаю все, меня охватывает чувство вины. Но и другое чувство, куда более сильное, – утраты. Вот оно мучает меня по-настоящему. Я скучаю по тостам и снегу. По неоновому свету, заливавшему в полночь бульвар. По Маше. И по Москве.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.