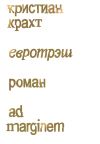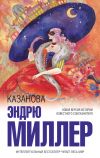Текст книги "Подснежники"

Автор книги: Эндрю Миллер
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
Глава одиннадцатая
Где-то в середине февраля Татьяна Владимировна еще раз съездила в Бутово, кажется, в сопровождении Кати. Я увиделся с нею и с девушками сразу после их возвращения оттуда, когда мы отправились в раскинувшийся над замерзшей Москвой-рекой парк Коломенское, чтобы покататься на лыжах. Ты, наверное, думала, что на лыжах я стоять не умею, верно? И была совершенно права.
Мы оставили Татьяну Владимировну в грязноватом кафе у входа в парк – угощаться чаем с блинами. Маша и Катя принесли лыжи с собой, они были подлиннее и поуже тех, что запомнились мне с университетских еще времен, когда я провел неделю на горнолыжном курорте (пьяное веселье, использование умывальной раковины нашего шале в качестве унитаза, растянутая лодыжка). Я же получил в стоявшей за воротами палатке лыжи прокатные К этому времени снег, сгребавшийся на моей улице к ограде церкви, начал напоминать твой любимый многослойный итальянский десерт: беловатый сверху, кремовый пониже, затем слой в желтых пятнах, словно на него аккумулятор протек, затем ощетинившийся всякой дрянью (разбитыми бутылками, пластиковыми пакетами, разрозненными, выброшенными за ненадобностью башмаками – все это в беловатой, затвердевшей, пропитанной песком лаве) и, наконец, – основание из зловещей черной мути. Однако в Коломенском снег пока оставался белым, до глупого белым. Под верхним пушистым, дюймовым примерно, слоем он был жестким, слежавшимся, и падать на него, а я проделывал это при каждом спуске со склона или подъеме, было больно. Пару раз с меня слетали очки, и мне приходилось, чтобы найти их, шарить в снегу руками в меховых перчатках.
Маша с Катей словно на лыжах и родились – скользили с такой же естественностью, с какой ходили на высоких каблуках или танцевали. Когда я падал, они смеялись, но замедляли ход, чтобы я мог их нагнать. В парке стояла посреди дубовой рощицы деревянная беседка, построенная, предположительно, самим Петром Великим, и старинный храм, возведенный в честь – как это здесь принято – какой-то загадочной победы над поляками. Храм был закрыт и окружен строительными лесами, его ремонтировали, – впрочем, с горизонтальных дощатых лесов свисали длинные, походившие на ожерелье из моржовых бивней, сосульки. По парку разъезжал в запряженных тремя белыми лошадьми санях с бубенцами мужчина – предлагал желающим покататься. Девушки были в лыжных костюмах: тонкие непромокаемые штаны и облегающие куртки. Я же, одетый слишком тепло, скоро весь взмок. Впрочем, когда мы поднялись на гребень, шедший вдоль затаившегося в безлиственном лесу замерзшего пруда, я мигом забыл об этом. Зрелище было ошеломительно прекрасное.
Когда мы вернулись в кафе, девушки поочередно удалились в уборную, чтобы переодеться в джинсы и причесаться, а я тем временем сидел, оттаивая, с Татьяной Владимировной.
– Вы хорошо справляетесь, Коля, – сказала она, когда мы, все четверо, расположились наконец за столиком. – Скоро станете одним из наших. Настоящим русским.
– Может, на лыжах он стоять и не умеет, – сказала Маша, – зато баню любит.
Она взглянула на меня и улыбнулась уголком рта. То была улыбка плотского торжества. Я покраснел.
Татьяна Владимировна рассказала о своей поездке в Бутово. Ей как-то не показалось, что над ее квартирой серьезно поработали, сообщила она. Впрочем, Степан Михайлович объяснил, что рабочие занимались электропроводкой, а самое главное, сказала Татьяна Владимировна, когда повсюду лежит снег, там так хорошо, так хорошо: протоптанные в снегу тропинки вьются среди деревьев и вокруг озера – в лесу, который растет напротив ее дома.
Во времена ее детства, продолжала Татьяна Владимировна, в деревне, еще до переезда в Ленинград, они сами делали себе лыжи из древесной коры. И много чего мариновали на зиму в больших бутылях: капусту, свеклу, помидоры; а в ноябре резали свинью, мяса которой семье хватало почти до весны. Семья была бедной, рассказывала она, но не догадывалась об этом. А я вдруг увидел на ее верхней губе светлые волоски, которых раньше не замечал. И подумал: может, она их обесцвечивала?
– Знаете, – сказала она, – из окна бутовской квартиры видна церковь. Вам известно, что это за церковь, Коля?
Я видел церковь, о которой говорила Татьяна Владимировна, – белые стены, золоченые купола, – но не знал, в честь какого святого или царя ее возвели.
– Это церковь особенная, – сообщила старушка, – построенная в память о людях, убитых при Сталине. Говорят, в том месте двадцать тысяч человек расстреляли. А может, и больше. Точно никто не знает… Я не такая верующая, какой была моя мать, веру мы утратили в Ленинграде. Но по-моему хорошо, что я смогу видеть из моего окна этот храм.
Я не знал, что сказать. Маша и Катя тоже молчали. Окна кафе сильно запотели, покрылись потеками.
И вдруг Татьяна Владимировна спросила:
– Скажите, Коля, вам хочется иметь детей?
Не знаю почему, может быть, причина была как-то связана с тем, что жизнь продолжается, – или следует хотя бы верить в это, – но ее вопрос показался мне естественнейшим образом связанным со «сталинской» церковью и общими могилами. Я старался не смотреть в сторону Маши, но чувствовал, что лицо ее чуть отвернуто от меня и что она не отрывает глаз от своей чашки с чаем.
– Не знаю, Татьяна Владимировна, – ответил я. – Наверное.
Вообще-то, я сказал неправду. На моих ставших отцами знакомых я всегда смотрел, ощущая смесь презрения с животным ужасом. А за их детьми, ползавшими по полу и хватавшимися за что ни попадя, за целеустремленными, но какими-то бессвязными, черепашьими движениями этих младенцев наблюдал, и вовсе никаких чувств не испытывая. Ты не беспокойся, сейчас все иначе. Я знаю, ты хочешь детей, и это дело решенное.
А в тот день я, не задумываясь, произнес слова, которые, казалось мне, хотела услышать Маша, – как хочет большинство женщин. Если бы она сказала тогда, что беременна, я, пожалуй, решился бы сохранить ребенка, может быть, даже обрадовался – не самому ребенку, но мысли, что отныне мы с ней связаны навсегда. И в то же время, я гадаю сейчас, не знал ли я, в самой глубине души, что счастливый конец нам не уготован, что на самом-то деле больше всего мне нравится в ней умение жить настоящей минутой. Думаю, я видел, что в ней чего-то не хватает – или присутствует что-то лишнее, – хоть и старался этого не замечать.
– Я хочу детей, – сказала Катя. – Шестерых. А может, и семерых. Но только когда покончу с учебой.
Ну что за простая душа, подумал я, открытая книга, волшебная, просто-напросто сказка.
– А вот Машу, – любовно произнесла Татьяна Владимировна, – я себе матерью не представляю.
– Я тоже хочу детей, – отозвалась, так и не подняв глаз, глухо и напряженно, Маша. – Но только не в Москве.
– Машенька, – сказала Татьяна Владимировна и коснулась одной рукой моей ладони, а другой Машиной, – если я и хотела бы что-то изменить в моей жизни, так именно это. Нам с Петром Аркадьевичем не посчастливилось, – разумеется, у него было столько работы, и жизнь мы с ним прожили хорошую, но под конец…
– Хватит об этом! – выпалила Маша и отняла у нее свою ладонь.
Глаза Татьяны Владимировны перебегали с Маши на меня и обратно. Пол под нашими ногами стал скользким от растаявшего снега.
Мы заказали водку и «селедку под шубой» (соленую рыбу под слоем свеклы и майонеза). Начался разговор о том, что уже сделано для квартирного обмена.
Я сказал, что все вопросы, связанные с правами собственности, вроде бы улажены. Что все необходимые нам документы мы сможем получить в течение следующей недели.
– Спасибо, Николас, – сказала Татьяна Владимировна. – Большое вам спасибо.
Дальше разговор пошел о деньгах.
По-моему, денежные вопросы они обсуждали в моем присутствии впервые. Маша сказала, что, поскольку квартира в Бутове стоит меньше, чем та, в которой живет Татьяна Владимировна, Степан Михайлович готов заплатить ей пятьдесят тысяч долларов. (Тогда в Москве все, в том числе и взятки, исчислялось в долларах, по крайней мере, если речь шла о серьезных деньгах, хотя любые юридически законные сделки оценивались в рублях.)
Однако пятидесяти тысяч долларов было маловато. Такие, как у Татьяны Владимировны, расположенные в центре квартиры пользовались немалым спросом и у купавшихся в нефти иностранцев, и у богатых русских, норовивших селить любовниц поближе к своим офисам. В Москве можно было найти отнюдь не одну бутылку вина, стоившую почти столько же, сколько предлагал Степан Михайлович, и немало людей, жизнь которых стоила намного меньше. Впрочем, Татьяне Владимировне пятьдесят тысяч долларов представлялись чем-то таким же потрясающим, как двадцать тысяч человек, лежавших, один пласт на другом, под снегом Бутова.
Поначалу старушка вообще сказала – нет, она просто не понимает, что ей делать с такими деньгами. Потом согласилась: это верно, пенсии ей не хватает, да ее никому не хватает, – хотя, с другой стороны, она кое-что скопила за годы работы, к тому же государство платит ей пособие как участнице Ленинградской блокады и еще кое-что за вклад ее мужа в успехи теперь уже не существующей страны Советов. И все же было бы замечательно иметь возможность съездить как-нибудь в Петербург…
– Вот и возьмите эти деньги, – сказала Маша.
– Возьмите, – сказала Катя.
– Татьяна Владимировна, – поддержал их я, – по-моему, вам следует взять их.
Она обвела наши лица взглядом, хлопнула в ладоши и сказала:
– Возьму Глядишь, еще и в Нью-Йорк махну! Или в Лондон! – И подмигнула мне.
Мы рассмеялись, подняли рюмки.
– За нас! – сказала Татьяна Владимировна и одним глотком осушила свою. Потом улыбнулась, и тонкая кожа, все еще обтягивавшая ее высокие русские скулы, на миг показалась мне точно такой же, как у счастливой молодой женщины с крымской фотографии 1956 года.
В тот февраль – примерно за две недели до приезда моей матери – меня сразила убийственная московская простуда. Симптомы ее являлись ко мне по одному, будто музыканты, исполняющие каждый свое соло, прежде чем соединиться в финале музыкального произведения: сначала потекло из носа, затем засаднило в горле, следом заболела голова, а уж потом я свалился. Маша выписала мне рецепт: мед, коньяк и никакого орального секса. И я провел два-три дня в постели, просматривая без всякого воодушевления DVD с американскими фильмами, слушая пробивавшийся сквозь окно скрежет лопат о лед, лязг допотопных мусоровозов и доносившийся с лестницы скорбный мяв Джорджа.
Когда я вернулся в офис на Павелецкой, наша татарочка Ольга присела на краешек моего рабочего стола и перебрала вместе со мной все, какие у нас к тому времени скопились, документы, касавшиеся квартиры Татьяны Владимировны. В одном говорилось, что приватизация квартиры была проведена в соответствии с законом. Другой удостоверял, что правом жить в квартире никто, кроме нее, не обладает. В одной из бумаг рядом с именем Татьяны Владимировны стояло имя ее мужа, но кто-то вычеркнул его и оттиснул поверх слово «скончался». У нас имелся также технический паспорт с указанием размеров комнат, общего плана квартиры, подробностей насчет водоснабжения, канализации и электропитания. Документы пестрели печатями, как абстрактная картина пятнами краски. Столько бумажек, подумал я, а квартира ей все-таки по-настоящему не принадлежит. Ничто в России не принадлежит человеку по-настоящему. Царь, или президент, или кто-то другой, стоящий у власти, может, если захочет, вмиг отнять у него все, в том числе и жизнь.
– Что нам еще потребуется? – спросил я у Ольги.
– Только бумага о праве собственности, ее выдает отдел регистрации этих прав. Ну и старушке придется получить у врача справку о том, что она не алкоголичка и не слабоумная.
Последнее необходимо, пояснила Ольга, потому, что русские иногда продают свои квартиры, а несколько месяцев спустя заявляют, будто сделали это под воздействием наркотиков или в состоянии опьянения либо помутнения рассудка, и требуют аннулировать продажу и вернуть им квартиру Или вдруг объявляется какой-нибудь всеми давно забытый племянник и подает подобного рода жалобу от их имени. В российском суде можно доказать все что угодно, были бы деньги, однако справка из поликлиники делает такие фокусы более затруднительными.
Я сказал ей, что она ангел.
– Не такой уж и ангел, – ответила она, и в голосе ее прозвучала скорее печаль, чем стремление пококетничать со мной.
– А что с квартирой в Бутове?
– С ней мы тоже неплохо продвинулись. Дом построен самым законным образом, на территории, которая находится в ведении правительства Москвы. В квартире старушки, в двадцать третьей, никто не прописан. К канализации, водопроводу и электросети дом подключен. Принадлежит он компании «Мосстройинвест».
Я сказал, что, по моим сведениям, квартира принадлежит Степану Михайловичу.
– Может быть, «Мосстройинвест» – это его компания, – ответила Ольга.
Она помахала перед моим носом пачкой документов, точно приманкой, и спросила:
– Так когда мы коктейли пить пойдем?
Я вспомнил о том, что сказал мне Паоло вскоре после моего приезда в Москву. Он сказал, что у него имеются для меня две новости относительно жизни иностранного юриста в России: хорошая и плохая. Плохая заключается в том, что здесь существует несметное множество бессмысленных, туманных и противоречащих один другому законов. Хорошая – в том, что никто не ожидает от тебя их соблюдения. И я подумал: наверняка же найдется возможность обойти «Мосстройинвест» стороной.
– Скоро, – ответил я и протянул руку к документам.
Помню, в тот день Сергей Борисович, вернувшийся из Таиланда, где он провел зимний отпуск, продемонстрировал нам презентацию в PowerPoint – сделанные им там фотографии. Мы считали себя большими молодцами – во всяком случае, в том, что касалось бизнеса. Документы, обеспечивавшие перевод Казаку второй части ссуды, были нами подписаны, а согласно нашему инспектору, Вячеславу Александровичу, если работы будут вестись такими же, как сейчас, темпами, вскоре можно будет перечислить и третью. Казак прислал нам большую корзину живых крабов (выловленных, по его уверениям, на месте строительства причала). Поглядывая в окно моего кабинета, я видел людей в оранжевых жилетах, очищавших от снега кровли домов на другой стороне площади, – ползая по скатам крыш, подбираясь к самым их краям, к водосточным трубам.
Центральное отопление прогрело мою спальню, точно печную топку. Я приоткрыл окно, чтобы впустить немного холодного воздуха, задернул шторы. Маша сидела на мне верхом, вдавив кулачки в мою грудь, глядя в стену, – сосредоточенная, дышащая, как бегун на среднюю дистанцию.
Мы не виделись больше недели. Я болел, а она, как я полагал, куда-то уезжала на несколько дней, поскольку, звоня ей, я неизменно попадал на голосовую почту. Впрочем, когда я спросил об этом, Маша сказала, что все время была в Москве. Внезапно я вспомнил то, что сказала Ольга, и решил выяснить все в точности.
– Что такое «Мосстройинвест», Маша?
– Как?
– Что такое «Мосстройинвест»?
Маша перестала раскачиваться и изгибаться, но дышала все еще тяжело.
– Не знаю, – ответила она.
– Этой компании принадлежит квартира в Бутове, – пояснил я. – Квартира Татьяны Владимировны.
Она соскользнула на постель, вытянулась рядом со мной на спине, уставилась, как и я до этого, в иероглифические линии на моем потолке. Тела наши не соприкасались.
– «Мосстройинвест»… наверное, это компания Степана Михайловича. Или – как это у вас называется? – мужа одной из его сестер.
– Зятя.
– Да, компания его зятя. Да, думаю, это так.
– Лучше все-таки знать наверняка, – сказал я. – Иначе у Татьяны Владимировны могут возникнуть проблемы.
В те дни проблем с российскими строителями возникало много. Иногда они распродавали все квартиры строившегося дома и исчезали, не завершив строительство, а покупатели, протестуя, разбивали палаточные лагеря и жгли по ночам костры перед зданием правительства – Белым домом, стоящим неподалеку от гостиницы «Украина».
Маша немного подумала, отвернувшись от меня, зарывшись лицом в подушку. Шея ее покраснела. Мои пальцы оставили на ее спине красные отпечатки.
– Никаких проблем не будет, – сказала она, повернулась на другой бок, лицом ко мне, зажала мою ладонь между своими и взглянула мне в глаза.
Ее глаза были зелеными, как джунгли. Кожа выглядела совсем молодой, тело было крепким, тугим, мускулистым, точно у танцовщицы или боксера.
– И знаешь, Коля, – сказала она скорее холодно, чем ласково, – мы ведь просили тебя только об одном – подготовить документы на продажу квартиры Татьяны Владимировны. Другими документами, бутовскими, занимался Степан Михайлович. Тебе о них думать незачем. Они уже готовы. Твое дело – подготовить эти документы и сказать Татьяне Владимировне, что они в полном порядке. Вот и скажи ей об этом.
Я молчал. Маша притронулась ко мне.
– Возвращайся, – сказал я.
Тем разговор и закончился, однако оба мы понимали, что это значит. Я предпочел поверить ей. Встать на ее сторону.
– Ладно, – ответила она – и возвратилась.
Она была особенной женщиной, Маша. Я должен сказать тебе об этом. Такая способность бить в одну точку, такое владение собой. Уверен, из нее мог получиться великий хирург. Или, в другую эпоху, замечательная монахиня. Или актриса – Маша могла стать великой актрисой. Да она и была великой актрисой.
Когда я снова пришел на Чистые пруды, там скользили по льду конькобежцы. У Татьяны Владимировны я застал незнакомого мужчину, он уже уходил. Лет сорока с небольшим, приятной наружности, в прекрасном замшевом пальто. Банкир, сразу решил я. Один из его пальцев, довольно коротких, украшал перстень с печаткой, а сам он выглядел только что побывавшим у дорогого парикмахера. От него просто-напросто пахло деньгами. Катя, уже в прихожей, попробовала пококетничать с ним: улыбалась, поворачивалась так и этак, выпячивала грудь. Мужчина сказал мне по-русски: «Добрый вечер», поднял воротник пальто и вышел из квартиры. На мой взгляд, он не походил на человека, у которого могли иметься причины навещать Татьяну Владимировну.
– Кто это? – спросил я, разуваясь.
– Не знаю, – ответила Катя и засмеялась.
И сразу же появилась Маша – в одних носках скользнула ко мне по паркету, схватила меня за руки и сказала:
– Ребятки, пошли блины есть!
Россия отмечала Масленицу, наполовину языческий праздник, как-то связанный с Великим постом, как-то, предположительно, с концом зимы, – в этот день в церквах звонят колокола и всем полагается есть блины. Мы трое расположились на кухне и принялись уплетать их со сметаной и красной икрой. Рамы кухонных окон были заклеены, чтобы не пропускать холод, липкой лентой – старая сибирская привычка, решил я, от которой старушка так и не сумела избавиться. Не обошлось, разумеется, и без тостов.
– Почти все документы на вашу квартиру уже у меня, – уведомил я Татьяну Владимировну.
– Огромное спасибо, – сказала она и расцеловала меня в обе щеки.
– Коля и документы на квартиру в Бутове тоже скоро подготовит, – сообщила, не глядя на меня, Маша.
– Замечательно, – сказала Татьяна Владимировна.
Я улыбнулся и счел за лучшее промолчать.
Глава двенадцатая
– Я хочу познакомить тебя с моей матерью, Маша.
– Что?
– На следующей неделе она приедет в Россию. В четверг я встречу ее в Санкт-Петербурге, а в воскресенье привезу в Москву. Она пробудет здесь до вторника. Я хочу познакомить вас.
– Зачем?
Этого я и сам не понимал. В более позднее время мне ведь и тебя захотелось познакомить с ней (хотя я знаю, ты так до конца и не уяснила, почему ее мелочность так сильно действует мне на нервы, что, как я полагаю, характерно для отношений многих людей с их родителями). Но с Машей все было иначе. Она почти не расспрашивала меня о моей семье, и не думаю, чтобы воображение мое хотя бы раз попыталось нарисовать картину, на первом плане которой фигурировали бы и Маша, и мои родители. Вероятно, отчасти идея этого знакомства объяснялась желанием похвастаться, показать матери, насколько полна моя жизнь в России – без нее и без всех прочих. Отчасти же я, быть может, хотел утихомирить ее, предъявить Машу как свидетельницу моего довольства собой, а следовательно, и скромности маминого родительского успеха. Нельзя, впрочем, исключить и другое: я надеялся, что Маша как-то не так оденется, скажет что-нибудь неуместное или слишком много выпьет, разозлит мою мать, а то и оскорбит ее, на что у самого у меня не хватало духу. А может быть, мне просто хотелось, чтобы мать разделила со мной грязное пятно, которое, как я подсознательно понимал, ляжет на меня в скором уже времени. Маше же я, наверное, пытался сказать этой встречей: смотри, я ничего не утаиваю, вот из какой среды я вышел и частью какой все еще остаюсь, но ты не тревожься, она уже больше не моя – я перешел Рубикон, и ты сама видишь, насколько я от него удалился.
– Всего один час, Маша, – сказал я. – Пожалуйста. Тебе это ничего стоить не будет.
– Ладно, Коля, – ответила она. – Я с ней познакомлюсь.
– Спасибо. Я твой должник.
– Договорились.
Сомневаюсь, что ей и вправду так уж хотелось ехать в Россию. Думаю, ее поразил последний приступ материнской тревоги, которую мама должна была, предположительно, ощущать. Возможно, причиной тревоги стали всякого рода плохие новости, начавшие поступать из России: бомбы в московском метро, загадочные взрывы на газопроводах, история, приключившаяся с вертолетом бывшего министра финансов. Мне и хотелось бы, чтобы некие живущие в параллельном мире, повзрослевшие Ник и Розмари смогли обсудить все по-честному, признались, что они любят друг дружку, пусть и каждый по-своему, и сошлись на том, что это окажется перебором: пять дней, сто двадцать часов, в которые им будет почти не о чем разговаривать, хоть они и могли бы поговорить очень о многом, – если бы решились на это или дали себе такой труд. Однако они не решились, и в начале марта мама приехала в Россию, чтобы повидаться со мной.
Я встречал ее в петербургском аэропорту. В том мгновении, когда ты видишь, как из глубин аэровокзала выходят толпой счастливые, совершенно посторонние люди, прилетевшие сюда по воздуху и уцелевшие, всегда присутствует нечто от милости божьей, не правда ли? – и одновременно есть что-то завидное, мучительное для тебя в том, как они обнимаются с родными, некоторые даже плачут, а затем берутся за руки и возвращаются к своей жизни, о которой ты ничего не знаешь. В конце концов и мама вышла ко мне вместе с другими британскими туристами. Мы поцеловались – неловко, будто политики на встрече в верхах, потом я нашел машину и мы поехали в город. Водитель, с которым я немного поболтал дорогой, оказался отставным полковником. Он сказал, что, если мне это интересно, у него сохранились хорошие связи в ведомстве, которое занимается распродажей списанного армейского обмундирования.
Я заблаговременно снял для нас номер в гостинице, которая стоит в самом конце Невского проспекта, – одной из советских еще гостиниц размером в город: тысячи номеров, кегельбан, казино, пустующие кафе на каждом этаже и публичный дом в подвале. В фойе, когда мы вошли, сидели за кофейными столиками, беседуя, штатные гостиничные проститутки. Портье заставил меня заплатить за обе ночи вперед – разумная, если учесть состояние номеров (электрические провода, свободно, на манер телеграфных, свисающие с потолка, ванные комнаты без раковин, с подозрительно влажными ковриками), предосторожность. Мама сказала, что перелет ее утомил, поэтому ужинать мы отправились в гостиничный ресторан. Она заставила меня спросить, свеж ли лосось, предложенный меню, и официантка ответила: «По второму разу не замораживали». В середине зала сидела компания третьеразрядных мафиози с вихлястыми девицами, мужчины то и дело выталкивали их из кресел, чтобы они танцевали одна с другой между столиками, и грозно требовали от официанток включить музыку.
Ночью кто-то раз за разом звонил в наш номер и спрашивал, не скучаю ли я, не хочу ли познакомиться с красивой женщиной? Часов около трех я снял с аппарата трубку и после спал до позднего санкт-петербургского утра – его северный свет создает у человека уже проснувшегося ощущение, что он ходит во сне, или наоборот: что он встал, хоть на самом деле он продолжает спать.
Мы провели полтора дня, разглядывая Рембрандтов и позолоту Эрмитажа, торопливо пересекая замерзшие каналы («Вот уж не думала, что будет так холодно», – все повторяла, точно слабоумная, мама), заглядывая в желтые, негостеприимные петербургские дворы с их дрожащими кошками и грудами смерзшегося мусора. Заглядывали мы, как положено, и в соборы, осажденные, все до единого, нищими – спившимися, изувеченными солдатами; пьяницами, солдат изображавшими; настоящими, не изувеченными пока новобранцами, работавшими, как мне представлялось, на улицах, чтобы добыть своим командирам деньги на попойки. Сами же соборы заполнялись иконами, запахом ладана, скорбными женщинами в платочках и мглой древних предрассудков. В них все дышало старинным, вызывающим быстрое привыкание наркотиком, крэком для души, которым поторговывает Русская православная церковь, – мыслью о том, что и в этой жестокой стране жизнь может быть прекрасной.
Я рассказывал матери о моей работе, о Паоло, немножко о Казаке, но, когда попытался объяснить, что такое «Народнефть» и как финансируется наш проект, она заскучала, ей стало неинтересно. Мать говорила о тревоге, которую внушает ей отец, – не здоровье его, пояснила она, вернее, не только здоровье. А потом принялась рассказывать об их с отцом детстве. Его отец, сказала она, после войны уволился из флота, но всегда казался погруженным в какие-то свои мысли, словно отсутствующим, – мама полагала, что этим и объясняется отчужденность, существующая между моим отцом и его детьми. В подробности она вдаваться не стала, а я не стал их выспрашивать. Так мы и провели тот уик-энд: начиная разговоры, которые могли сделать нас людьми более близкими, доверяющими друг дружке, и обрывая их на самом пороге этих новых для нас отношений. И еще она почему-то часто возвращалась к очень холодному отпуску, который ее родители провели в пятидесятых в Уэльсе, взяв с собой и ее; рассказывала, как ее отец, железнодорожник, я его никогда не видел, потащил их на пикник в самый разгар грозы с градом. Шел снег. Большие очки мамы то и дело запотевали. И сапоги на ней были совершенно никудышные.
Вдали светился у реки Зимний дворец, обращенный рано садившимся солнцем в розоватую галлюцинацию. Бронзового Всадника явно одолевала перхоть. Я остановился у киоска и купил для Татьяны Владимировны отдающий глупой сентиментальностью стеклянный шарик, внутри которого порхали вокруг миниатюрного Исаакиевского собора снежинки. Странно, я, похоже, скучал по ней.
– Это подарок, – пояснил я. – Для одной моей знакомой.
– Понятно, – сказала мама.
Мы шли, оскальзываясь на льду, вдоль замерзшего канала, она искоса поглядывала на меня. Я понимал, ей хотелось внушить мне этими взглядами какую-то серьезную, взрослую мысль, однако сформулировать ее матери не удавалось, и она отводила глаза в сторону.
– Да нет, – наконец сказал я, – ее зовут Татьяна Владимировна, когда-то давно она жила в Петербурге.
– А.
– Она – тетушка Маши.
– Маша… это та, что звонила тебе на Рождество?
– Да.
– Ага. Хорошо.
Мы приближались к Невскому. Стоял мороз, около минус десяти. Мне всегда казалось, что к марту зима становится злее, потому что конец ее уже виден и ты отчаянно жаждешь его, – вот так же солдатам становится под конец войны все страшнее.
– Хорошо, что ты познакомился с ее родными.
Полагаю, она таким образом попыталась выяснить, насколько у нас все серьезно.
– Пока только с ее сестрой, – ответил я. – Двоюродной. И с тетушкой. Тетушка живет в Москве не очень далеко от меня. Пару дней назад она угощала нас блинами.
– Очень мило, – сказала мать. – Чудесно. Блины.
Думаю, она меня ревновала – Розмари ревновала меня к Татьяне Владимировне. И думаю, причины для ревности у нее имелись. За последние несколько месяцев я провел со старушкой больше времени, чем с матерью за последние четыре года. И это означало, что только одна из них видела, во что я превращаюсь. Слава богу, я их не познакомил.
В Москву мы поехали поездом, который отходил после полудня и добирался до столицы за пять часов. У петербургского вокзала стояла старуха в дождевике, баюкавшая на руках окоченевшую собачонку. «Ленинград – город-герой», – сообщали большие буквы, закрепленные на крыше возвышавшегося напротив вокзала дома. В поезде мы молча смотрели на скользившие за окном замерзшие болота, на деревья, еще стоявшие и недавно срубленные, лежавшие на песчанистой почве обледенелых просек. В вагоне пахло дагестанским коньяком, то и дело звучали разноголосые звонки мобильных телефонов. Появилась официантка с тележкой. Когда я попросил пива и стакан газированной воды, она сказала: «Вы шутите?» – после чего смотрела мне в глаза до тех пор, пока я не купил у нее коньяк. В главном зале московского вокзала толклась у статуи Ленина половина, как мне представилось, человеческих обломков погибшей империи.
Мы взяли такси, поехали к моему дому. «Очень уютно», – сказала мама, оглядываясь с порога. Сойти с него она не решалась – вдруг у меня тут опиумный притон или оборудована посреди гостиной садо-мазохистская камера пыток. Ну, мама уже не раз приезжала к нам, и ты знаешь, какова она: старательно притворяется, что все в порядке, но, когда на нее не смотрят, оценивает все, что видит, мысленно переставляет мебель, безмолвно стараясь придать моему жилищу большее сходство с семейным очагом. И у меня появляется чувство, что продолжаться это будет всегда.
Час спустя мы отправились на встречу с Машей в кафе «Пушкин» – очень дорогое, отделанное под боярский дворец заведение, расположенное на бульваре по пути от моего дома к площади Пушкина.
Теперь я думаю, что Маше было стыдно за то, как она вела себя в тот вечер. Надеюсь, способность испытывать стыд у нее все-таки сохранилась. Я не сказал бы, что она была груба, – просто осторожна и очень немногословна, такой я ее прежде не видел. Одета она была в черные, заправленные в сапожки джинсы и черный свитер, почти не накрашена. В общем, выглядела так, точно собирается, покинув кафе, ограбить банк или отправиться в театр монтировать декорации. Наряд ее словно говорил: «На самом деле меня здесь нет».
– Николас рассказывал, что вы работаете в магазине, – сказала мама поверх тарелки с борщом, который здесь варили специально для туристов.
– Да, – ответила Маша. – В магазине, который торгует мобильными телефонами. И тарифными планами.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.