Текст книги "Против неба на земле"
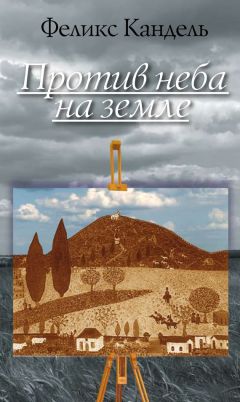
Автор книги: Феликс Кандель
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
14
Сон ушел. На часах ночь. Дверь на балкон открыта, ветер с Соленого моря – вкрадчивый и тревожащий – надувает комнату к полету. Ежик-полуночник бродит по балкону, вынюхивая необследованные пространства. Факелом горит пальма – прихоть неуловимого пиромана. Мухи выдают нынешних повстанцев. Рука тянется на другую половину постели, но там лишь прохлада несмятой простыни.
Шпильман не спит до рассвета и ранним утром бежит на берег, чтобы смыть пелену беспокойства. Серые облака зависают над головой. Прохлада у воды, что удивительно после вечерней жары. Голуби с воробьями – где их нет? – грудью кидаются на невидную пищу: кому крошка со стола, а кому обед. Прохаживаются угольные птицы, словно выточенные из черного дерева, старожилами посреди пришельцев, взлетая, выказывают светлоту оперения. Плавающий поодаль располагается на прежнем месте, будто не уходил с вечера для продолжения разговора:
– Сидел в самолете меж двух женщин, размерами поражающих воображение. «Застегните ремни!» – сказали. «Мне мал», – призналась соседка у окна. «Мне тоже», – соседка у прохода. Принесли ремни, нарастили по талии, и я полетел в новую жизнь. Как в отдельном купе. Бюст слева и бюст справа.
Шпильман улыбается. Он улыбается тоже:
– Переезд, как удар по чувствам. Звук, цвет, свет, камень, камень, камень – разгул ощущений… Приехал – затерялся на улицах; языка не знал, ни единого слова, голоса вокруг, словно пение птиц в лесу.
– А теперь?
– Теперь лучше. Внуки – мои учителя… Усаживаемся на полу, отхлопываем в ладоши, запеваем дружно про царя-дурака: «Ахат, штаим, шалош, ани Ахашверош…»
Пауза.
– В их годы я пел в хоре: «Когда был Ленин маленький, с кудрявой головой…»
Проявляется солнце, низкое, смытое, в зыбких очертаниях. Туристов гонят по берегу – насытить оплаченное любопытство. Вода в море послойная, поверху охолодавшая за ночь, понизу сохранившая прогретость. Горы за морем – их не видно. Горы этой стороны просвечены до последней складочки. Плавающий поодаль говорит:
– В том краю, откуда я приехал, жизнь шла медленно, а здесь проскакивает быстро. Что несправедливо. В том краю, откуда я приехал, было спокойнее за эту землю…
15
А угрюмый недоросток с непроявленными половыми признаками, затюканный сверстниками за мужскую свою никчемность, уже входит под тайные своды, где заготовлен взрывной заряд и обещаны ему семьдесят две девственницы в просвечивающих шальварах – одна за одной, одна слаще другой, ожидающие на Небесах его скорого и шумного появления, чтобы удовлетворить самые буйные подростковые фантазии…
Часть четвертая. Скорые печали
1
После завтрака подкатывает автобус, и водворяются новые постояльцы, общее привлекая внимание.
Издавна больные, калечные от рождения, со многими телесными огорчениями – не приведи Господь! Губа отвалена. Кисть подвернута. Спина согнута. Порча внутри не видная. Нога с ногой вразнобой. Бродят по коридорам, заглядывают в бар и в массажные кабинеты, встревоженные, говорливые, улыбчивые, словно вынуты из квартир-раковин, из долгого своего затворничества, чтобы подсластили их горечь, – перекрикиваются друг с другом:
– Ты уже переоделся?..
– Ты уже искупался?..
– Кофе с пирогом, – ты уже попил?..
После кофе они танцуют. Те, которые могут. Которые не могут, топчутся на месте в мучительной неуклюжести движений, продираясь через накопленную застенчивость, не в лад с музыкой, с немощными своими телами. Но им нравится, им это нравится: когда музыка умолкает, танцуют без музыки.
Один – бедный, должно быть, разумом – бродит неприкаянно из угла в угол, морщится и постанывает в тоске по исцелителю. Другая – подслеповатая, непомерно вздутая на стороны – взглядывает из глубин дивана тихой страдалицей, которую выдают глаза. Задумчивый мужчина – самый из всех калечный – вкатывается на коляске в кабину, взмывает на лифте под крышу, видимый через прозрачное ограждение, опускается затем вниз, чтобы снова взлететь наверх и насладиться полетом, которого недостает. Строго, в одиночестве, ибо в кабине никому больше не поместиться. И вдруг слезы его проливные, голос задавленный, как прорвало плотину отстоявшегося страдания:
– Мамеле… Тателе… Зейделе… Как вы со мной намучились! За что, ну за что?! Мамеле, тателе…
К нему бегут. Его утешают…
Молодая пара гуляет возле бассейна: влюбленность видна с расстояния – не утаить. Ноги у нее слабы. Голова у него велика. Она двигается нестойко, с видимым усилием, робко ему улыбаясь, а он забегает вперед на десяток шагов, поворачивается, радостно шагает навстречу, задыхаясь от избытка ощущений. И снова забегает вперед, чтобы вновь и вновь приблизиться, притронуться, промычать мало различимое. Но она понимает, она его понимает… Потом девушка исчезает ненадолго по неотложной надобности, а он бродит меж танцующих, лучится счастьем, как призывает порадоваться за компанию, – слюнка скатывается на подбородок. Девушка возвращается, принарядившись, шарфик у нее на шее, браслет на руке, и он бежит навстречу, чтобы притронуться и промычать свое.
Живущий поодаль разглядывает влюбленную пару, пристально, неотрывно, затем уходит по лестнице в свой номер. Неспешно. Ступенька за ступенькой. Опустив голову в глубокой задумчивости. Грустно ему, неукладисто, тоска обвисла на плечах – не снести в верхние этажи. «Неприютный ты человек, – скажет Корифей, уловив настроение своего хозяина. – Нашел кому завидовать». – «Много ты понимаешь…» – скажет в ответ. Конверт, поспешно надорванный. Бумага посеклась на сгибах от частого прочтения. Буквы затерты, слова неотличимы – в памяти записаны те слова:
«Здравствуй, мой дорогой! Через границы – здравствуй!
Сколько зим прошло – не привыкну к тому, что нет тебя в этом городе. Как так нет? Всегда тут был. С кем же варили в холода глинтвейн, приправленный гвоздикой и апельсиновыми дольками, с кем слушали Надежду Андреевну: „На заре туманной юности всей душой любил я милую…“, с кем зажигали свечу в заветной комнате – в разливе чувств, властелинами мгновений, когда время ускользало не по правилам, дымком пахучей лаванды, словно отнимали его за наши грехи? И кто сказал, не ты ли: „Нам предстоит долгое знакомство. Может, на всю жизнь…“? Без тебя и весны не стало, одна кругом осень, подмораживает к старости в невостребованном существовании. Мертвого бы оплакала, но самое невозможное: ты жив – и не дотянуться. Всякий раз, как проезжаю мимо того дома, непременно гляжу на балкон, навсегда для меня опустевший, – с тобой было не скучно в ожидании крохотных неожиданностей, с тобой было радостно…
Вот тебе к размышлению, из книжных разысканий. Жил в некие времена князь Василий, о котором сказано в хрониках: „Зрячим был ничтожен. Ослепнув, стал тверд, умен, решителен“. Так и я: ослепла с твоим отъездом, поневоле обретя внутреннее зрение, – не держала этого за собой. Отглядела, отслушала, отдышала свой срок: день клонится к вечеру, а глаза не сыты. Душа моя – мой колокольчик – пытается исторгнуть легкое, заливистое, в потребности сердца – дзынь-зынь, исходит тусклое, жестяное – бряк-бряк…»
2
Могут поинтересоваться при случае – к тому стоит подготовиться:
– Кто ты таков?
– Живущий своим усмотрением.
– А точнее?
Ответит неспешно и обстоятельно:
– Бывали у нас сочинители, что сохранились в памяти не именем – названиями своих работ. Зовите меня Срубленный зимой. Зовите – Геронтолог, которого не стало, и разместите в коридоре, между цирком и крематорием. Пусть буду для вас Блаженный гиперборей. Великан Великанович Самотрясов, свесивший ноги со Среднерусской возвышенности. Охотник, которому не добежать до источника…
Деловой человек сказал: «В семье должны быть врач и адвокат. Тогда всем хорошо. А писатель семье не нужен». Мудрая женщина определила: «Ты не звонкий. Они звонкие, а ты – нет. Многого не добьешься. Где бы ни оказался». Живущий поодаль не гонялся за излишним, а оттого мало чего добился. Кроме неустойчивого покоя. И подступов к подступам разумения. Очень поздно мы приближаемся к пониманию, слишком поздно с нашим калечным прошлым; розовеем бочком к дальним семидесяти или не розовеем вообще – вечная от нас оскомина. Нет, совсем недаром жизнь проходит даром…
Добрая фея наколдовала – бархоткой по сердцу:
– Обещаю тебе великое благо: распоряжаться собственным временем. Не трать его попусту.
Злая фея добавила – наждаком по ране:
– Обещаю великие сомнения: что считать попусту, а что не попусту.
Пакостно хихикнула на отлете.
Он выходил из дома в тот утренний час, когда тротуары заметно пустели, а те, кто спозаранку спешил на работу, уже находились на своих местах и занимались привычным делом. Он выходил на промысел с сачком в руке и отлавливал слова, произнесенные пешеходами на улицах. Они еще жили, эти слова, порхали в воздухе недолгое время, и следовало поторопиться, ибо сказанное умирало, опустившись на землю, затоптанное ногами, задушенное выхлопными газами, сгинувшее от омерзения на затертом шинами маслянистом асфальте. В жаркие дни, после тяжких и душных ночей, воздух тяжелел, глух и неодолим, загаженный дурными испарениями, и слова уже не порхали – тушками опадали на асфальт, как падают с высоты бездыханные птицы, у которых в полете остановилось сердце.
Вечерами он тоже выходил на отлов по площадям, переулкам, проходным дворам, мимо ларьков, где по горло наливались неохлажденным пивом и произносили между глотками редкие значительные слова. Бродил и по парку, ночью, в темноте, отлавливал сказанное шепотом, в истоме, в промежутках между поцелуями, в стоне наслаждения – самые нужные, самые истинные слова-междометия.
Обойдя места ежедневной охоты, он возвращался домой и просеивал очередной улов, отметая расхожие, затрапезные слова, которые не доставляли радости. Стоящего попадалось мало, очень мало, но это его не смущало. Бабочек тоже отлавливают сотнями, чтобы досталась наконец невозможная красавица с бархатным брюшком, выстраданная, желанная, а то и такая, которую назовут твоим именем. Предел мечтаний – слово твоего имени. Живущий поодаль. Мимоезжий и Мимохожий. Грустный сочинитель, вызывающий беспокойство у других.
Беднела речь, отмирали слова, «по древности фасона ныне не употребляемые», усыхали невостребованными, не находя понимания, костенели, теряя привлекательность, закатывались в щели памяти, заталкивались в словари на пожизненное забвение, заменялись калеками, созданными неряшливым воображением. А он всё бегал и бегал с сачком в руке, Предпочитатель бесполезного, чтобы отловить, уберечь, возвратить из небытия – то, что удастся возвратить.
– Отношение к слову на старости, как отношение к внукам. Больше нежности, больше печали на уходе, а оттого и красивостей на строке. Подступает старческое Болдино…
Роились вокруг сочинители – тщеславие всё выело, одна шкурка осталась, малой ложью перекрывали большую лжу, уговаривали себя, догрызая костяшки пальцев: «Еще напишу главную свою книгу…» Как женщина, которая бы сказала: «Еще рожу главного своего ребенка…» А он жил поодаль. Всегда поодаль, уединившись и уклонившись. «Любите меня на расстоянии или не любите совсем. И не берите в попутчики, не надо. Ничего хорошего из этого не выйдет». Не прибивался к стае, чтобы стать своим. Не залезал в обойму в затылок к более достойным. Не тасовался в колоде с ее чинопочитанием – тузы, короли, шестерки. Когда болел, залегал надолго под одеялом, не откликаясь на зов, как собака залегает в кустах, чуя приближение конца. Отключал телефон по утрам, чтобы проникнуть в молчание, освоиться в его просторах, к вечеру включал заново. Потом и вечерами не включал, и опустилось на дом уединение – горькой свободой.
– Окапываемся, – говорил коту. – По полному профилю. Чем глубже ныряешь, тем реже хочется выныривать. К чему бы это?..
Звонок не звонил. Гость не захаживал. Почтальон не беспокоил. Паук заплетал подходы к нему. Одиночество навалилось поверху – не стряхнуть, и лишь ночами, на прогулке, после добычливого дня, проведенного за столом, удачный поворот сюжета выпрямлял ненадолго спину, нежданная фраза укрепляла поступь. Осенью заготавливал карандаши, бумагу, ленты для пишущей машинки, как иные запасают картошку, кислую капусту, постное масло: «Перезимуем…» Что он там делал, Горестный сочинитель, в добровольном своем заточении? Какие познавал секреты, допущенный во врата букв, в хранилища слов? Это беспокоило и раздражало искательных льстецов, изощренных подражателей, к вечеру нетрезвых, пугливых насмешников и дотошных дознавателей, привязчивых, как союз «и», от которого не избавиться; это вызывало ревнивые наскоки завистников, которых он притягивал, отторгая, – лишний повод к уединению. Корифей щурил глаз, словно оценивал своего хозяина и убеждался в неотвратимом: «Тех, которые тебя любят, можно разместить в одной телефонной будке. Даже поместится тот, кто тебя терпеть не может».
Робок и застенчив от рождения, в свитера уходил, как в убежища, жизнь провел в свитерах из шерстяных скрученных нитей, а оттого волю давал выдуманным созданиям, радуясь их поступкам и завидуя; оттого и в сочинители пошел – золотописцем по бумаге, чтобы прожить в вымыслах иными судьбами. «В поте пишущий, в поте пашущий…» Ставил в вазу блекло-лимонную розу, ароматом скрашивающую молчание, говорил Корифею:
– Желаю вдаль. На остров Тристан-да-Кунья. На краю Атлантики. Где мало жителей. Новостей никаких. Редкие пароходы. Неспешные радости.
Туда, конечно, туда, где не подпитывают желчь горечью, книгу невзгод держат закрытой под переплетом с застежкой, не перелистывая до бесконечности, чтобы всласть себя пожалеть; туда, где высматривают проблески в сниклые, сутулые времена, – это, конечно, труднее, но это того стоит.
– Хочу оставить после себя «Книгу ликований» – эхом давних ощущений. Чтобы сочинялась она небыстро и читалась неспешно, по глотку в день. Есть книги, которые заслуживают того, чтобы их читали неспешно…
Долгими осенними вечерами, когда томление становилось невыносимым, он неумело напрашивался в гости, но потомившись и там считанные минуты, вскакивал вдруг всем на удивление, под выдуманным предлогом бежал прочь, кляня свою неуживчивость. Они обижались, хозяева дома, наговаривали излишнее за его спиной, и только кот утешал своего кормильца: «Попадаются, однако, некоторые, что принимают тебя без обиды, но таких мало, очень мало. Точнее, одна». А он отвечал на это:
– Всё равно мы их победим… Они не пройдут! Не пройдут, нет-нет!
Корифей откликался постукиванием хвоста по паркету: «Куда им…»
Было вяло, недвижно, тускловато – лампочкой придушенного накала, ряской на заглохшем пруду, в глубинах которого сильный неспешно пожирал слабого, но подступили иные времена, хмельная дозволенность, судороги великого передела, нежданные промыслы: огляделся – они снова тут. Шныристые. Всеразмерные. Непромокаемо-непотопляемые. «Вы это по принуждению? Или?..» – «Или, – отвечали с охотой, подсчитывая количество печатных знаков. – Мы – или».
Бегал с сачком по старой привычке, увертывался от невозможных звуков, но слепились воедино буквы, блеснули отточенным «з», словно пугающим лезвием в глубинах подворотни; «пре-зз-зентация» поползла по асфальту мохнатой гусеницей, оставляя липучую строку, убегали в страхе слабонервные эстеты, а он кричал яростно, беззвучно: «Не по сюжету живете, не по сюжету!..» И подал заявление на выезд. Приходили сочинители, спрашивали: «Чего вдруг?» Отвечал: «Долго объяснять. И сложно». – «А в двух словах?» – «В двух словах: не легло». Он беспокоил их своим присутствием, отвлекал и раздражал – черной мушкой в глазу: «Хоть бы скорее уехал…» Он уехал. Его провожали. «Мы-то без тебя обойдемся, – сказали с облегчением. – Обойдись ты без нас». Но хорошо им не стало…
3
Они лежат покойно на спинах, словно в больших надежных ладонях, взглядывают с интересом на этот мир. Отсюда, с нижней точки, со дна самого глубокого провала всё должно выглядеть внушительным на земле вожделения, всё великаньим, – если бы так!
Дело к вечеру. Солнце уходит за горы, утягивая за собой окрас горьких вод. Оступает прожитый день, как удаляются клином, в вышине, на неспешных маховых крыльях величавые отлетные птицы. Подступают сумерки, как подступает печаль. Вода покоит и расслабляет, нагоняя сон. Плавающий поодаль говорит мечтательно:
– Кажется, я куда-то не успел. Начинал наравне со всеми, все успели, а я нет… Какое блаженство!
Напевает недоступное пониманию:
– На пенсию вышел, сознанья уж нет. А может, и не было вовсе…
Прокручивается на спине, чтобы разглядеть тот берег, затаившийся в ожидании, громоздкость засушливых пустот, теснины накопленных обид. Жизнь проходит в тени той стороны, узлы ненависти не распутать, хоть ужмись в иные, непоместительные границы; налетит из пустыни беда, дохнет жаром, прольется на головы сухими струями – осыпью стрекозиных крыльев, утянет в неопробованные времена.
– Мы не любим, когда нас убивают. Они не любят, если убивают их. Так должно быть. Но почему они танцуют от радости и раздают сладости, когда мы хороним своих? Почему мы не танцуем?..
Джип с солдатами сворачивает с грунтовой патрульной дороги, катит неспешно по кромке воды. Едут давно и издалека: серые, пыльные, будто старческие, лица, пропотелые гимнастерки, ветром иссеченные глаза. Оглядывают купающихся, задерживают взгляд на неприкрытых женских прелестях: «pearl blue… hot pink… warm nude…», облизывают пересохшие губы.
– Старик Аш-два-о, обучавший нас химии, выписывал в тетрадь мудрые изречения и в конце урока зачитывал в классе – поводом к размышлению: «То, что мы называем счастием, есть не что иное, как кратковременное отсутствие горестей». А мы веселились, дуралеи с дурандуями, к его огорчению.
Шпильман тоже прокручивается на спине:
– У нас для этого был Шпиц, учитель математики. Он говорил: «Мы с вами в потугах выживания. Весь мир в потугах, даже шалопай Шпильман». А мы, раззеваи с разболтаями, его не слушали.
– Шпильман – это кто?
– Шпильман – это я.
– Я тоже Шпильман, – сообщает Плавающий поодаль. – На каком предке разошлись наши пути? Фишель бен Аврум? Герш бен Фишель?
Шпильман подхватывает:
– Шолем бен Герш? Ушер бен Шолем?..
Ощущение родства, душевной близости – не подтвердить документами.
– Отец с матерью здесь? – интересуется Шпильман.
– Отец с матерью там. Сиротами посреди усопших – некому теперь навещать…
…родители, пуганые наши родители, унесли с собой тайну, не доверившись даже детям. Кого заклеймили. Когда промолчали. Как передрожали свой срок. Довелось ли и им одобрять, пригвождать, подписывать доносы и чистосердечные признания? «Они требовали для себя лишь ничтожной доли свободы, – выписывал Аш-два-о в пухлую свою тетрадь, – а именно права не говорить ничего…» Бедные наши родители, которых лишили доступа к детям, незамеченные люди неотмеченного поколения; жизнь прошла по заданной траектории, в запрете на толкования: «О чем говорить, когда не о чем говорить…»
Прошлое не нуждается в оправданиях.
– Кстати, где ваш кот?
– Вы знакомы с моим котом?
– Издалека.
– Кот здесь. В номере. А где ежик?
– Тоже в номере.
– Надо бы их представить друг другу.
Взревывает на стоянке автобус. С шипением отворяются двери. Выходят на берег ухоженные долгожители, на каждом красная шапочка с козырьком, чтобы не потерялся по дороге, на шапочках помечено «Tourclub» или «Clubtour» – с воды не разобрать. Неподалеку просеяли песок, обнаружили старинную монету с изображением Адриана, раскопали становище первобытного человека, который приезжал с семьей на отдых, – туда их и ведут.
Шагает гуськом заокеанский дом престарелых, выражением на лицах оповещает в молчании:
– Моя фамилия Мунес. Восемьдесят с хвостиком. Что у меня впереди? Одни только удачи. Что у других? Одни неприятности…
– Моя фамилия Санценбахер. Тот самый, девяносто без малого. Ненавязчивые речи. Очаровательные любезности. Добился всего, чего пожелал. Чего не желал, того не добивался…
– Берлимбе, Залман Берлимбе – редкая фамилия, да я и сам не часто встречаюсь. Ловок, уклончив, в меру пакостлив. Характер содержит противоречия, чем и выделяюсь среди прочих…
– Шмольц, мое почтение! Розалия Шмольц. А это мой муж – от людей стыдно. Шмольц он и есть Шмольц: что на работе, что в постели. Зачем он мне? Зачем я ему? Спросите что-нибудь попроще…
Позади всех везут инвалидную коляску. Разместилась под пледом улыбчивая, отмытая до белизны старушка, букельки из-под шапочки:
– Фамилия выпала из памяти. Имя выпало. Год и место рождения. Количество правнуков. Помню лишь номер счета – 137FR-1/283756-VLG…
Сбиваются в кучку на берегу, выказывая в объектив фарфоровые зубы, увековечивают себя на фоне соленых вод.
– Привет из Сочи, – комментирует тот, который поодаль. – Если вспомнишь – посмотри, а не вспомнишь – разорви.
Шпильман уже не просит разъяснений. Да и перевели бы ему, что тут можно понять?..
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































